Читать онлайн Сплав
- Автор: Ева Рейнер
- Жанр: Современная русская литература
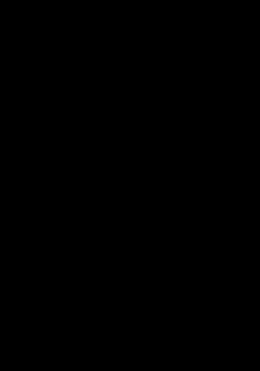
Часть I. Искра. Глава 1. Всё рушится
♪ Simple Plan – Welcome to My Life
Время тянется бесконечно. В классе душно.
История. Мистер Кингсли бродит у доски, монотонно читает что-то про Великую Депрессию с измятого листа, время от времени окидывая учеников суровым взглядом поверх очков. Часы на стене тикают – слишком мерно, слишком громко. Ручки шуршат по бумаге – а звучит как наждачка.
Алекс вертит в руках карандаш и трясёт ногой под партой. Не может сосредоточиться, не может усидеть, не может думать. Ему кажется, что он медленно сходит с ума – от того, как голос учителя усыпляет, от того, как тишина звенит в ушах, от того, какой же это всё бред. В тетради ни строчки конспекта – только каракули и рисунки: карикатура Кингсли с дымом из ушей, языки пламени, хаотичные, угловатые граффити.
– Великая Депрессия, бла-бла-бла. Цены падают, бла-бла-бла. Хренова туча американцев остаётся без работы, бла-бла-бла. Ща от тоски умру, – бурчит он, встревая и бросая карандаш. – Уроки ваши – хуже депрессии, честное слово.
Кто-то из одноклассников прыскает, кто-то показывает «класс» – вместо поддержки, но Алексу достаточно и этого: он ухмыляется, смотрит с вызовом на закипающего историка.
– Вы, мистер Севилл, я гляжу, стали много себе позволять в последнее время, – делает он замечание. – Может, выйдете к доске и объясните материал за меня?
– А из класса можно выйти? – лыбится Алекс. Ему весело – наконец хоть что-то меняется в этом сонном аду. – А то ноги капец затекли.
– Ты, может, заткнёшься уже и тупо свалишь? – вдруг скалится ботан с задней парты.
– Мистер Райли, следите за языком! – взрывается учитель. Контроль утерян безвозвратно, Великая Депрессия оборачивается Великой Революцией, ученики переглядываются, шепчутся, возбуждаются.
– Повтори, чё сказал? – бычит Алекс. Ему хватает едва ли не сотой доли секунды, чтобы подорваться со стула и махнуть к задней парте. Он смотрит на одноклассника так, будто хочет испепелить на месте.
– Завали, – холодно повторяет Райли практически по слогам. Взгляда не избегает – наоборот, смотрит аккурат в синие пылающие глаза, остро, упрямо. – Задрал уже уроки срывать, слышь?
– Я щас тебя, нахуй, завалю!
В голове всё взрывается, бешенство бурлит потоком лавы, перекрывая и кислород, и способность соображать. Алекс хватает Райли за ворот отутюженного поло, рвёт на себя.
– Так, остановились оба! – подскочивший мистер Кингсли растаскивает их и впихивает каждому по записке. Потом указывает Алексу на дверь и несёт какую-то ахинею типа «вон из класса, больше я Вас терпеть не собираюсь, сообщаю директору и родителям».
Алекс не помнит, кому и что этот старый хрен собрался сообщать – когда он вылетает из класса, его трясёт; ему хочется закончить начатое. Втащить Райли так, чтоб мать родная не узнала. Чтоб он больше никогда, никогда, никогда не открыл свой поганый рот.
– Тупая история. Тупая школа. Тупое всё! – орёт Алекс и с грохотом захлопывает дверцу своего шкафчика – оставил открытым на перемене, забыл учебник. Голова вопит – вторит.
Он уходит в туалет и умывается холодной водой. Долго стоит, опираясь о керамику раковины – сжимает пальцы на бортике так, что костяшки белеют. Смотрит на себя в замызганное зеркало: влажная рыжая чёлка налипает на лоб, глаза дикие, тёмные. Шепчет: «ненавижу, блядь». Выходит, пиная носком кеда пластиковую дверь. Как будто это поможет успокоиться.
Он знает, что не поможет.
Он не считал, сколько раз в этом месяце его оставляли после уроков. Это – просто очередной раз, который он проведёт, играя в гляделки с дежурным учителем в «комнате для заключённых».
Звенит звонок, Алекс возвращается в класс за рюкзаком. Там одноклассники толпятся, учитель пытается перекричать гам – безуспешно. Он тихо сообщает проходящему мимо Райли сквозь зубы:
– Я тебе, сука, ещё набью ебало. Ты понял, блядь?
И направляется к своему месту, которое по-прежнему выглядит так, будто там взорвалась атомная бомба. Сгребает учебник и пустую тетрадь в рюкзак. Учитель, возникший у него за спиной, неожиданно требует – этим своим отвратительным, надменным тоном, таким, будто знает, что вот сейчас Александер Севилл в очередной раз провалится, и у него будет новый повод сказать «я же говорил!»:
– Конспект урока мне на стол.
– Не писал я никакой конспект, – огрызается Алекс, затравленно глядя через плечо.
Учитель хмыкает. Потом язвительно интересуется:
– И какая же на этот раз у вас, сударь, веская причина?
Алекс знает, что вот этот вот взгляд сверху вниз не обещает ему ничего хорошего. Он заебался. Ему насрать.
– Неинтересно. Скучно. Не мог сосредоточиться. Всё. – Отвечает честно, накидывает рюкзак на плечо и выходит из класса, оставляя мистера Кингсли наедине с его уязвлённой гордостью и бешенством.
– Тебя сегодня требуют в кабинет психолога. После того, как срок отсидишь, – сухо говорит одноклассница, уходя к лестнице. Алекс закатывает глаза.
В классе для наказаний время продолжает тянуться, часы продолжают стучать по всем нервным окончаниям сразу, только вот теперь тишина становится ещё более тяжёлой и давящей. Алексу хочется сунуть наушники в уши, но они вместе с телефоном покоятся на учительском столе. И дежурная учительница – мисс Оукли, кудрявая, худощавая биологичка в очочках – наблюдает за ним, как ястреб за добычей.
Он психует, рвёт листок. Качается на стуле, дёргает ногой. Разминает пальцы, задирает голову и пытается сосчитать плитки на потолке – занять себя хоть чем-нибудь, но сбивается. От отчаяния решает даже попробовать делать домашку по алгебре, но в голове всё прыгает, цифры разбегаются, он читает условие задачи уже пятый раз подряд – и всё равно нихрена не понимает.
Тишина звенит в ушах так, что это почти больно. Сердце колотится. Он закипает раньше, чем успевает осознать.
– Да как же достало! – швыряет учебник на пол, хватается за голову и покачивается на месте взад-вперёд. – Не получается, не могу! Как же вы все бесите!
– Алекс, – твёрдо произносит мисс Оукли.
– Что?! – орёт он в ответ, подскакивая на месте.
– Угомонись и подбери учебник с пола. Живо.
Алекс ненавидит, что приходится ей подчиняться. Рваным движением поднимает учебник и демонстративно громко кладёт на столешницу. Никак не может успокоиться – дышит часто, тяжело. В конце концов рявкает и роняет голову на парту.
Мисс Оукли счастлива – он хотя бы молчит.
«Тебя сегодня требуют в кабинет психолога». Алексу почти смешно становится оттого, что он там, кажется, самый частый и, по ходу, единственный посетитель. Любимый клиент, блядь.
Открывает дверь, просовывается в проём с видом «и снова здравствуйте, чё хотели?».
Мисс Харпер, школьный психолог, поднимает голову от записей и кивает ему:
– Проходи, Алекс.
И он проходит. Бросает наполовину расстёгнутый рюкзак на продавленный, протёртый низенький диванчик, в котором знает каждый чёртов шов, и плюхается рядом.
– Здравствуй. – Мисс Харпер мягко улыбается ему, но он только угукает вместо ответа. – Что ж, и вот мы снова здесь. Как ты думаешь, почему?
– Ну, типа… даже не знаю, – врёт он. Нога на полу трясётся, пальцы теребят расползающиеся нитки лямки рюкзака. Взгляд бегает по кабинету, будто пытается зацепиться за что-то. Цепляться не за что – он изучил это помещение вдоль и поперёк за те годы, что его таскают сюда.
Это было уже не просто помещение – это был его личный маленький ад. Ад, заставленный массивными пыльными шкафами с дурацкими книжками на полках – педагогика, общая психология, основы психотерапии. Какие-то старые выцветшие научные журналы с разваливающимися корешками, методички, папки, которые как будто уже лет десять никто не трогал. Тупой постер на стене – яркий, будто радуге подражает, с надписью «Ты справишься!». Другая стена вся увешана детскими рисунками – домики, солнышки, кривые человечки. На подоконнике какая-то хрень для совсем малышей – кубики, лабиринты, карточки с заданиями. Кабинет пахнет бумагой, застоявшимся чаем и безысходностью. Он уже бывал здесь. Раз сто. И за годы ничего не изменилось – вон только обои под потолком отваливаться начали да углы рабочего стола стали ещё более ободранными. Здесь, типа, должно быть уютно. Но нихрена. Показуха.
– Опять отвлекаешься, – аккуратно возвращают его в реальность. Алекс ненавидит этот голос.
– Норм всё. Тут я, – буркает он, скрещивая руки на груди. Сидит уже ногу на ногу, носок красного кеда дёргается.
– Мы с тобой здесь, потому что учителя жалуются, что ты не справляешься с нагрузкой. У тебя проблемы с концентрацией, ты срываешься на одноклассников, лезешь в драки. – Мисс Харпер перебирает файлы в его толстенном досье у себя на столе, вздыхает. – На прошлой неделе ты полез в конфликт в коридоре, в начале этой – в очередной раз пришёл без домашнего задания, а сегодня учитель истории снова был с жалобой на тебя.
Алекс смотрит на неё грозно, почти воинственно, и крепче цепляется пальцами за ткань красного худи.
– Потому что нефиг некоторым рот открывать, – рычит он. – Я не буду молчать, пока на меня гонят.
– Я понимаю, что ты пытаешься за себя постоять, – кивает психолог и делает какую-то пометку на бумаге. – Но если так продолжится…
– И чё тогда будет? – перебивает Алекс с горькой усмешкой. – Чё будет? Отчислят меня, блядь? Так и пусть отчисляют – всем легче!
– Пока никто не собирается тебя отчислять. Но ты на грани, Алекс. – Мисс Харпер закрывает досье и снова смотрит на него – очень, очень серьёзно, пытаясь дать понять, что это всё уже совсем не шутки. – Ты понимаешь, что с твоей историей и характером ни одна школа не согласится тебя принять, а учиться ещё почти два года?
– Срать я хотел на школу вашу, понятно?
Психолог потирает виски, игнорируя грубость, а потом продолжает:
– Мама говорила мне, что вот уже несколько месяцев как ты взял подработку и пытаешься жить отдельно – они с папой согласились снимать тебе жильё, правильно? И я знаю, что ты периодически забываешь про смены, опаздываешь или не выполняешь рабочие задачи должным образом. Я хочу сказать, что нам всем – мне, тебе, твоим родителям – стоит подумать о том, чтобы вернуться к медикаментозной поддержке. Это поможет тебе лучше себя контролировать – и на работе, и в школе.
Глаза у Алекса расширяются, как только она заканчивает произносить слово «медикаментозной». Он вцепляется ногтями в колено, кусает щеку до крови.
Его бесит эта заумная терминология. Он прекрасно знает, что это значит «будешь пить идиотские таблетки, которые сделают из тебя овоща, но зато мы тут всей школой вздохнём с облегчением».
– О-о-о, нет. Нет, нет и ещё раз нет! – Алекс вдруг переходит на крик, как будто в нём резко срывает предохранители, и поднимается с дивана так, что тот под ним издаёт жалобный, вымученный скрип. – Никаких, нахуй, таблеток! Я вам чё, подопытная крыса какая-то?! «Поддержка», блядь. – Он не успокаивается – начинает нервно метаться по кабинету, хвататься за голову. – Да в гробу я видел такую поддержку! Пьёшь это говно, а в голове каша, жрать не можешь, спать не можешь, блюёшь, бесит всё! Охуеть, блядь, поддержка! – он задыхается то ли от того, что слишком быстро говорит, то ли от возмущения. Ударяет кулаком о стену так, что в кабинете что-то звенит. – Вы думаете, что я ничего не помню? А я помню. Проходили уже. Два раза. И лучше уж я как-нибудь сам, нахуй мне не сдалась такая поддержка, ясно?! Это ад!
…Дети сидят на коврике в круге, воспитательница читает сказку. Алексу пять, и он не может сидеть – то ляжет, то вскочит, то пристанет к соседу.
– Алекс, золотце, – старается воспитательница мягко осадить, но получается как-то устало, – сядь, пожалуйста. Не мешай.
Алекс валится на ковёр, воет и долбит пятками по полу.
…Алексу семь, и он не справляется в школе – не пишет примеры, не может сидеть за партой, ходит по классу. Учитель влепляет очередную двойку, жалуется родителям. Дома – истерика над английским, отец орёт, мама плачет. Через неделю назначают таблетки «Страттеры» – он рыдает, сопротивляется.
«Это поможет тебе на уроках», убеждают родители. Не помогает – он то засыпает за партой, то лезет в драки без разбору, то не ест на ланче – «еда отвратительная». Дома его рвёт почти каждое утро. Вечером в голове словно гудит целый улей с пчёлами – спать хочется, а не получается. Он ревёт в объятиях у матери, жалуется. Таблетки отменяют.
…Ему двенадцать, и он ненавидит жизнь. Второй раунд таблеток – ведь «ты стал старше, что-то могло измениться». Ничего не меняется – он жутко недосыпает, теряет в весе, потому что его постоянно тошнит, по-прежнему не может сосредоточиться, взрывается на ровном месте. Бросает в одноклассника учебник, переворачивает парту.
Дома орёт на тетрадь по математике: «не могу, не получается, я тупой!». Дышит тяжело, глаза жжёт, хочется заплакать, но слёзы не идут. Мысли в голове галдят, разбегаются. Мама прижимает к себе, гладит по голове: «ты не тупой, это таблетки говорят в тебе». Терапию отменяют снова.
Вспоминать об этом стоит только тогда, когда хочешь нож в спину. И вот он случается – внеочередной нож в спину, которого никто не ждал и не просил, и Алексу противно в этом помещении, с этими людьми, в этом мире, блядь, ему противно – как будто он какой-то не такой. Как будто все ждут, что он будет «нормальным» – но он не будет.
– Алекс, успокойся, – пытается мисс Харпер его остудить. – Остановись и вдохни.
Но ничего не работает. Он хватает рюкзак с дивана. Уходит, зло бросая через плечо:
– Все мне говорят: «успокойся». Ага, как будто это так просто, когда в башке всё орёт. И знаете, что? – он вдруг смотрит на психолога, прямо в глаза, и рубит: – Пусть отчисляют. Мне похуй.
Дверь захлопывается, со стены падает рисунок.
Хочется перестать дышать всем назло.
Алекс выходит из школы, встряхивает руки и нацепляет шлем. Его ждёт продуктовый, и он уже затрахался, если честно, каждый день надеяться, что не проебётся, не подведёт и ничего не испортит хотя бы там.
В какой-то момент всё начинает стремительно катиться в жопу – это, кажется, единственное, что ему абсолютно понятно. Алекс не знает, не замечает, когда именно это происходит. Но это происходит – и нужно быть слепым, чтобы не заметить. Однако у него в настройках по умолчанию – «всё охуенно», и похуй, что охуенно на самом деле примерно ничего. Притворяться слепым так, чтобы все верили, что ты зряч – не так уж это и сложно. Он давным-давно научился.
Может быть, маховик пиздеца начинает раскручиваться в тот день, когда забывается пароль от Фэйсбука и уходит в небытие вся коллекция всратых мемов, служащих моральной поддержкой в особо тяжкие времена (а особо тяжкие времена у него теперь примерно, блядь, каждый день). Может, в то утро, когда до победного отрубается будильник со словами «ща, ща, не ори, ещё пять минут – и точно встаю». Пять минут превращаются в час, одно опоздание – в десять, а неделя работы без пиздюлей – в ноль.
Ноль смен он отработал, не получив хотя бы одного замечания от начальства.
Обычно их больше – больше, чем одно, и это… привычно, пусть и больно; обычно они не звучат так же, как тот бред, что проповедуют в школе: «можешь лучше», «не отвлекайся», «соберись».
Не успев явиться на смену, он уже отличился: разбил две бутылки дорогущего виски. Он не помнит, как это вышло – помнит только, что в одну секунду ужасно дрожали пальцы, в голове стоял туман, а в другую режущей, острой болью в ушах разлился звук бьющегося о кафель стекла.
– Совсем страх потерял?! Вычту это из твоей зарплаты! Что с тобой творится в последнее время? – грохотал в подсобке менеджер, отчитывая его. – Марш в зал. Я с тобой ещё поговорю. И чтобы все полки сегодня были расставлены как в аптеке, ты понял меня?
Захлопывая дверь, мистер Пайпер не узнает, каким недостойным жестом его проводили.
Алекс показывает шатающейся на скрипучих петлях почти-картонной дверке средний палец. В нос стойко бьёт запах виски, и ему кажется, что он хмелеет уже только потому что дышит. Джинсы покрыты расплывшимися пятнами брызг – свидетельство его грёбанной неосторожности.
Хочется уволиться со скандалом (и плевать, что от начала смены прошёл всего час); приходится – молча глотать обиду и сдерживать злость, пульсирующую по венам и обжигающую, по ощущениям, каждый ебучий сантиметр где-то под кожей. Как же он устал – как же он устал, блядь, сдерживать злость. Злость кричит, болит, пылает между рёбрами, ищет выхода. Алекс сцепляет зубы до боли и впечатывает в выцветшую штукатурку кулак. Костяшки пальцев ноют, наливаются красным. Он смотрит, разглядывает трещинки на коже, замечает, как одна начинает кровоточить. Так легче.
Ему хочется домой. Хочется бухать (но никто не продаст, поэтому вливать в себя энергетики до беспамятства, трясущихся пальцев и пульса под сотку остается единственной опцией). Хочется лечь на пол посреди магазина и устроить истерику, как будто ему шесть, а не шестнадцать. И, может быть, разбить ещё пару бутылок алкахи – просто так.
Сегодня Алекс проклинает тот день, когда решил, что его жопе слишком скучно живётся, а поэтому нужно взять подработку и свалить от родителей. Острых ощущений, понимаете ли, не хватало ему. Теперь чё, доволен? Хватает? Независимости захотелось, ага. Самостоятельности.
Смена идёт так паршиво, как будто всё против него: он путает ценники; пробивает один и тот же товар три раза подряд и чуть не срётся с бабкой на кассе; оставляет холодильник с молочкой открытым. Пытается разобрать коробку с томатным супом в банках, и вроде бы даже всё получается, пока мимо не проходит коллега и не бросает, будто бы невзначай:
– Хоть тут не навороти делов, окей? А то мне потом за тобой переделывать не хочется опять.
Алекс скидывает банку, которую только что достал, обратно в коробку; она с жестяным стуком ударяется о другие. Ноздри раздуваются от гнева, руки сами сжимаются в кулаки.
– Иди на хуй, понял? – шипит он. – Просто. Иди. На хуй.
– Ты не охуел так со старшими общаться, сопляк? – охреневает долговязый кучерявый парень двадцати шести лет, сверля его взглядом.
– Я, блядь, хотя бы пытаюсь работать. Я пытаюсь, блядь! Хули ты под руку мне пиздишь?! Своих дел нет?
Алекс поклялся бы, если бы мог, что честно хотел остановиться. Не остановился. Разорался. Менеджер прилетел разнимать.
– А ну-ка пойдём со мной, истеричка, – говорит он, хватая Алекса за локоть и утаскивая в подсобку. – Я обещал поговорить – вот щас и поговорим. Как мужик с мужиком, да?
Алекс успевает через плечо увидеть, как коллега посмеивается, провожая его глазами. И принимается разбирать брошенную коробку.
– Там… там коробка! Мне доделать надо! – кричит он уже не зло, а отчаянно. – Я пытался!
– Дел ещё полно, успеешь.
Мистер Пайпер снова вталкивает его в подсобку, закрывает дверь с громким скрипом. Помещение становится почти совсем тёмным – прямо пыточная какая-то. Алекс дышит тяжело, его разрывает, внутри шум стоит как от мотора – как будто он на байке гонит, только… в голове.
– Я тебя предупреждал, что выпишу штраф за разжигание скандалов в коллективе? – начинается сеанс экзекуции. – Я говорил, чтобы ты следил за языком? Говорил, чтобы внимательно за собой проверял всё? Говорил или нет, Алекс, отвечай! – менеджер рявкает, и Алекс не знает, хочется ему разреветься как беспомощная девчонка или врезать этому уроду промеж глаз.
– Говорил, – выплёвывает он в конце концов, прижимаясь спиной к стене. Скулы дёргаются, дышит рвано – как будто только что родился и не знает, как это делается.
– Тогда почему, чёрт тебя подери, ты продолжаешь в том же духе? – раздражённо спрашивает админ. – Скандалишь, орёшь, вечно что-нибудь забываешь – почему?
– Потому что… не знаю я, блядь, почему! – сердце стучит в горле, требуя справедливости, но вместо справедливости получается только крик. – Сложно всё помнить! Я пытаюсь, изо всех сил пытаюсь, разве вы все не видите?!
– Плохо пытаешься. Ты мне бизнес угробишь, малой, если так и будешь лажать. – Мистер Пайпер выдыхает, уходит к двери. Напоследок доносится: – Ещё одна такая выходка – и с работой можешь попрощаться, родакам так и скажи. А теперь иди и переставляй за собой ценники, с которыми накосячил. Банки Тони сам разберёт. Вперёд и с песней, скаут.
Когда админ выходит и оставляет его одного, Алекс рычит от фрустрации и колотит кулаками о стену. Потом пытается продышаться. И возвращается в зал, обиженный на весь мир.
Оставшиеся два часа он досиживает на похуй и мечтает поскорее отмыться от въевшегося уже во все рецепторы аромата сраного виски.
Вечером на улице зябко, влажно – мерзко, короче. Спасибо, что хоть джинсы успели просохнуть, пока слонялся по магазину и усердно изображал видимость работы.
Накидывает на голову капюшон потрёпанного любимого худака, затягивает под подбородком потуже и прячет руки в карманы. В одном из них находится забытая пустая зажигалка – хрен знает, откуда он ее достал, как давно и почему она пустая – курить он никогда не пробовал, но сейчас на это плевать; главное, что ее можно гонять между пальцами, щёлкать розжигом, перебирать грани – и не бояться спалить себя заживо. Вообще-то надо бы выбросить, но нет, не сегодня. Сегодня она ему ещё пригодится.
Он шагает к парковке – медленно, устало, заёбанно. Вертит зажигалку в руках и теряется – во времени, в пространстве, в себе. Мозг… что такое мозг? Ничего похожего у Алекса в голове нет; там только провода, провода, провода – и все под напряжением, все оголены. Голова гудит роем мыслей, которые никогда не заканчиваются, трещит по швам от истощения – эмоционального и физического. Алекс ненавидит это чувство, хочет заткнуть идиотский шум в башке и надевает шлем. Шарит по карманам в поисках ключей от байка – единственной, кажется, вещи, которая в этом ёбаном мире ещё держит его на плаву. Ключи находятся в заднем – фух, слава богу, хоть их не просрал. Красный Honda CBR встречает его ярким светом фар ровно на том же месте, где был оставлен – и это даёт маленькое ощущение контроля. Подходит, перекидывает ногу, устраивается в седле. Хорошо. Пиздец просто, как хорошо.
Мотоцикл был подарком ему от отца на шестнадцатилетие – с прошлого года он с ума сходил по этой теме, перекопал все форумы в интернете, едва ли не ночами мечтал о своем собственном – и постепенно подъедал бате мозг десертной ложкой: «подаришь? Хочу научиться!». Мать протестовала, уговаривала «не надо» – но не зря же в этой семье упёртых баранов два, а не один.
– Лучше я выдам ему ключи от этого зверя и научу управляться с ним, чем он увидит у кого-то из пацанов и решит сам попробовать, – говорил Эшли, оформляя покупку. – Ему надо куда-то девать энергию. Хочет экстрима – будет ему экстрим.
Алекс поворачивает ключ в зажигании. Байк с рёвом пробуждается к жизни, вибрирует словно в нетерпении. Какое же, блядь, это охренительное чувство.
Он газует резко, срывается с места, оставляя клубы пыли, а вместе с ними – как будто и все проблемы позади. Вылетает на дорогу, лавирует среди редких машин, почти забывает опустить визор – опоминается, когда встречный ветер начинает больно хлестать по лицу и резать глаза. Растворяется в шуме мотора, свисте ветра, огнях города и адреналине, клокочущем в теле – в каждом мускуле, в каждом крохотном сосуде. Смеётся, счастливый, и наконец-то чувствует, что живой. Что просто пацан, влюблённый в свободу, а не «проблемный ребёнок». Что в голове наконец тихо – и ничего не слышно, кроме того, как кровь шумит в ушах.
На перекрёстке он пролетает на жёлтый – чувствует бешеный азарт вместо испуга. Едет в плотном потоке – и хуй кладёт на каждого водилу, который осмеливается посигналить. Когда подрезают – ощетинивается, догоняет и перегоняет, вылетает перед самым носом и показывает фак в лобовуху. Мчит красной вспышкой, бороздит трассу, как катер море, и ни о чём не думает.
Просто живёт.
Вечером, разгребая почту впервые за две недели, Эшли натыкается на письмо с пометкой «Старшая школа Лос-Анджелес».
– Господи, ну что там опять? – выдыхает он и мысленно осеняет себя крестным знаменем, прежде чем открыть.
В папке обнаруживается документ следующего содержания:
«Тема: Поведение и академическая успеваемость Алекса
Уважаемые мистер и миссис Севилл,
Сегодня состоялась очередная беседа с вашим сыном. Вынуждена сообщить, что его академическая ситуация остаётся крайне напряжённой: он на грани отчисления. Учителя неоднократно отмечали низкую концентрацию, частые вспышки агрессии, несдержанность и нежелание следовать школьным правилам.
Особую тревогу вызывает его категорический отказ от любых форм помощи. Алекс крайне эмоционально реагирует на любые упоминания медикаментозной терапии. Он вспоминал предыдущий опыт приёма препаратов и описывал его как «ад»; реакция сопровождалась сильным всплеском гнева, вплоть до агрессивных жестов.
Я понимаю, что у семьи был сложный опыт с терапией в прошлом, однако сейчас ситуация выходит из-под контроля. В школе мы видим резкое ухудшение не только в учёбе, но и в поведении. Без внешнего вмешательства и комплексного подхода (включая, возможно, повторную консультацию у психиатра и пересмотр лекарственной терапии) шансы Алекса удержаться в школе минимальны.
С моей стороны я продолжу сопровождать его в рамках школьных возможностей, но этого недостаточно. Прошу вас рассмотреть вариант обращения в специализированный центр, где могут предложить современные схемы лечения и психотерапию, адаптированную под подростков.
Мы понимаем, что тема болезненная и вызывает у Алекса сильное сопротивление, но без системной поддержки ситуация может закончиться крайне неблагоприятно.
С уважением,
Алия Харпер
Школьный психолог».
Эшли бегает глазами по строчкам. «Отчисление». «Вспышки агрессии». «Ситуация может закончиться крайне неблагоприятно».
– Да сколько же можно, чёрт возьми?! – вспыхивает он и ударяет кулаком по столу. Бриана, напуганная, заглядывает в офис.
– Что случилось? – осторожно интересуется, опуская ладонь на плечо мужа.
– Вот, полюбуйся, – раздражается Эшли, уступая ей место. – И двух недель не прошло, а у нас опять какая-то канитель. Грозят отчислением.
– Господи помилуй, – охает Бриана, но письмо всё же читает.
Вечер они проводят, тревожно переглядываясь. Эшли клянётся, что «пойдёт и надерёт этому щенку задницу», названивает на телефон.
– Опять катается, видимо. Шкет, – бухтит он, когда в десятый раз слышит в трубке «абонент недоступен».
Крохотная съёмная квартирка в спальном районе предсказуемо встречает Алекса бардаком. Буквально в каждой комнате срач, но он предпочитает сделать вид, что на срач ему похуй – как много на что ещё. Наспех стаскивает с себя вещи, бросает прямо на пол, остаётся в одних трусах и падает на незаправленную кровать. Надо бы в душ, и сделать что-то пожрать, и хотя бы мусор вынести – но сил нет. Телефон ещё жив и держится на двадцати процентах, а значит – можно завернуться в безопасный кокон виртуального мира. Хотя бы на время. На то короткое время, пока позволяет аккум.
О том, что будет, когда телефон сдохнет и придется искать зарядку, он думать не хочет. Потому что… страшно. Неуютно.
Вот так вот он и живёт – не успевает в школе, лажает на работе, возвращается поздним вечером, а потом боится искать зарядку впотьмах. И не потому что бабайка укусит, а потому что хуй знает, куда он её дел, эту чёртову зарядку.
Весь последний месяц – сплошными провалами в памяти. Он забывает есть, он забывает пить, даже ссать периодически забывает. Он забывает про домашние задания, забывает про свои обязанности на работе – или помнит, старается помнить изо всех сил, но отвлекается: на «неровно» расставленные коробки с овсянкой, которую он терпеть не может; на бардак в подсобке; на то, что свет слишком яркий, звук слишком громкий, а люди слишком бесят. Он, в конце концов, забывает, куда кладёт зарядку, каждый раз, когда заряжает свой ёбаный телефон.
На учёбе пиздец, на работе пиздец.
На экране высвечивается:
Пропущенные вызовы: 10 (Папа)
Пропущенные вызовы: 4 (Мама)
– Да ёб вашу мать, а. – Алекс отбрасывает телефон.
Ну, классно. Теперь пиздец, очевидно, ещё и дома намечается.
Перезванивать он не спешит – знает, что ему будет разнос. Встаёт, слоняется по квартире – гремит банками в холодильнике в поисках еды. Дёргает коленкой и щёлкает выключателем в кухне, выжидая, пока запарится лапша быстрого приготовления. Ставит чайник – и исчезает в ванной, потому что внезапно становится «срочно». Потом залипает у зеркала, вертится, будто модель, и выскакивает, опомнившись: «плита, блядь!». Пытается собрать мусор – отвлекается на одежду. В конце концов устаёт, падает жопой на стул и вяло жуёт лапшу под тупые видосы.
Телефон внезапно разрывается новым звонком от отца.
– Да бля-я-я… – воет в потолок, но сбрасывает слайдер в сторону «ответить». – Да, пап. Чё такое?
– Ты ничего рассказать не хочешь? – начинает Эшли без всяких предварительных ласк типа «привет». – Про письмо там, например. Про отчисление. Про успеваемость.
– Не, не хочу. Я устал. – Алекс крутит вилку между пальцами, как будто всё нормально, но мышцы у него предательски напрягаются, переводя организм в режим «бей или беги».
– Ну так захоти! – отец орёт так, что Алекс отстраняется от телефона. – Мы с тобой уже говорили на эту тему, сын. Ты живёшь один до тех пор, пока справляешься на учёбе и на работе.
– Я справляюсь! – Алекс орёт тоже, швыряет вилку о стену. Дома бы его за такое уже распяли и похоронили за плинтусом.
– Нет, дорогой мой, ты не справляешься. У тебя тройки по всем предметам и тебя хотят выкинуть из школы, менеджер с работы пишет, что ты опять скандалишь и отвлекаешься – это ты называешь «справляться»?
– Блядь, я… – собирается он начать, но не успевает – отец осаживает тут же.
– Они снова предлагают терапию, потому что без таблеток ты ходячая катастрофа, которая нихрена в своей жизни не может проконтролировать. – Эшли звучит сурово. И измотанно одновременно.
Алекс бесится.
– Я не буду снова это говно жрать и выблёвывать свои кишки только потому, что вам так удобно! Всё, нахуй, я всё сказал! Разговор окончен!
Вешает трубку, бросает телефон на столе. Как торнадо мчится в спальню, падает на кровать и орёт в подушку.
– Да почему, блядь?! Почему так, нахуй?! – кричит, пока не выдохнется. Почему-то надеется, что сразу вырубится, но не выходит.
Сон не идёт. На часах за полночь, он ворочается, кряхтит, матерится – и ничего. Только думает, думает, думает и где-то между рейдами мыслей хочет прибить всех к чёртовой матери. Сердце долбится о рёбра как бешеное, он начинает забывать, как дышать. Перечитывает СМС-ку от матери:
От: Мама, 11:17
Подумай, ладно? Пожалуйста. Я переживаю за тебя. Я люблю тебя. Отец тоже любит, поэтому так ведёт себя. Время ещё есть. Пожалуйста, Алекс.
Гасит экран, потом опять включает. Копается в чатах. И решает набрать Кейт.
Они уже сто лет нормально не общались – реже пересекаются в школе, обсуждают домашку, а не приколы. Она по-прежнему на расстоянии вытянутой руки, но всё как будто… как-то не так. И тем не менее, ему кажется, что вот сейчас всё достаточно правильно (или достаточно плохо, хуй знает), чтобы наконец попытаться ещё раз.
Думает долго, стирает, набирает снова, опять стирает. В конце концов выдаёт:
От: Алекс, 12:18
Привет
От: Алекс, 12:19
Спишь?
Странно, но отвечает она довольно быстро:
От: Кейтлин, 12:20
Привет. Нет, а что случилось?
От: Алекс, 12:21
Да ничё
От: Алекс, 12:21
Просто… хуёво. Заебали меня все.
Он даже не знает, чего хочет добиться этими сообщениями – ему просто как будто нужен кто-то рядом. Или не рядом. Не обязательно рядом. Просто кто-то – кто не даст окончательно сойти с ума.
Кейт почему-то оказывается тем самым «кем-то».
От: Кейтлин, 12:24
Приеду?
Алекс сначала смотрит на этот её парад невиданной щедрости круглыми глазами. Хочет написать «да не, не надо», но пальцы сами набирают просто:
От: Алекс, 12:25
Да
От: Алекс, 12:26
И это, просьба есть – захвати зарядку. Я свою куда-то проебал
Она пишет «буду через двадцать минут», и это становится его мотивацией – он бегает по квартире, спотыкаясь и ворча ругательства под нос, но закидывает посудомойку, подбирает вещи с пола и выносит мусор прямо в трусах. Телефон всё-таки сдох, поэтому приходится работать горничной на минималках под треки в голове. Когда слышит, как под открытым окном его второго этажа разворачивается машина – впрыгивает в треники и напяливает мятую, но хотя бы чистую футболку.
Она звонит в дверь, и он встречает её взъерошенным, с сумасшедшими глазами и мыслью «фух, блядь, успел».
– Доброй ночи, – усмехается она, окидывая его взглядом с головы до ног. Проходит. – Ну и жесть у тебя тут, – заключает.
– Это я ещё убрался, пока ты ехала, – не без гордости сообщает он ей и вешает её ветровку на крючок в коридоре. Она сегодня в леггинсах и толстовке – одета не как обычно, но, видимо, просто отдала предпочтение комфорту – не каждый день её просят спереть машину матери и приехать посреди ночи.
– Ну так чего стряслось, выкладывай.
Кейт присаживается на край кровати, которую он так и не удосужился заправить, потому что решил «нахуя», и копается в сумке. Достаёт оттуда зарядку и травяной чай в пакетиках.
– Фу, блядь, опять своё зелье притащила, – кривится Алекс, но всё равно улыбается. Ловит зарядку, которую она кидает ему. – Спасибо. Всегда знал, что на тебя можно рассчитывать.
– Зато «зелье» отлично успокаивает пошаливающие нервишки вроде твоих, – деловито говорит Кейтлин, поправляя светлые волосы и уже суетясь с чайником и чашками. – Щас будем тебя отпаивать. Ну так что случилось? Просто все бесят и всё?
Алекс потирает шею, вздыхает.
– Да опять со своими таблетками сраными привязались. Типа я нихуя контролировать не могу. Типа я, блядь, болен башкой. Типа без них никак.
Кейт слушает внимательно, не перебивая, и помешивает чай.
– А я не хочу опять на таблетки, понимаешь? – голос у него ломается. Он садится за стол, подпирая голову рукой, и ковыряет ногтем скол на столешнице. – Я пробовал уже, когда мелкий был. Я тогда сам себе не принадлежал – тело будто не моё было. Не спал, орал, блевал, похудел пиздец как. Но они не понимают. Видимо, я им орущим зомбаком нравлюсь больше.
– Ну… – Кейт думает, как бы сказать так, чтобы не задеть, но решает, что пусть уж будет как есть: – Ты и без таблеток орёшь.
– Да, блядь. Но не так. – Алекс взъерошивает волосы, потом вдруг подрывается: – Сука, телефон. Забыл про телефон!
Пока он носится из комнаты в комнату, Кейт ставит ему кружку с чаем.
– Пей давай, – почти командует, когда он возвращается.
Алекс первый раз за этот отвратительно длинный день выбирает не спорить. Обхватывает кружку обеими руками, тут же шипит «ай, ёбаный в рот» – обжигается. Ставит обратно на стол. Отпивает осторожно.
Кейт смотрит на него. Долго. Наблюдает. Кто угодно уже сто пятьдесят раз закатил бы глаза, сделал бы замечание, прочитал бы лекцию про «нормальность». А ей… ей не хочется. Не хочется и всё – зато хочется улыбаться и в груди почему-то теплеет, когда она видит этот хаос. Как будто она единственная, кому «ок». Наверное, он это чувствует тоже, иначе не стал бы писать в такое время, да ещё и в таком состоянии – гордый больно, корона жмёт.
– Знаешь, – произносит Кейтлин задумчиво, отпивая, наконец, из своей кружки, – может, не всё так плохо. Даже… даже если с таблетками.
– А тебе-то откуда знать? – хмыкает Алекс, разваливаясь на стуле и подёргивая ногой. – У тебя с башкой всё прекрасно, не то что у меня.
– Я просто… не знаю, вдруг получится?
– Да не получится нихуя. Не заставите.
Алекс оборонительно, предупреждающе хмурится. Кейтлин серьёзнеет.
– Может, просто не твой препарат был. Сейчас всё другое – врачи, таблетки. Могут подобрать лучше.
– Мне насрать. – Алекс срывается на грубость, скрещивает руки на груди.
– Я в курсе. – Кейт сжимает губы в тонкую линию и греет ледяные пальцы о кружку. – Но всё равно – может помочь. Найдём врача нормального, сходишь на приём – дальше видно будет.
– Охренеть, и ты туда же. – Алекс отворачивается. Кейт понимает: обиделся. Но всё равно продолжает:
– Я не «туда же». Я просто не хочу видеть, как ты однажды перегоришь.
Она встаёт и подходит к нему, становится сбоку. Не трогает, не прикасается даже кончиками пальцев – просто стоит. Достаточно близко, чтобы он чувствовал.
– Ты не ненормальный и не больной. Ты просто устал и немного потерялся, понимаешь? Ты очень красиво горишь. И я не хочу видеть, как ты сгораешь.
Алекс слушает её, выводя подушечками пальцев узоры на кружке. Тяжело, шумно выдыхает.
– Пиздец. Ладно. – Он почти взлетает со стула – тот со скрипом царапает ножками пол. – Ладно, блядь! Хорошо! Заебали. Запишусь, и пойду, и… и на таблетки сяду! Лишь бы, сука, не приставали!
Он выбегает из кухни, валится на кровать, держится за голову. Внутри трепещет обида. Детская, старая, сильная обида.
«Ты – проблема. Тебя надо исправлять», – звучит в голове неизвестно чьим голосом.
Кейт встаёт в проходе, облокотившись на дверной косяк.
– Просто подумай об этом. Больше ничего. – И заверяет: – Если будет нужна помощь – ты знаешь, где меня найти.
Алекс с минуту молчит, будто борется с собой. А потом вдруг смотрит на неё с мольбой и отчаянием.
– Не уходи, ладно?.. – произносит еле слышно. – Останься. Хотя бы… пока не усну.
Он ищет её глаза. Боится наткнуться на леденящий холод в голубых радужках. Раздражает сам себя внезапной беспомощностью. Всё внутри него ждёт, что она сделает точно так же, как делают многие: накричит и уйдёт.
Но она только улыбается:
– Ладно, гонщик.
И остаётся.
Глава 2. Белые стены
♪ Nothing But Thieves – Sorry
Он горел.
Он горел всё время, что Кейтлин знала его. Если смеялся – то громче всех, если скандалил – то напропалую, если шутил – то так, что все падали.
Иногда, когда он смеялся так громко, у неё внутри всё сжималось: как будто этот смех был слишком острым, пронизывал изнутри. И тогда она не знала, что делать: то ли засмеяться с ним вместе, то ли закрыть уши.
Он был заметным. Заметным и броским – с огненно-рыжей копной волос, вечно взъерошенный, в ярко-красной худи и джинсах, светлых, затёртых на коленках. Не «для декора», а потому что реально протёр. И в этих своих почти в хлам убитых, но, очевидно, любимых кедах с пыльной подошвой и поцарапанными носами. И ещё – с синими, на контрасте, глазами. Не такими синими, которые «как озеро, я утонула»: другими. Которые, скорее, прожигают тебя насквозь, если посмеешь в них посмотреть. Не холодом – пламенем. И это не было «мило». Это было завораживающе и страшно одновременно. Он не был «нелепым рыжиком с веснушками» – во-первых, потому что никаких веснушек у него никогда не было, а во-вторых – потому что он выглядел так, будто родился из самого огня. И на его внешность покупалось бесконечное количество девчонок.
Но этот сумасшедший «природный магнетизм» работал ровно до тех пор, пока они не сталкивались с его темпераментом. С бесконечной живостью и энергией такой силы, будто ему было тесно не только в классе, но и в мире, и в собственной коже. Он был постоянно либо в движении, либо в эмоциях, либо в том и другом сразу. Говорил, захлёбываясь восторгом (или яростью). Перемещался странными траекториями. Он как будто не знал, куда себя деть – своё тело, свои руки. Руки у него были заняты всегда – то он рисует, что что-то пишет, то рвёт уголок тетрадного листа, то вертит в пальцах зажигалку или ручку.
Алекс всегда был «слишком». Слишком яркий, слишком громкий, слишком хаотичный. Ни учителя, ни одноклассники не выдерживали его рядом с собой дольше пяти минут – ему везде не хватало места.
Не потому что он хотел внимания, а потому что не мог по-другому.
Кейтлин смотрела на него иногда. В столовой, когда вместо того, чтобы прикончить, наконец, свой дурацкий йогурт, он эмоционально рассказывал парням, что отец подогнал байк на днюху. В классе на уроках английского, когда они учили пьесы и он входил в роли так, как будто жил за героев. На стадионе, где он носился с такой немыслимой скоростью, будто это не рядовая тренировка, а его личный бой не на жизнь, а на смерть. В коридоре, когда ввязывался в драки и рвал обидчиков до крови. И не мог остановиться.
Кейт смотрела на него. И каждый раз, когда она смотрела – он не давал дышать, потому что воздух вокруг него искрил.
Кейт видела: он был живым. Он был живым настолько, что на его фоне остальные казались бумажными. Даже ей самой становилось страшно выглядеть «обычной» рядом с ним. Она ловила себя на мысли: «а жива ли я вообще, если там, где он появляется, воздух горит, а моё дыхание – такое блёклое?». Это чувствовалось так, будто она оказалась в пожаре и отчаянно пытается дышать без респиратора.
А ещё она видела что-то, что остальным было разглядеть не под силу.
Как он шутил и вроде смеялся – а голос надламывался. Как он замолкал. Как беспокойно качал ногой, когда уставал сидеть (а уставал он через две минуты). Как дёргались скулы и сходились на переносице брови, когда вступал в перепалку посреди урока. Как обгрызал заусенцы до мяса. Как пытался – учиться, общаться, соответствовать, жить. И не мог. Потому что сложно жить «как нормальный», когда в голове у тебя ревущий двигатель и орёт тысяча мыслей одновременно.
Кейт не слышала, как орут его мысли – зато слышала, как орёт он сам. А мысли… мысли она чувствовала. Потому что он всё время терялся, как только начинал говорить, и как-то так получалось, что «отец подогнал байк на днюху» вдруг обрастало неожиданными поворотами типа «разлил молоко на работе, поругался с бабкой в автобусе, увидел кошку, упал с дивана, потому что вырубился с телефоном и не заметил».











