Читать онлайн Воин-Врач II
- Автор: Олег Дмитриев
- Жанр: Историческое фэнтези, Исторические приключения, Попаданцы
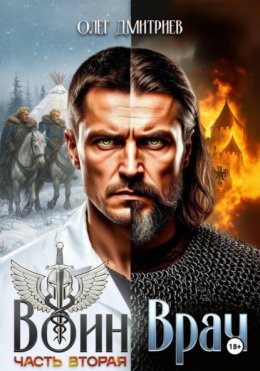
Глава 1. Новые границы невозможного
Народ, жадный до новостей и сенсаций, что в моём «прошлом будущем», что здесь, начинал стягиваться к причалам. Мы с Глебом ехали шагом, он слева, на шаг позади. Справа, чуть ближе вперёд, шагал конь Яна Немого, время от времени всхрапывая и сбивая ритм. Его Тимеклис* такого себе никогда не позволял. Но они вместе с Бураном и Ва́ровым Палом отдыхали на подворье Пахома, лучшего в Киеве коновала. Здешний Айболит обещал, колотя себя в длинную сивую бороду, что Пала и Бурана в строй вернёт скоро, а вот про вороного попросил дней пять на подумать, чем сразу расположил меня к себе. Мог бы тоже поклясться, что вылечит, но не стал обещать заранее: профессионал, и не алчный, как многие в этом городе – на вопросы об оплате за труд махнул рукой, пробурчав, что посчитает тогда, когда будет, за что деньгу принимать.
* Тимеклис (tīmeklis) – темнота или тьма (латгальск.).
За воротами, казалось, толпилось пол-Киева. Потому что ближе к сходням пройти мешали волнорезы из Ждановых. Тут было не только три заслона, о которых говорил Всеслав, но и два заграждения по периметру, довольно широкому, причём в рядах второго полукольца через две-три фигуры в кольчугах и шеломах попадались знакомые кожаные безрукавки. Видимо, Ставр начал «боевое слаживание». Но фигурами эти, в коже, от полоцких великанов почти не отличались, и рогатины у них в руках тоже были не тоньше и не короче. И головы они склоняли, приветствуя князя с сыном, точно так же. Видимо, дисциплина в «лесных войсках» была на нужном уровне.
Заслоны один за другим открывались перед мордами коней и закрывались позади нас. Посторонних, вероятно, желавших под шумок проникнуть на берег, отсекли ещё на втором периметре. Лишних людей на причалах не было. С нашей, по крайней мере, стороны. Комитет по встрече получился вполне представительный – перекрыть для визита неизвестных гостей не самый маленький участок берега в эти времена, пожалуй, мало кто и где смог бы. Как и усыпать все крыши и высокие деревья снайперами. Но недавняя заваруха показала, что дружина работала слаженно и крайне эффективно, и это, надо полагать, и ей само́й понравилось. И веры в Чародея, которому довелось служить, тоже добавило. Хотя, казалось, куда уж больше?
Лодьи, явно местные, русские, судя по узнаваемым обводам и формам, стояли у сходен. На вёслах сидели широкоплечие бородатые мужики, видом тоже неотличимые от тех, что встречали гостей на берегу. Настораживало только то, что рукояти многих вёсел были заляпаны красным и кое-где замотаны тряпками. То, что я и князь помнили про гребцов этого времени, говорило, что на их ладонях, твёрдых, как конское копыто, можно было гвозди прямить или угли переносить. Видимо, они и вправду очень спешили. По запалённому дыханию, даже сейчас, через несколько минут после швартовки, по запавшим щекам и выражениям лиц это было понятно. Но кровавых полос через все спины видно не было, значит, гнали их не кнутами-ногайками. А вот зачем они так летели к Киеву – только предстояло выяснить. И помочь с этим явно планировал вон тот здоровый кривоногий осанистый дядька, что как раз перебирался через борт первой лодьи. Один и без оружия.
– Моё имя – Хару-хан, под копытами моих коней Дешт-и-Кипчак** от Скифского до Хазарского моря. Русы знают меня, как Шарукана.
** Дешт-и-Кипчак – исторический регион Евразии, представляющий собой Великую Степь от низовий Дуная до Иртыша и озера Балхаш.
Говорил он с непонятным акцентом, но голос был твёрдым, как и осанка, и выражение лица, круглого, широкоскулого, с узкими, но неожиданно голубыми глазами. Волосы его были тоже непривычного цвета – рыжевато-жёлтого, хотя память князя говорила, что для половцев это совершенно нормально. В моём же понимании степняки непременно должны были быть черноволосыми, кареглазыми, грязными, пыльными и засаленными. Этот был вполне опрятного вида, но что-то в его голосе и в самой ситуации давало понять – следовало ждать сюрпризов. Любых. И вряд ли приятных.
Князь соскочил с коня легко, привычно. Подождал полмига, когда Гнат и Немой повторят движение и замрут за плечами с обеих сторон. Глеб чуть замешкался, но тоже спустился и остановился позади Рыси, справа, крайним в ряду.
– Я – Всеслав, князь Полоцкий и великий князь Киевский. Люди прозывают Чародеем,– голос был ровным и спокойным, как и дыхание, и мимика. Будто к нам что ни день приплывали вожди степных племён. – Что привело тебя на мои земли, Степной Волк?
Одно из прозвищ Шарукана, лидера половцев, что не так давно едва ли не наголову разбили дружины Ярославичей на Альте, подсказала Всеславова память. Вроде как кто-то из его предков был из волков, и все родственные колена-племена почитали этих хищников за близкую родню. Это вселяло некоторую надежду, пусть и очень призрачную. А про «мои земли» сказано было, чтобы дать понять «гостям с юго-востока», что уход предыдущей администрации вовсе не означает то, что здесь свободно, что можно прискакать и забрать всё, что плохо лежит, стоит и ходит. Лица Гнатовых и Ждановых дружинных повдоль всего берега данный посыл дублировали и усиливали, кратно.
– Волей Великого Тенгри, один из моих старых камов*** прознал, что в здешних землях новый князь, – хан говорил медленно, явно тщательно выбирая слова. – Вечное Синее Небо рассказало, что князь этот не имеет равных в искусстве целительства. Что воскрешает из мёртвых.
У него дрогнула щека и нижняя губа. На лице, будто вырубленном из сплошного куска песчаника, это смотрелось нежданно и наводило на определённые мысли. Пока не конкретные, но уже более предметные, чем те, что терзали при выезде из городских ворот навстречу нежданным гостям.
*** Кам – половецкое название шамана. По ряду версий именно от этого произошли слова «камлать», «камлание».
– Не мог ли старый шаман ошибиться, донося до тебя волю Великого Тенгри? – Всеслав посмотрел на серое осеннее небо с уважением и даже некоторой торжественностью. Говорить со степняками об их Богах без уважения было бы не лучшим началом беседы.
– Что ты хочешь сказать этим, Всеслав? – глаза хана сузились ещё сильнее, а правая рука дёрнулась было к поясу. Видимо, в поисках сабли или плети-камчи. Которых там не было.
– Воскрешать мёртвых могут только Боги, Шарукан. Людям это недоступно, – с максимальным спокойствием отвечал князь. Чуть разведя руки, показывая открытые ладони.
– Люди говорят, что некоторое время назад на этом самом месте ты сделал невозможное, – он быстро брал себя в руки. Качество, обязательное для лидера, для вождя. – Пятерых, погибших от стрел, унесли в твою юрту, они дышали и стонали.
От Рыси будто неуловимо повеяло опасностью. Второй раз за слишком краткий промежуток времени он сталкивался лицом к лицу с работой «конкурирующих организаций», и работой хорошей.
– Из тех пятерых сейчас дышат лишь трое. И сколько ещё продолжат – лишь Богам ведомо, – так же ровно ответил Всеслав.
Кузьма умер после обеда следующего дня, как и один из гребцов, тот самый, что поймал две стрелы в живот. Тот умер ещё с первыми лучами Солнца, успев рассказать одному из Гнатовых всё, что помнил про отплытие из Полоцка и переход до Киева. Кузя подтвердил сказанное слово в слово, хоть и лежали они в разных горницах. Трое оставшихся в живых продолжали дышать, у одного из них даже температура была относительно в пределах нормы. И он был единственным, кто время от времени приходил в сознание.
– Ты говоришь правду, Всеслав, – с каким-то, кажется, удивлением констатировал факт хан, подняв соломенные брови.
– Правду говорить легко и приятно, – отозвался князь так понравившейся ему фразой, – и нет страха забыть, кому, когда и что врал.
– Хорошо жить без страха, – неожиданно глубоко вздохнул степняк. – Редко кто из вождей может себе позволить такое. Как и говорить правду всегда.
– Всё так, Шарукан, всё так. Так что же привело тебя в мои земли, вынудив идти без орды, без отрядов на день пути вокруг, да ещё и водой? Ваше племя больше чтит спины верных боевых коней, чем деревянные хребты того, что плавает по рекам и морям.
Хан вздрогнул, услышав о том, что мне известно, что из его неисчислимой степной силы рядом только те, кого можно было видеть на лодьях. Один-один, Гнатка.
– В мою юрту пришла беда, Всеслав, – впервые за весь разговор он отвёл глаза. Не опустил, а будто решил изучить внимательно и пристально что-то за моим правым плечом, только дальше, неизмеримо дальше. Ему явно было непривычно просить и от этого неприятно продолжать говорить.
– Князь-батюшка, дозволь ближе подойти! – долетел сзади неожиданный и совершенно несвоевременный голос. Дарёнин.
То, что Всеслав не вздрогнул и не обернулся назад, за спину, отведя глаза от половца, по моему твёрдому мнению было чудом из чудес.
– Княгиня с Домной, с ними два степняка, шорник и торговец из местных, уважаемые люди. Стоят за третьим заслоном, – неслышно, наверняка даже не шевеля губами, выдохнул Рысь справа.
Князь едва заметно кивнул, по-прежнему не сводя глаз с хана. У того на лице досаду и что-то, похожее, кажется, на скорбь, сменяли настороженность и зарождающаяся злоба. Он явно ничего хорошего не ждал ни от продолжения разговора, ни от неизвестных баб, что спускались по берегу.
– Здравствуй, батюшка-князь Всеслав Брячиславович! Поздорову и тебе, гость из дальних краёв, из Великой степи! —Домна вышла с левой стороны из-за плеча Немого. С ней и вправду были двое степняков, только одетых по-здешнему. Они пали ниц перед ханом, бубня в Днепровский берег что-то по-своему. Рядом с ними лежали какие-то свёртки и узлы.
– Что, Домна? – князь по-прежнему не сводил глаз с хана. Два волка, лесной и степной, замерли друг напротив друга. Один из них уже отвёл взгляд. Это многое значило. Принёс же бес этих баб не ко времени!
– Дозволь, княже, стол накрыть по обычаю гостя твоего? Пришли со мной мужи киевские знатные, единоплеменники его, принесли с собой еды-питья ихнего, привычного. А ну как за столом лучше разговор ваш сложится? – секретная зав.столовой журчала ручейком, так, что даже у хана едва заметно разошлись насупленные брови.
– Разреши, княже, – долетел из-за Гнатовой спины шёпот Дарёны. Не иначе – задумали что?
Всеслав кивнул, и между ними с Шаруканом как по волшебству развернулся какой-то войлочный коврик, на который шорник с торговцем конями принялись выставлять какие-то яства, так и не разгибая спин, не вставая с карачек. А когда закончили – уползли, не поднимая глаз, за спины ближней дружины, задницами вперёд. Вернее, назад.
– Угостимся, Шарукан? У нас принято встречать гостей, званых и незваных, хлебом-солью. Вижу, наши с тобой люди разумно поступили, сделав так, что стол и тебе привычен, и мне.
Подавая пример, Всеслав уселся, сложив ноги по-турецки, и разорвал пополам лепёшку, что лежала на самом верху целой стопки таких же. Она была поджаристой, румяной, с зёрнышками белого кунжута, не самого распространённого и не самого дешёвого для здешних краёв. И тёплой. Половину протянул остолбеневшему хану.
Шарукан повёл носом совершенно по-волчьи, как и сам князь давеча. И шагнул на кошму. Название войлочного ковра тоже подсказала память Чародея.
Домна, став на колени справа от князя, налила в округлые пиалушки чего-то беловатого, с кислым запахом. И с поклоном протянула первую емкость Всеславу. Тот принял одной рукой, дождался, пока ритуал повторится с гостем, и отпил. Кумыс, редкая гадость, конечно, но иногда бывает вполне кстати. Если перебрать с вечера, например. Или если встречаешь давнего врага, что прилетел к тебе с какой-то бедой. Как сейчас.
Шарукан внимательно посмотрел за тем, как князь выпил всё из пиалы и стряхнул на кошму редкие оставшиеся капли. Кивнул, будто окончательно утвердившись в каком-то решении, и двумя руками поднёс узорчатую пиалушку к губам. Выпил всё и откусил прилично от лепёшки.
– Дайте нам с гостем поговорить с глазу на глаз, – не оборачиваясь, произнёс Всеслав.
Домна отползла с кошмы по-степняцки, встав и обернувшись, только сойдя с неё на берег. Судя по легкому шуму и звукам конских шагов по камням, «комитет по встрече» отодвинулся вместе с первым заслоном на десяток шагов от нас. Для стрелы и острого, Рысьиного, например, слуха дистанция никакая, конечно, но для хана это было важным знаком. Теперь и до его людей на бортах лодий, и до моих было примерно равное расстояние.
– Ты мудрый человек и отважный воин, Всеслав, – проговорил он, прожевав что-то, похожее на плов, только, кажется, сделанный из проса. Зачерпнув из миски прямо пятернёй, но на удивление не выронив ни зёрнышка.
– Что за беда пришла в твой дом, Шарукан? – спросил князь, отмахивая ножом лоскут варёной с травами конины от большого куска. Ножи оказались на кошме неожиданно, и явно испортили кардиограмму Рыси, но без приборов сидеть за столом, видимо, являлось моветоном уже сейчас.
Отец Хару-хана, Ясинь-хан, был очень уважаемым человеком в Степи. Его знали, к его словам прислушивались от Тургая до Тмутаракани, его волей скакали бесчисленные табуны по берегам Днепра, Дона, Итиля и Урала. Он не был формально лидером Орды, но без его слова или решения не было принято ни начинать кочевать, ни собирать набеги. Старый волк Ясинь неделю назад слёг. Четыре дня назад боль стала такой, что камы постоянно держали его в полузабытьи, чтобы не выл, не метался и не пробовал когтями выгрызть боль из своего уставшего от неё старого тела.
Степной вождь говорил об этом, стараясь не выдавать тоном и голосом эмоций. Кому другому, может, и хватило бы этого. Мы же с князем твёрдо знали, что сама эта история, а уж тем более рассказ о ней чужому человеку с чужой земли, давались хану с огромным трудом. И что это не все беды, что пришли в его юрту. И не ошиблись.
Сын Хару-хана, молодой Сырчан, сломал ногу, когда его конь провалился в одну из тех чёртовых нор, какими изрыли степь на правом берегу Днепра проклятые слепыши и суслики. Костоправы и камы сложили кости, но нога стала короче почти на четыре пальца. Хромота – не лучший признак для будущего вождя, для предводителя воинов. Но с ней можно было и смириться, если знать, что сын сможет сидеть на коне. А он лежал сейчас рядом с дедом, находясь, так же, как и старик, между жизнью и смертью. И шаманы не давали ответа на яростные вопросы хана о том, что говорило Вечное Синее Небо о будущем его сына и отца. Сказали лишь о целителе-чародее на земле русов, куда не так давно отошли с позором войска тамошних князей, разбитые степными волками. Хан не стал думать долго, велев срочно забить одну лодью богатыми дарами, и пуститься в плавание по великой здешней реке. Ни один из больных не мог ехать верхом, а тряска, пусть даже на кошме меж двух коней, добила бы их вернее, чем неприятное путешествие по синей воде. Хан был удивлён и приёмом, и честью, что оказал ему князь – редкое по местным временам уважение, чтобы и за стены города выйти, и встретить приветливо. А чтоб угостить привычной степняку едой, да вдобавок при этом не отравить – такого история Великой степи и не слыхивала.
Я рвался осмотреть пациентов. Судя по тому, что рассказал Шарукан, у его отца началось воспаление в брюшной полости, которое могло быть вызвано чем угодно. У сына то же воспаление, но в сломанной ноге, вероятно, стало следствием работы тамошних «коллег», костоправов и шаманов. Если бы сломано было бедро, можно было бы сразу предположить самые неудачные, фатальные варианты, вроде жировой или тромбоэмболии. Но, по «анамнезу», что выдал хан, сломаны были берцовые кости. Лицо Шарукана, на котором стали всё чаще проявляться эмоции, пусть и привычно маловыразительно, говорило о том, что он тоже держится из последних сил, чтобы не потянуть меня на лодью за руку.
Князь слушал внимательно. Кивал и задавал вопросы о каких-то ориентирах по берегам Днепра, о протяжённости земель, что занимали племена, родственные «степным волкам». И я чувствовал, что мысли его значительно, несоизмеримо шире, чем моё желание исполнить как можно быстрее и лучше врачебный долг. «Тратим время, княже!» – не выдержал, наконец, я. «Извини, Врач, но тут очень велика возможность сделать хуже, вместо «лучше». А вот если получится задуманное, то к нашей давешней придумке про греков да латинян можно будет подступиться гораздо удобнее. И беду отвести на долгие годы. Да хоть бы и на недолгие, но с этой стороны нам тоже мир никак не помешает!».
Спорить с ним не было ни желания, ни возможности. Всеслав-Чародей был абсолютно прав. Правда, думать о том, что произойдёт, помри эти двое у меня под ножом, тоже не хотелось совершенно.
Глава 2. Операция «Степь». Начало
Было бы, наверное, довольно оригинально, поссорься я со Всеславом сейчас. И как это вообще, интересно, выглядело бы? Та самая тревожная картина, когда человек орёт, машет руками и ругается сам с собой? Вот бы удивился степной гость, пожалуй. Да и дружина, наверное, могла не так понять этот неожиданный этюд
Но удалось чуть подуспокоиться, понять, рационально оценить и согласиться с позицией Чародея. Кидаться срочно-обморочно помогать болящим на чуть качавшуюся возле сходен лодью – не самое верное решение для великого князя, что на правах хозяина угощал гостя на берегу. Из моих мыслей он уловил, что гарантии и уверенности в успешном ходе лечения нет и быть не может: мы не видели пациентов и не знали их диагнозов даже примерно. А случая, подобного этому, его память обнаружить не могла, как ни старалась. Чтобы к городу, полному воинов, прилетел малым числом отряд врага, с вождём во главе, да не переговорщиком, выкуп или условия мира обсуждать. А с просьбой, мольбой о помощи. И не воспользоваться этим редким, штучным шансом князь себе позволить не мог. У каждого своё рацио, тут споров быть не может. И врач иногда вынужден отказывать в помощи одним, чтобы точно, гарантированно сохранить жизни других, лежащих рядом, на соседних столах или носилках. Князь же вынужден учитывать значительно бо́льшее количество факторов, принимая решения. Потому что отвечает не только за свою собственную жизнь и жизни своей семьи.
– Ты сказал, что воскрешать мёртвых подвластно лишь Богам, Всеслав, – проговорил хан, откладывая показательно подальше нож. – Люди говорят, ты один из немногих, с кем Они говорят. Так ли это?
– Люди говорят многое, Шарукан. Чаще всего то, во что сами хотят верить, – обтекаемо ответил князь.
– Они живы. Мои отец и сын живы, их не нужно воскрешать. Сможешь ли ты вылечить их? – помолчав, спросил он.
– Я не знаю, говорю тебе чистую правду. Я не видел их, не знаю их хворь. По словам и рассказам определять болезнь – это как жену выбирать по слухам, через третьи уши.
– Так пойдём, чего медлить? – он явно сделал над собой усилие, чтобы не вскочить на ноги.
– Сперва уговоримся о будущем, хан. А потом будем вершить настоящее. Так, как достойно вождей, и так, как рассудят наши Боги, – медленно, но очень весомо ответил Чародей.
– Я пришёл с богатыми дарами, – начал было Степной волк, решив, видимо, что мы собрались привычно, по-восточному, начать торговаться с ним, но князь прервал его, не дав договорить.
– Твой народ славен щедростью, Шарукан. Вы не жалеете золота, дорогих тканей и ещё более дорогих специй для друзей. Так же, как и стрел-сабель для врагов. Я не сомневаюсь в том, что твои дары достойны и богаты. Но я не хочу и не буду покупать у тебя жизни твоих близких за деньги и тряпки.
Брови хана выстрелили вверх. Такого он вряд ли ожидал. А князь продолжал.
– Если спасти их окажется не в моих силах, если Великий Тенгри решит, что их земной путь завершён – я не смогу и не стану спорить с Его волей. Тогда ты, и твои люди уйдёте вниз по реке вместе со всем тем, что привезли сюда. Так будет по чести.
– Да, князь. Так будет по чести, – эхом отозвался хан, не сводя с Чародея удивлённых глаз.
– Если же Боги будут милостивы, и твоим родным суждено жить дальше, а мне – помочь им в этом, я тоже не хотел бы принимать в дар за это железо, ткани и благовония. Мне будет достаточно твоего слова, что Степь и Русь будут жить в мире до тех пор, пока Дешт-и-Кипчак слышит и слушает тебя, Степной волк.
На этот раз хан молчал значительно дольше. И было будто наяву видно, что мысли с той стороны узких глаз мелькают с запредельной скоростью. Вряд ли он плыл сюда, предполагая подобное развитие событий. Но жизнь часто преподносит сюрпризы, мне ли не знать. А князь меж тем спокойно продолжал.
– Я держу торговый путь от Северного моря почти до Русского моря, Шарукан. Уверен, что если мы будем сидеть на этом пути вдвоём – каждому хватит и славы, и чести, и золота. Мои воины смогут при случае помочь тебе. Твои – мне, если придёт нужда. Добрые соседи иногда бывают ближе родни, не так ли?
Да, момент был рискованным. В первую очередь, своими неожиданностью и непонятностью. Как говорил один киногерой-бандит из популярного сериала моего времени: «Не люблю, когда чего-то не понимаю!». Именно эта фраза читалась на скуластом лице голубоглазого хана отчётливо, громко, почти вслух. И я, случись оказаться в его ситуации, вёл бы себя и думал, наверное, точно так же.
Шарукан обернулся через плечо и долго посмотрел на ту лодью, что стояла у дальнего причала, самую тяжело гружёную и с одним только экипажем гребцов на борту. Повернулся обратно и уставился на нас тяжёлым, я бы даже сказал – свирепеющим взглядом. Одно дело, если бы жадный князь русов торговался и требовал золота, коней, женщин, в конце концов! Это было бы привычно и понятно. Но проклятый Чародей предлагал небывалое – добрососедство и даже совместную торговлю. И рядом, как назло, не было ни единого старого кама с бубном и колотушкой, чтобы испросить совета у Великого Тенгри.
– Я понимаю, что моё предложение может удивить и насторожить, Шарукан. Но мои слова и поступки сейчас, как и то, что передавали тебе твои люди раньше, не дают повода сомневаться в моей честности. Я, как и ты, суров ко врагам и щедр к друзьям. И за мной – мой народ и моя земля, как и за тобой – Великая степь, которую не охватить взором и не пересечь за долгие седмицы на лучшем из коней.
Голос князя был спокойным, даже чуть напевным. Но навыков гипноза он не использовал вовсе, зная, что степные вожди тоже могли обучать своих наследников такому же. Последнее, чем хотелось продолжать этот неожиданный разговор, была бы дуэль двух сильных гипнотизёров. То столкновение двух волевых мужчин, что шло сейчас на этом берегу, на этой войлочной кошме, должно, обязано было пройти честно и открыто.
– Мои лодьи возят многое, хан. В том числе жёлтые солнечные камни, что рождают холодные северные воды. За эти камни, знаю, народы Юга и Востока щедро платят золотом в два-три веса, не торгуясь. Я могу доставлять их тебе к устью Днепра, а ты станешь единственным, кто будет торговать янтарём с Востоком. Это гораздо выгоднее и безопаснее, чем драться с персами, сельджуками и болгарами. Если не хочешь покупать корабли и нанимать мореходов – можешь просто брать плату за выход в Русское море, как и прежде. Я могу предложить твоим торговцам свободный проход по рекам на моей земле. Тут есть, над чем поразмыслить, Шарукан. Если ты дашь согласие, и Богам будет угодно помочь мне спасти твоих родных – мы посадим рядом мудрых старцев, пусть подумают и посчитают. Но согласие твоё нужно прямо сейчас.
Видно было, что от взрыва Степного волка отделяли какие-то крохи, доли мгновений. Ясно, что со стороны эта ситуация была до крайности похожа на банальный шантаж. И очень не хотелось бы, чтобы хан чувствовал себя «загнанным на флажки», прижатым к стенке.
– Не так давно, Шарукан, я велел схватить и посадить в яму митрополита Георгия, – продолжал Всеслав, глядя на замершего снова в удивлении собеседника. – Не знаю, ведомо ли то твоим людям. Грек замарался в паскудных делах. Брать деньги за то, чтобы позволять другим говорить с Новым Богом в Его же доме – меньшее из его преступлений. Будто бы Бог слышит слова, обращённые к нему, только под золотыми куполами, а стоит выйти из-под сводов храма – тут же глохнет?
На лице князя отразились искренние недоумение и даже доля брезгливости.
– Его руками, за ромейское золото были наняты убийцы, чтобы расстрелять и сжечь мою жену и сына.
Хан не сводил глаз с лица Чародея, которое при этих словах сделалось жёстким и хищным, как у древних каменных изваяний степных Богов-воинов. Такое не сыграть, и Шарукан чуял это. Как и начавшийся от звука княжьего голоса танец волосков на руках и загривке.
– Я наказал убийц, хан. Накажу и паскуду Георгия, как только узнаю всё то, что знает он сам, – губы Всеслава поднялись в оскале, от которого танец на спине и руках Степного волка превратился в дикую пляску. Он вздрогнул.
– А потом я пойду к тем, кто задумал это, сидя в своих безопасных тёплых и сухих каменных норах и гнёздах на далёких землях. И накажу их тоже. Примерно накажу, чтоб память об этом сохранилась навеки. У меня есть друзья на Севере и на Востоке. Есть союзники. Я был бы рад дружбе между нашими племенами, хан. Она нужна мне. И, думаю, может быть полезна и выгодна тебе.
Степной волк смотрел на лесного, не мигая. И, кажется, не дыша. Чувствуя, как с каждым ударом разошедшегося не на шутку сердца ложится вставшая было дыбом шерсть на холке. Видя, как гаснет, отступая вглубь, золотисто-алая ярость в глазах князя. Или это зашло за облако холодное осеннее Солнце?
– Ты снова говоришь правду, Всеслав. Я чую силу и гнев в твоих словах. Я говорил со многими правителями. Ты не похож ни на кого из них. И мне даже жаль твоих врагов, решивших злоумышлять против твоей семьи. Я знаю, как крепко держались за родных русы до прихода Нового Бога – почти как мы. И мне кажется, мы сможем договориться. Я принимаю твоё приглашение к добрососедству, – он говорил медленно, тщательно выговаривая каждое слово. Отметил, что они, в отличие от нас, Старой веры не предавали, и чуть сузил глаза в тени мимолётной усмешки, поняв, что князь и бровью не повёл в ответ на это. Дружбу и мир не назвал. Но добрососедства, после тех тысяч трупов на Альте, было вполне достаточно. Пока.
– Я рад, что Вечное Синее Небо решило так, Шарукан, – произнёс Всеслав, поднявшись и дождавшись, пока Степной волк тоже выпрямится во весь рост. И протянул ему правую ладонь.
Берег, ну, кроме Гната и его нетопырей, не слышал разговора двух вождей и не знал, о чём шла речь. Поэтому, когда две крепких широких ладони встретились с хлопко́м и крепко сжали одна другую, слитный вздох облегчения пронёсся над причалами.
– Со мной пойдёт моя жена и два моих человека, чтобы помочь врачевать, Шарукан. На нас не будет оружия. – Всеслав говорил, продолжая держать руку хана.
Степной волк повернул голову и отрывисто прохрипел-пролаял несколько фраз на своём в сторону лодьи, откуда тут же потянулись воины, складывая на сходни сабли, ножи и луки с саадаками, спускаясь на берег.
По взмаху руки Всеслава в сопровождении Рыси и Яна Немого подошла Дарёнка.
– Смотри, Шарукан, – приглашающе кивнул Всеслав на скрутку-скатку из выделанной коровьей шкуры, что развернул возле их ног на кошме Гнат. – Здесь то, что может мне понадобиться при лечении.
Хан с каменным лицом осмотрел хищного вида крюки, ножницы, пилы и стамески, задержавшись на несерьёзного по здешним меркам размера ножиках-скальпелях. Пробежался и по плотно укупоренным корчажкам-баночкам со снадобьями, вид имевшим сугубо колдовской и тревожно-загадочный. Ленты холста и тонко, тщательно вычесанная пакля, как и «бороды» белого мха, его вряд ли удивили. Он отрывисто кивнул головой, явно находясь мыслями на лодье, возле отца и сына.
– Зачем берёшь женщину, Всеслав? – только и уточнил он.
– Моя жена, княгиня Дарёна, умеет заговаривать боль. Я сам не могу так. Она нужна, – уверенно кивнул я. Князь уже «отступил на шаг», предоставив тело мне. И в этот миг с лодки донёсся хриплый стон, полный боли, исказивший твёрдое лицо хана так, будто болело у него самого, и очень сильно.
Он повернулся, махнув нам обеими руками, призывая следовать за ним, и едва ли не бегом взлетел по сходням наверх.
Гнат шагнул первым, следом я, чуя, как дрожит рука и дыхание княгини. Но по её строгому до какой-то иконной святости белому лицу распознать-увидеть страх и тревогу вряд ли смог бы кто-то ещё. Даже в холодных и цепких, как и всегда, глазах Немого, что шёл замыкающим, скользнуло что-то похожее на восхищение. А потом оценивать своих стало некогда – пришла пора работать.
Краем сознания пролетело удовлетворение, что Фома, молчаливый ювелир или, по-здешнему, златокузнец, успел сдать часть заказа позавчера. Там были и пинцеты, и ранорасширители, и скальпели, и даже условно-убогое подобие троакара.*
* Троакар – хирургический инструмент, предназначенный для проникновения в полости человеческого организма через покровные ткани с сохранением их герметичности в ходе манипуляций.
Они со Свеном, кузнецом с Севера, что уже с десяток лет жил и работал в Киеве, отойдя от молодецких удалых подвигов, на «получении тех.задания» слушали внимательно, и вопросы задавали исключительно по делу. Это Свен выковал те самые иглы, какими мне довелось шить пятерых выживших на насаде. Из которых теперь осталось трое, и, увы, вряд ли надолго. Оба коваля наслушались от жён и соседей историй про то, как Чародей воскрешал мёртвых. Оба в слезах смотрели на чёрно-синие тучи в причудливых росчерках молний над Днепровским берегом. И денег за работу брать отказались тоже оба, хором. А ещё их роднили в прямом смысле жёны – родные сёстры, шустрые черноглазые бабы, переспорить или переговорить которых на торгу давно не брался никто из местных. Этот удачный семейный подряд подвернулся с подачи Домны – я услышал, как она орала на незнакомого тогда мне Свена:
– Да нешто тяжело так сделать ушки у иголок ещё меньше? Князь-батюшка мне даром что в морду их не швырнул! – верещала она с крыльца на хмурого кузнеца. То ли торговаться надумала, то ли бесплатно оптимизировать «пилотный образец».
– Да куда ж меньше, Домна! – гудел Свен. Видимо, он, как и большинство знакомых мне здоровенных мужиков, что легко гнули ломы и подковы, пасовал перед напористыми бабами. А тут попалась именно такая.
– Да пойми ты, пень полуночный, князь-батюшка ими не дерюгу штопает, не сапоги тачает! Живых людей от неминучей гибели спасает! Слыхал, поди? – наседала зав.столовой.
– Так то весь город слыхал, об одном том и разговоров, что на торгу, что по корчмам, – согласно вздохнул здоровяк в прожжённом кожаном фартуке.
– Ну так чего ты кобенишься, бесова душа?! Перекуй иголки!
– Да не смогу я мельче сделать! Ты пальцы мои видала?! – он показал ладони, на каждой из которых можно, пожалуй, детей было качать, как в люльках. Лет до двух точно. – Орёт она на меня, как голодная чайка!
– Ну ты же лучший мастер в окру́ге, Свен! Кому, как не тебе, с такой сложной да тонкой работой совладать? – Домна сменила тон так резко, будто вместо неё другая женщина заговорила. Умеют же!
– Тонкой, говоришь? А ну-ка к Фоме пойду, не должен отказать по-родственному-то… Только ты Олёне моей не говори о том. Опять на весь рынок хай поднимет до небес, что я, мол, заказ мимо мошны пронёс, – под конец северянин говорил смущённо-виновато, вовсе неожиданно.
– Как рыба молчать буду, Свенушко, вы только дело сделайте! А про заказ не думай. Слыхала я, что вскорости понадобятся дружине княжьей…
Тут я уже не слышал, видать, на ухо кузнецу договаривала зав.столовой. А на следующий день она орала уже на двоих, на Фому и Свена. На этот раз уж точно торгуясь, как шарлатан на мосту. Князь не вытерпел и велел кликнуть всех троих в гридницу. Где и познакомился с двумя энтузиастами молотов и наковален. Фома был тощим и сутулым, от широкого северянина отличаясь, как соломина от пузыря из старой детской сказки. Но дело знал туго. Шкуру с эскизами инструментов сворачивал бережно, явно думая о том, как измыслить такую небывальщину, как узкие ножницы с концами наискосок. Или хитрые щипчики, что сами собой клюв распахивают. А услышав про пилу Джильи, или, как у нас её всегда звали, пилку Джигли, незаменимую при ампутациях, схватил в кулак бороду и запихал в рот, вытаращившись не меня сверх меры. Про «пилильную нить» выспрашивал долго, захватила его эта идея.
А мне вспомнился тогда старый случай, когда в Кабуле меня в выходной день выдернули из дома люди со скучными глазами и повезли куда-то в грохочущей «буханке» по адовой жаре. Выяснять, куда именно, не хотелось – и так злило абсолютно всё: и их одинаковые постные морды и галстуки, и жара, и тупая головная боль после вчерашнего. Судя по тому, что ехали в противоположную сторону от рынка Шаринау, решил, что везли в посольство. И не ошибся. Там меня час держали в приёмной, а когда в графине кончилась вся вода, а во мне – всё терпение, пригласили за двойную дверь, в комнату с двумя вентиляторами, гербом и портретами. И парой граждан, одним из которых оказался знакомый полковник-«каскадёр». По его лицу было ясно, что «шить» хозяин кабинета мне собирался что-то уж на редкость поганое, такое, по сравнению с чем солнечные Мордовия и Воркута покажутся раем на земле.
– Знаком ли Вам некто Волков Александр Иванович? – отвратительно липким голосом спросил тот главный в штатском.
– Конечно! Это мой товарищ, он сейчас работает зав. хирургии вместо меня, в моей родной районной больнице. А что, что-то с Сашкой? – встревожился я. Тут была беда со снабжением, и Саня часто слал из Сюза почтой всё, включая иглы и кетгут. А в прошлый раз я попросил его выслать тех самых пилок Джигли. Тупились они быстро здесь, на войне. Я за первую неделю ампутировал, кажется, больше рук и ног, чем за всю свою врачебную практику до этого.
Выяснилось, что Сашка заклеил в конверт пять струн для пилки, а в письме написал: «Спёр, сколько смог!». Шутником он всегда был тем ещё. Но хирург от Бога, конечно. Так вот, товарищи в потном «маренго», коллеги хозяина кабинета под гербом и портретом, сперва по инструкции встали на уши на сортировке почты, когда «просветили» конверт авиапочты и увидели внутри спутанные провода. Потом оскорбились, когда в доску ошалевшая от жары собака ничего опасного в закрытом бумажном пакете не учуяла. А когда не менее потный сапёр обматерил бдительных рыцарей с холодными руками и чистыми головами, швырнув на пол смотанные струнные проволоки – обиделись до глубины. И решили хотя бы расхищение социалистической собственности группой лиц раскрыть, да с ещё и с международной контрабандой.
Зная продуманного шутника-Саню, пилки наверняка были списанными. Принимая во внимание жару и общую нервную обстановку, усугубляемую «липким» в штатском, разговор очень быстро перешёл на повышенные тона и активную эмоциональную лексику. Поэтому вошедшего в кабинет четвёртого мы заметили не сразу, продолжая ещё некоторое время по инерции орать друг на друга.
– Молчать! – даже не крикнул и не скомандовал новый участник беседы. Но полковнику и «штатскому» хватило. Первый вскочил едва ли не по стойке «смирно», второй достал большой мятый клетчатый носовой платок и принялся утирать мгновенно и обильно выступивший пот.
– Петров. Доктору завтра на смену в госпиталь. Если он не отдохнёт, то будет не в форме. Если от этого пострадает советский раненый солдат – я тебя лично пристрелю прямо здесь, ясно? – по-прежнему не повышая голоса сообщил невысокий но крепкий, будто отлитый из бронзы круглолицый мужчина с тёмными глазами, высоким лбом и зачёсанными назад короткими седоватыми волосами.
– Товарищ ге… – начал было «липкий» совершенно другим голосом, но был перебит.
– Он спасает жизни наших товарищей. Он под душманскими пулями оперировал. Он пользы приносит больше, чем ты. Поэтому отдай доктору инструменты и конверт с письмом из дома. А мне – вон ту папку, всю. – Спорить с бронзовым тут никто и не планировал. Папка с завязками перекочевала со столешницы в его ладонь, пару раз нетерпеливо шевельнувшую пальцами.
– Делом займись, царандоевец**, – последнее слово он будто плюнул в «липкого», который и так выглядел – хоть выжимай, и обернулся ко мне.
** Царандоевец – сотрудник Народной Милиции Афганистана (которая носила название «Царандой» пушту څارندوی – защитник).
– Вы свободны, доктор. Машина доставит Вас домой. Приношу извинения за излишне бдительных коллег, сами понимаете, военное время. Женя, проводи.
– Есть – проводить, Александр Иванович! – полковник подхватил меня за локоть и выдернул из кабинета, не дав даже попрощаться с бронзовым.
Тогда, на той войне, много было плохого. Но запоминалось, к счастью, и хорошее. И люди приличные, помнившие о долге и чести офицера, тоже встречались. А пилки те, все пять, пришли в негодность за неделю. Много было работы тогда, очень много…
На досках лодьи были накиданы какие-то ковры, вроде того, с которого мы с ханом только что встали, только эти были нарядными, яркими, и их была целая стопка. С одной стороны лежал неподвижно старик с белой редкой бородой, в которой гуляла странная отрешённая улыбка. С другой грыз зубами рукоять плётки парень примерно Ромкиного возраста, хрипло подвывая от боли. Нога его была обмотана белой тканью, на которой проступали красные пятна. И запах от неё тянулся ох какой неприятный.
Глава 3. Чудес не бывает
– Дарён! – махнул я жене на парня, и она очутилась у того в головах быстрее, чем можно было даже представить: только подол взмахнул, кажется, там, где она только что была – и вот её узкие ладони уже на висках Сырчана, что метался в трёх шагах впереди. Смотрелось это тревожно. Хотя там, в той ситуации, наверное не было того, что выглядело бы как-то по-другому.
Брови Шарукана снова взлетели, едва он услышал глубокий протяжный напев. И увидел, как смягчается, расслабляясь на глазах, лицо сына. Рукоять камчи выпала у того изо рта, соскользнула со стопки ковров и стукнула о дно лодьи. Хан вздрогнул от этого звука, как от выстрела. Хотя да, в этом времени такого не бывало, огнестрельного оружия ведь не было пока. Тут вздрагивали, когда стрела впивалась в тело. Когда было уже поздно.
Я нахмурился давно, сразу, как только ноги ступили со сходен на дно. И брови продолжали сходиться всё ближе с каждой секундой, с каждой новой полученной толикой информации. И то слово, что пришло вслед за воспоминанием о здешних стрелах, звучало в мозгу всё громче. Поздно…
Зрачки Сырчана давали понять, что накачали его, вероятнее всего, морфином. Хотя откуда бы он тут? Значит, наверное, опиум. И вряд ли у здешних степных шаманов в ходу внутривенные инъекции, так что поили или окуривали. И запашок этот, что я за гнилостной вонью сразу в речном ветерке сразу было не заметил, догадку подтверждал. Это ж сколько надо было выпоить парню и, главное, старику, чтоб добиться стойкого болеутоляющего эффекта? Память подсказала, что при приёме внутрь усваивается около четверти объёма алкалоида. Хотя, это по морфину. Но в любом случае, то, что дедок четвёртые сутки находился в таком тяжело загруженном состоянии, к выздоровлению его приблизить никак не могло. Как только сердце выдержало столько?
Сын хана замер, уставив глаза с еле заметными зрачками в по-осеннему низкие сероватые кучевые облака, что будто тоже смотрели на этих двоих, приплывших на «скоропомощной» лодье, с тоскливым безнадёжным сочувствием. Слово «поздно» опять звякнуло в голове разбитым зеркалом или осколками любимой чашки, что словно сама собой выскочила из пальцев и грянулась о плитку пола.
«Ну уж нет!» – проснулся во мне привычный злой кураж. Иногда, когда пропадала не то, что уверенность в позитивном исходе, но даже и последняя надежда на него, выручала именно такая холодная ярость. Когда работаешь до последнего, до самого последнего шанса, самой крайней секунды. И потом ещё. Бывало, что и везло.
«Чудес не бывает, запомни!» – говорил мне старый академик, корифей и величина, лауреат всего, чего только можно было, во всём мире. Спасший столько народу, что можно было бы, наверное, целый город заселить, и не маленький. И схоронивший, как и любой врач, стольких, чтобы на душе наросла та непременная, обязательная профессиональная мозоль. Та, что не позволяет слишком сильно сочувствовать и сопереживать, зато помогает чётко и профессионально, без вредных несвоевременных эмоций, делать свою работу. Та, которой на самом деле нет.
«Бывает достаточно или не достаточно знаний и навыков! Ну, и везёт иногда» – добавил он тогда. Легенда, мировая величина в хирургии. Тот, кто до меня лет семь не брал учеников. Тот, кто никогда не входил в операционную только с правой или только с левой ноги. Зато всегда подступал к пациенту с достаточными знаниями и навыками. Поэтому чаще отходил от стола, на котором сердце пациента качало кровь, а лёгкие – воздух.
Мысли об этом мелькали где-то далеко на фоне, за спиной напряженно замершего князя, который, как тогда, на насаде, словно ещё дальше отшагнул, чтоб не отвлечь, не сказать чего под руку.
То, что я направился к старику, а не к парню, будто бревном или конским копытом ударило по Шарукану. Он тяжко опустился на ближайшую скамью и словно обратился в камень. Став одним из разбросанных по Великой степи каменных изваяний. С опущенными плечами и скорбным лицом. Будь я менее занят… хотя даже не так, будь я другим человеком с другими характером и жизненным опытом, мне бы стало его искренне жаль. Иногда жизнь ставит перед очень неожиданным и тяжёлым выбором. Так, наверное, чувствует себя маленький ребёнок, которому задают идиотский и страшный вопрос: «кого ты больше любишь, маму или папу?». Видимо, хан верил в мои силы и в чудеса слишком сильно, раз до последнего запрещал себе думать о том, что может потерять кого-то из этих двоих. Или их обоих.
Руки нашли пульс, левая – на широком, смуглом и жёстком, как доска, запястье, а правая – под бородой. Как и следовало ожидать, сердце молотило, как сумасшедшее, иногда спотыкаясь и пропуская удары. На касания мои Асинь-хан не отреагировал никак. Под задранным веком обнаружился точно такой же, как у внука, крошечный зрачок. Только склера, бело́к глаза, была неприятного жёлтого цвета, густо испещрённая тёмно-красными сосудами, частью полопавшимися. Ещё лучше…
Булавка-фибула, снятая со сброшенного в сторону плаща-корзня, уколола старика в предплечье. Быстрым и точным движением. Над ранкой показалась красная бусинка крови. Дед продолжал отрешённо улыбаться, не открывая глаз. И на боль не среагировал ровным счётом никак. Очень хорошо, просто замечательно… Как же мне понять, что и где у тебя болит, дедушка? Я ведь не тот врач, который ставит диагнозы после вскрытия, мне бы пораньше знать не помешало. Да и тебе, откровенно говоря, тоже…
Я опустил нижнюю челюсть Старого волка, осмотрев язык и зубы. Они были на удивление крепкими, хоть и сточенными в силу возраста. Налёта, сыпи или плёнок на слизистой не было. Вспомнился старый английский сериал про хромого вредного терапевта с тросточкой, которому приходилось сталкиваться с такими загадочными болезнями, описания которых не во всяком учебнике найдёшь. А ещё пришёл на ум древний анекдот, ещё с моих студенческих лет, где спорили о том, чья работа сложнее, человеческий доктор с ветеринаром. Зашёл как раз пациент, и врач-терапевт спросил его с мудрым видом: «ну-с, на что жалуетесь?». А ветеринар тут же воскликнул: «Не, ну так-то любой дурак сможет!..».
Распахнул на старике какой-то богато расшитый не то халат, не то кафтан. Треснула, распоротая острым ножом, ткань мокрой от пота рубахи под ним. От этого резкого звука дёрнулся Шарукан на лавке.
А ты крепко повоевал, дед. Наверное, можно надеяться, что протянешь ещё немного, раз пережил эти стрелы и это, видимо, копьё. Или нельзя надеяться. Эх, как бы сейчас кстати был самый плохенький, самый простенький аппарат УЗИ!
Руки скользили по тёмному телу, скатывая тёмными валиками и шариками под ладонями грязь с по́том. «Простучал» лёгкие, прослушал – вроде, чисто. Пальпировать живот не хотелось ни в какую. Нажмёшь не так – и привет. Поэтому просто провёл ладонями, прислушиваясь к ощущениям. Руки князя были гораздо жёстче моих, но уж что есть, с тем и работаем. Показалось, что внизу справа кожа была горячее. Это уже интереснее. Хоть что-то. Оставалось только понять, как подтвердить не версию даже, а хотя бы тень от неё.
Сместившись чуть пониже, не придумал ничего умнее, чем хлопнуть основанием ладони по правой пятке старика. Над коротким голенищем вышитого потёртого сапога с острым, загнутым наверх, носом поднялась пыль. Но главным было то, что на блаженном лице Старого волка проскользнули какие-то детские недовольство и досада, будто его от просмотра мультиков отвлекли, или игрушку любимую отобрали. А правая рука дёрнулась по направлению к нижней части живота и паху. Не достигнув цели, еле уловимо, тут же упав обратно на кошму, разумеется. Но мне и этого было уже достаточно.
– Гнат, Ян, работаем! – я постарался устроиться поудобнее на жёстких досках, хотя недавняя память и говорила, что тут как ни сядь, удобства не будет.
Под правой рукой скатертью-самобранкой развернулась скатка полевого хирургического набора, совсем недавно продемонстрированного Шарукану. Хан снова вздрогнул и подался всем телом вперёд, но со скамьи не встал. Лишь сместился чуть, чтобы видеть отца в окружении чужаков через плечо Немого.
Я, пожалуй, не хотел бы оказаться на его месте. Отец и сын при смерти, из своих на лодье четыре безоружных воина, которые, может, и преданные, и умелые, но про князя русов и его ближников оставшиеся в живых торки рассказывали такое, во что верилось с большим трудом. Только вот рассказчиков тех было много и говорили они одно и то же, слово в слово. Двое с лицами убийц замерли возле Чародея, что хмуро ощупывал Ясинь-хана, и, судя по всему, был очень разочарован увиденным. Тот, у которого морда будто из кусков криво сшита, Ян, кажется, стоял на коленях так, точно у него кол внутри торчал. Воевода Рысь, стеречься которого велели в один голос все ка́мы, застыл напротив с лицом, предвещавшим близкую смерть. Голова сына была в руках жены князя, непонятной бабы, что пела, казалось, беспрерывно, не наполняя грудь воздухом. И кто знает, вдруг она тоже обучена шеи сворачивать? Голубые глаза хана метались меж узкими ве́ками, будто ища хоть что-то, на чём остановиться и передохнуть. И не находя.
Я же думал лишь о том, что времени нет совсем, ни минут, ни секунд лишних. И о том, что в этот раз у меня есть не только "анестезиолог", но и ассистенты, да аж двое. Правда, опыта у них – слёзы. Ровно на две свиных туши, что мы успели разобрать. Этого хватило только для того, чтобы Гнат с Немым перестали дёргаться от каждого движения скальпеля и ножниц, и научились отличать зажим от пинцета. Которые Рысь прозвал «хва́том» и «клювом», пёс его знает почему. Но с этими названиями дело почему-то пошло значительно шустрее. Руки у них обоих были твёрдыми, как у любого из лучших воинов и стрелков. Каждый из них мог одним рукопожатием сломать человеку минимум четыре пястных кости, да так, наверное, что я и в клинике не собрал бы обратно. Держать края раны и подавать нужные инструменты им было по-прежнему страшновато и непривычно. Ну а мне по-прежнему приходилось использовать то, что имелось. С одной стороны – неизвестная пока болячка. С другой – двое матёрых убийц с музейным пыточным набором. Хотя нет, со мной трое. Но на нашей стороне был и козырь. В этом мире, в этом времени никто не знал анатомию, физиологию и хирургию лучше меня. Знания и навыки. Ещё бы везение не помешало, конечно…
Операционное поле протирал проклятой сивухой раз пять. Сперва тряпки становились аж чёрными, стоило лишь буквально пару раз провести по животу. Дай-то Бог, если они десятилетиями в такой грязище живут нормально, чтоб и к воспалениям какая-никакая устойчивость у них была. Очень кстати оказалось бы.
Доверить обработку Гнату не решился. Одно дело – свиная туша, и совсем другое – отец соседского вождя, живой пока, хоть и еле-еле. Нажми Рысь чуть сильнее – аппендикс лопнет, и дела не будет. Лечить гнойный перитонит мне тут нечем, не с чем и негде. Да и незачем. Поэтому обрабатывал сам, как сапёр, едва касаясь и почти не дыша. И разрез делал так же. Шарукан не усидел-таки на лавке, перебрался к Ясинь-хану, уселся возле головы, а руки положил ему на плечи. Я лишь кивнул благодарно. Только плясок невменяемого пациента нам тут и недоставало.
В полость заходил ещё медленнее и осторожнее. Если сравнивать, то не просто, как сапёр, а как сапёр с лютого похмелья, выверяя движения пальцев до сотых, до тысячных, кажется, долей миллиметра. А потом увидел, что догадка подтвердилась.
Я оперировал больше полувека. Я повидал много из того, о чём большинство людей даже не догадывается. Но подобного не встречал ни разу. Это даже на аппендикс похоже не было. Казалось, что навстречу мне из старика лезет какая-то морская гусеница, судя по красно-жёлто-белому цвету – смертельно ядовитая. Так оно и было, в принципе. И то, что мы успели увидеться с ней – уже было чудом из тех, которых не бывает. Но этого мне снова было мало.
– Это не трогать, даже рядом не находиться! Лопнет – хана! – бросил я, пытаясь завести нити за это неожиданное чудище. Шарукан утёр пот с лица, что приобрело какой-то пепельный оттенок.
Подобраться к нужному месту было трудно, неудобно и постоянно сохранялась опасность, что этот гнойный пузырь лопнет и изольётся в брюшную полость. Тогда деда, лежавшего неподвижно с тем же отрешённым выражением лица, останется только зарезать тут же, чтоб не мучился. Но пока шансы на другое развитие событий оставались. Значит, думать о плохом было рано.
Левая рука наложила-таки узел и затянула его. Рядом второй. Между ними скользнуло остриё скальпеля – и жирная ядовитая гусеница сантиметров пятнадцати длиной осталась у меня на правой ладони. Нервно и тревожно подрагивая, как желе, медуза или наполненный водой воздушный шарик. Вот тут уж я и в самом деле перестал дышать.
Эта дрянь всё-таки лопнула. Тонкая, туго натянутая оболочка разошлась лоскутами, и зловонное гнойное содержимое заляпало кошму, руку, рубаху и порты. Мне. Ну и Рыси чуть досталось. Но в рану не попало ничего, и это было очередным чудом. Вторым из тех, каких не бывает никогда в жизни. Тем более два раза подряд.
Я тщательно обработал резавшей глаза сивухой руки, от локтей, до своих не по-здешнему коротких ногтей. И послойно зашил брюшину. И едва отложил иглу, как дед открыл глаза. Но не закричал и даже не дёрнулся. Глядя куда-то не то сквозь меня, не то прямо мне в мозг, он хрипло, шаркая сухим языком по пересохшим губам, проговорил что-то на своём, довольно долго и неожиданно осмысленно. Шарукан склонился над его ухом и прошептал что-то в ответ.
– Сау бол, урус, – выговорил Старый волк, с видимым трудом и напряжением фокусируя взгляд на мне. Память князя подсказала, что это означало «будь здоров» и одновременно являлось благодарностью.
Моя же память аукнулась старым забытым словом, что было в ходу у нас на целине, в моей давно прошедшей или ещё не наступившей юности. «Хоб» – так там скрепляли договорённости и выражали согласие. Если память не врала – переводилось на русский это как-то, вроде «пусть так будет» или «да будет так». Казахский «аминь», короче говоря.
– Сау бол, хан. Хоб! – отозвался я почти без паузы, не отрываясь от нанесения монастырской мази на шов. Заметив лишь краем глаза, как дрогнула бровь у Старого волка. Сын его, чьи руки так и лежали на плечах отца, вздрогнул в очередной раз весь целиком.
Холстина с лиственничной смолой была так себе пластырем, откровенно говоря. Но, как говорил в мои времена один давно покойный сибирский юморист с красной мордой: «Картошка, ежели с маслом – она в пять раз вкуснее, чем нихрена!». Как говорится, у других и такого нет, да и у тебя два дня назад и этого не было, так что не греши, Врач, нечего перебирать, не тот расклад. Залепив шов, одновременно рассказывая хану, что тут же переводил на ухо отцу, что двигаться резко нельзя, что постельный или напольный – как у них тут, не знаю – режим, я перебрался к Сырчану и срезал заскорузлые тряпки с правой ноги.
– Ах ты ж ма-а-ать, – хором и с совершенно одинаковой интонацией протянули Всеслав внутри и Рысь снаружи. И, если б не Дарёна, что сглотнула, отвела глаза а потом и вовсе зажмурилась, я бы непременно мысль эту развил. Многоэтажно, с загибами имени Петра Алексеевича Романова. До которого тоже лет семьсот ещё.
Если не вдаваться в подробности – то несколько дней назад это был открытый перелом берцовых костей в верхней трети. Сейчас же это было полное говно.
Молодому парню, сыну вождя, первенцу, оказали, видимо, помощь. Перетянули ногу выше перелома, а потом нагрузив его опиумом или чем там ещё, попробовали вправить-сложить на место кость. Не снимая сапога. Никогда ещё мне не хотелось пообщаться с предыдущим лечащим врачом своего пациента настолько сильно, как сейчас. Видят Боги, про которых шептал что-то, морщась от вида и от вони Всеслав, убить коллегу я, может, и не убил бы, но на руках его попрыгал бы каблуками от души. Чтоб он чисто физически не смог больше никого так лечить, как ханского сына. И мысль эта меня, признаться, удивила. Вспыльчивым я, случалось, бывал, но тут уж был прям перебор даже для меня. Наверное, средневековый антураж и соседство с оборотнем-князем так повлияло. Или то, что меня сперва раздавило в брызги тяжеленными дубовыми брёвнами, под которыми я после и сгорел дотла.
Но как бы то ни было, парень дышал. Дарёна, у которой по той щеке, что была видна мне, текла из зажмуренного глаза слеза, продолжала выводить мотив про туман над рекой. По обе стороны от меня ждали приказов Рысь и Немой. Сдаваться было некогда.
Глава 4. Знания и навыки
Единственным удачным моментом было то, что верёвку, ремень или чем там перетянули над коленом ногу Сырчана перед тем, как «вправить перелом», всё-таки сняли после того, как, видимо, окончательно удовлетворились видом изуродованной голени. Или просто решили, что сын хана помрёт что со жгутом, что без него, если на то будет воля Великого Тенгри. За неполных три дня рана, из которой по-прежнему торчал отломок большой берцовой, превратилась в воспалённый кусок мяса.
Вспомнились лекции из истории медицины, когда в такие заражённые раны подсаживали опарышей, чтобы те выедали гнилостные участки. Иногда, вроде как, даже помогало. Но мои знания и опыт как-то очень скептически относились к червякам в живом человеке. Потом – пожалуйста, против природы не попрёшь. Но пока стоило попробовать другие методы. Резко прогрессивные, пусть и с помощью музейного инвентаря. Но уж чем богаты.
Чистить пришлось много. Радовало только то, что осень уже развернулась в полный рост, дни были прохладными, а ночами начинало ощутимо подмораживать. На летней жаре за эти двое с небольшим суток рана воспалилась и загнила бы гораздо сильнее. И так-то дело было швах, откровенно говоря. Но когда удалось добраться до здоровых тканей, начало казаться, что шансы есть. Один из миллиона, как всегда. И второй – на чудо. Лимит которых сегодня, вроде бы, был исчерпан на две жизни вперёд.
…Пока я варил на теремно́й кухне в чём-то, похожем на глубокую сковородку или мелкий таз, серебряные штыри и проволоку, которые принесли Свен с Фомой, вместе с изогнутым зажимом Кохера, который Рысь тут же окрестил «кривым хватом», Дарёна с Домной и Немым смотрели на меня с нескрываемой тревогой. В их понимании увиденное ничем, кроме колдовства, быть не могло. И все мои рассказы про микробов и бактерий, невидимых глазу врагов всего живого, понимания в них не находили. А голландцу Левенгуку, придумавшему и собравшему первый микроскоп, с помощью которого можно было бы подтвердить мои сказки наглядно, предстояло родиться только лет через шестьсот. Инвентарь, свёрнутый в холстину, прокалённую в бане, натопленной по-Гнатовому, куда только пожарным в форме и заходить, лежал и ждал своего часа в плотно, насколько это было возможно, закрытом ларце. И вот дождался.
Когда я потянул ногу к себе, остолбенели все. Зашелестел что-то хрипло Ясинь, неожиданно громко заскрипел зубами Шарукан, ахнула, оборвав напев, княгиня. На их глазах голень приняла привычную, не жёванную форму, и длина ног парня сравнялась. Звук, с которым в ране сыро скрежетнули друг о друга концы берцовой кости, заставил моих ассистентов, хладнокровных и кровожадных, вздрогнуть. Ян выронил зажим и сунулся было подхватить его с заляпанной кровью кошмы.
– Нет! Новый хват бери! Помнишь же: что упало – то пропало, – еле успел остановить его я.
Пара штырей-спиц расположилась с обеих сторон кости. Отломки, что промыл-протряс в канопке с сивухой и смазал снаружи монастырским снадобьем, улеглись на свои места, как в детской головоломке. Только эта, наша, была ни разу не детской. В этом времени, наверное, ногу из кусков собирали впервые. Грубовато сделанные зажимы без зубцов-кремальер держали серебряную проволоку откровенно говоря хреново, поэтому придуманная мной «обвязка» заняла много времени. Но результат меня в принципе устроил. И подумалось о том, что следующим заказом для рукодельных родственников, Фомы и Свена, будет нормальный бикс для стерилизации инструмента и компрессионно-дистракционный аппарат. Должны справиться, думаю. Заодно вспомнилось, как я давным-давно потратил отпуск на то, что доехал до далёкого Кургана, где целую неделю учился и стажировался в НИИ экспериментальной и клинической ортопедии и травматологии у самого́ Гавриила Абрамовича Илизарова. Уж кольца да спицы тутошним мастерам выковать точно под силу. Осталось только вспомнить, как резьбу нареза́ют, и чем. Пока ни одного винтового соединения на глаза что-то не попадалось.
Руки тем временем собирали ткани вокруг кости, что выглядела в серебряной оплётке, как мечта арматурщика-лилипута. Но придраться мне было, вроде бы, не к чему. Заложив дренаж, свёл и сшил при помощи изумлённых ассистентов края раны.
– Гнат, две доски нужны, чистые, вот такой длины, вот такой ширины, – показал я другу окровавленными ладонями нужные размеры. Тот молча кивнул, поднялся с колен с хищной плавной грацией и в три шага слетел с лодьи.
– Янко, найдёшь тут ведро с верёвкой? Не везёт мне что-то с лодками последнее время: как ни попаду на какую, так обязательно в кровище уделаюсь весь!
Напряжение начинало понемногу отпускать. То, что Сырчан дышал, и сердце у него билось, очень обнадёживало. Гарантий успеха, разумеется, не было никаких, кроме, пожалуй, того, что в гробу, или в чём тут степняки хоронят своих покойников, он будет лежать с ногами одинаковой длины. Но почему-то казалось, что два чуда в один день – не предел. Почему бы, спрашивается, Богам не расщедриться и на третье?
– Отец говорит, за сотворённые тобой чудеса дети Степи должны омывать твои руки и ноги слезами, – прочистив горло, выдал вдруг Шарукан, послушав отрывистые хриплые фразы отца.
– Ясинь-хан слишком долго пил маковый отвар и вдыхал дым маковой смолы. Мы с тобой условились обо всём там, на берегу, – я ткнул большим пальцем за плечо, туда, где князь и хан провели первое мирное заседание. – И о чудесах говорить пока точно рано. Я предлагаю тебе подождать воли Великого Тенгри вместе со мной, в моём городе. Вечное Синее Небо ответит, будет ли жить твой отец, в течение седмицы, а над судьбой Сырчана подумает дольше, никак не меньше одной-двух лун. Они будут гостями в моём доме, там я смогу попробовать помочь Небу принять верное решение. Будь гостем и ты со своими людьми, Шарукан.
Приглашал я его, переводившего мою речь Старому волку, закрепляя шины на ноге сына. И, судя по молчаливому одобрению князя, лишнего, вроде, пока не ляпнул. Пора было отходить на «второй план», медицина кончилась, а в политике я разбирался значительно слабее.
– Ты и твои люди можете разместиться на берегу или в домах единоверцев-земляков в городе. Ясинь и Сырчан должны много спать и есть особую лечебную пищу. Они не будут пленниками или заложниками, хан. Любой из твоих людей, как и ты сам, сможет быть рядом или приходить в любое время. Лучше будет, если мы с женой окажемся поблизости, когда им станет хуже. Будет очень жаль, если вся работа пойдёт прахом. Но решать тебе, добрый сосед, – вернувший себе управление Всеслав снова говорил спокойно и размеренно, без давления. И исключительно чистую правду.
– Я принимаю твоё гостеприимное приглашение, князь, – отозвался хан, выслушав шёпот отца и не сводя глаз с ровно поднимавшейся и опускавшейся груди сына. – Мне будет интересно посмотреть на твой дом и на твой город. И нам есть, о чём поговорить. О жёлтых камнях, слезах холодного моря. О кораблях, что возят их. О призраке без бороды, у которого руки и голова приставлены к туловищу задом наперёд, которого видел здесь отец.
Гнат с Немым мгновенно освободили руки, отпустив шкуру-скатку и инвентарь, что собирали на отдельной тряпке. Видно по ним ничего, кажется, не было, но их напряжение и готовность к бою чувствовались отчётливо. И были тут ну вот совершенно ни к чему.
– Я уже говорил про маковую смолу, Шарукан. С неё и не то привидеться может, – тон Всеслава не поменялся ничуть. Собой он владел великолепно, я бы не смог так, пожалуй. Фигурой «с головой наоборот» наверняка был я сам – в ночных застольных разговорах с князем на мне всегда был привычный по той, первой, жизни белый халат, завязанный на спине. Здесь так вряд ли носили, и понять тревогу старика было можно. А ещё хотелось узнать, как он умудрился меня разглядеть? Хотя, кому бы ещё видеть души покойников, как не умирающему, да под конской дозой опиатов?
– Ты прав, поговорить нам найдётся о чём. Чьи люди понесут твою родню на мой двор? На полотне нужно, бережно очень, – продолжил князь, давая понять, что байку про призрака услышал, но обсуждать здесь и сейчас не планировал.
– Мои справятся, Всеслав. Укажите только дорогу, – кивнул хан, соглашаясь с предложенными правилами.
– Гнат, сделай путь к терему пустым и чистым. И чтобы Яновы глазастые ребятки наверху, а Ждановы плечистые внизу. Мне не нужны камни, крики или хотя бы косые взгляды от тех, чьи родные не вернулись с поля возле Альты-реки.
Рысь кивнул, поднялся и начал «семафорить» двумя руками, удивляя степняков. Под его дирижёрские взмахи задвигались, меняя очертания, и заслоны на причалах и цепи периметра выше по берегу. С крыш и деревьев посыпались парни с луками, до этих пор вряд ли замеченные гостями из Великой Степи.
Домна отвела болящим горницу ближе ко всходу. Видимо, для того, чтобы их посетители не болтались по всему княжьему терему – режимный объект, как-никак. Шарукан с двумя молчаливыми крепкими половцами расстелили коврики возле широких лавок, на которых их воины уложили очень бережно Ясиня и Сырчана. Дед щурил слезившиеся глаза по сторонам всю дорогу с берега. Парень в себя так и не приходил, но и опасений пока не вызывал: дышал сам, пульс был в пределах нормы, и даже жа́ра особого не было.
В тот вечер мы ужинали «расширенным составом». Помимо сотников и тайных советников я пригласил за стол и "зарубежных гостей". Старательно игнорируя настойчиво-яркую мимику Ставра и Юрия. Мне их эмоции были вполне понятны – Степь с тех времён, когда Святослав Храбрый разбил и покорил хазар, была враждебной, и при любой возможности налетала на русские земли, грабя, убивая и уводя в плен наших людей. Но нам со Всеславом было на это наплевать. То, что планировал князь, начинало сбываться, и мысли остальных по этому поводу его волновали мало. А вот то, что Алесь разговорился с молчавшим до последнего Сункаром, что был кем-то вроде начальника кавалерии у Шарукана, интересовало гораздо сильнее. Коллеги обсудили преимущества и недостатки разных пород коней, искренне радуясь, что нашли друг в друге экспертов высокого уровня. Приятно, что ни говори, наблюдать за увлечёнными профессионалами. Князь время от времени поглядывал на тот край стола, где эти двое переговаривались на лютой смеси двух языков, помогая себе жестами, и думал о том, что вопрос с пятью сотнями коней Алесь наверняка сможет решить неожиданно быстро. Второй степняк, Байгар, был у хана тем же, кем у Всеслава Рысь. С ними по пути с берега тоже вышла хохма.
– Своим наказы раздаёт. Велит вежество знать и вести себя, будто к старшему в юрту вошли. Слуг не задирать, людей не бить, баб без сговора не тискать, – снова будто не разжимая губ переводил Гнат отрывистые окрики, что разлетались над берегом. Половцы кланялись хану, показывая, что волю поняли и обязуются исполнить. Если кто из них и был удивлён приказам, то понять это по каменно-спокойным скуластым мордам было невозможно.
– Эва как, – одобрительно протянул Всеслав. – Удивил Шарукан. Но пока ладно всё идёт, пусть так и дальше будет. Ты бы сошёлся поближе с кем-то из их старшин, Гнатка.
Рысь поднял бровь, будто намекая, что неплохо было бы каждому своим делом заниматься. Но князь продолжал, словно не заметив этого.
– Глядишь, укажешь какую-нибудь улочку неприметную, где вдовицы весёлые живут. Кто знает, может, и не все из его воев совладать с искусом смогут. Не мне тебя учить, сам всё понимаешь. Заодно и приглядят наши, чтоб беды да свары не вышло. Нехорошо это, если гости с хозяевами сразу ругаться станут. И не ко времени очень. Вот совсем прямо не ко времени.
– Понял, Слав. Пригляжу, – кивнул он, водя глазами по рядам половцев. Будто выбирая жертву. А наткнувшись на ровно такой же взгляд навстречу, кивнул и направился к одноглазому воину, что появился перед строем степняков будто по волшебству. Это и был Байгар.
По результатам встречи и переговоров глав разведок было уговорено, что к колодцам и воротам гостям, при всём к ним хозяйском уважении, лучше лишний раз не ходить, особенно ночами, так же, как и к темницам-порубам. Можно, но нежелательно, во избежание, как говорится. В остальном же – добро пожаловать, гости дорогие. Судя по тому, как хлопали друг друга по плечам эти двое, расходясь по сторонам едва ли не лучшими друзьями, знакомство прошло успешно. Ну, или нет – этих шпионов-разведчиков ни в одном из виденных мной времён сам чёрт не разберёт. То обнимаются, то шило ядовитое под рёбра вгонят, не снимая улыбки с лица. Что поделать, работа такая.
Когда гости отправились после ужина в отведённую им горницу, сходил с ними. Деда накормили слабым бульоном и снабдили отваром шиповника с ещё какими-то укрепляющими травами и ягодами, который он цедил с видимым удовольствием. И смотрел с завистью на Сырчана, налегавшего на творог и печёные яблоки, две корзины которых прислали монахи из своего сада. То, что у парня прорезался аппетит, радовало несказанно. Как и то, что отвар ивовой и осиновой коры, пижмы и полыни ещё с какими-то неизвестными мне травами и кореньями он принимал безропотно, как и пергу с прополисом. Оставалось надеяться, что эффект от них будет хоть какой-то. Антоний уверял, что при «заветренных ранах» это всегда помогало.
Вернувшись за стол, встретился глазами со Ставром.
– Кониной потной терем провоняет теперь, – брюзгливо начал старый воин. Но в глазах его было что-то кроме старческой скандальности. Да и она-то, кажется, была фальшивой.
– Ага, – согласно кивнул Всеслав, потягивая сбитень.
– Чего в дом-то натащил бесов этих пыльных? На них блох, поди, больше, чем на шавке последней! – не унимался дед. – Сидели бы повдоль берега, возле костров, как им и пристало, скулили бы тягомотину свою.
– Отмоются. В баньку сходят, с веничками. Поживут хоть по-людски, не всё ж мозолить задницы об лошадей, – спокойно продолжал князь, – глядишь, кому и понравится мирное да чистое житьё. А при свободном жилье гостей на землю за забором спать укладывать, чтоб небом укрывались, не по-русски, Ставр, – и взгляд Всеславов сделался острым. Дед вскинул боевито седую бороду, но сник разом, когда дедко Яр положил ему на плечо свою тёмную от вечного загара широкую морщинистую ладонь. И прикрыл глаза, чуть качнув головой, мол, «погоди, послушай пока».
– Пока половцы гости в моём доме. И на моей земле. Давно такого не бывало. И пока так длится – они не стреляют и не секут наших братьев и детей. Если Богам понравится это, дозволят они, чтобы внуки наши и правнуки со степняками жили дружно, мирно, по-соседски. За то, чтоб столько душ русских сберечь сейчас, да наперёд верную тропку проложить, я им, дед, в своей ложнице постелю, прямо с конями! Понял ли задумку мою, Ставр?!
Над столом повисла тишина. Притих даже маленький Рогволд, что было раскапризничался по вечернему времени.
– Уразумел, княже, – склонил голову инвалид. – Прав был Буривой, не след тебя с другими ровнять и по обычной мерке мерить. Ты, знать, как и он сам, на три перестрела вперёд глядишь, за тёмным лесом дорогу видишь даже там, где не бывал сроду.
– Мы с вами, други, дорогу ту сами торим. И от нас одних зависит, куда выведет та стёжка. И какой ей быть – широкой да светлой, или в ямах да буераках, со вражьими стрелами за каждым кустом. Ты тогда, на берегу, верно сказал, дедко. Просить Богов каждый может. А вот клятву дать да сдержать её, на свои силы надеясь, не всякому по плечу. Я хочу, чтобы путь был светлым и чистым, и чтоб шли мы по нему без опаски. И всё, что в силах моих, для этого сделаю. И от каждого того же ждать буду. И заставлять, приди нужда.
Казалось, усталость долгого и богатого на события дня ушла из голоса Всеслава. И говорил он твёрдо, пусть и негромко. А перед глазами его словно расстилалась та самая дорога, о которой шла речь. Путь русской земли в призрачном мареве, называемом будущим. И это видели и чувствовали все в горнице.
– Потому что у нас не тряпки да злато-серебро на кону. Каждый живой воин семью создаст, детишек народит. А те – своих детишек, как и заведено. И если я ратника того не сберегу, положу в сече дурной да ненужной за то, чтоб сейчас сидеть выше да мягче, жрать сытнее, я всех, кто в мир от него народиться мог, убью. Десятки, Ставр, жизней, сотни душ за каждым, если чуть дальше носа своего глянуть. Именно поэтому буду заставлять и требовать. Строго. С любого. И плевать мне, свой ли, чужой.
– Благодарствую за науку, княже, – седая голова старого убийцы склонилась ещё ниже, так, что борода легла на стол.
– Тяжела твоя доля, Славка. Но счастье наше в том, что понимаешь ты её верно, да не бежишь от неё. Сам говорю тебе, и всем, кто слушает меня, передам слова эти. Вместе той дорогой пойдём, докуда сил достанет. И детям-внукам задел добрый оставим.
Голос деда Яра, старого седого медведя из Полоцкой дубравы, могучего волхва и учителя-воспитателя Всеслава, дрогнул лишь в самом конце, на словах о детях. И голову он склонил так же низко, как и Ставр.
Глава 5. Лесостепь
Интересно, всё-таки, устроена жизнь. Я пережил три войны, чёртову гору генеральных и первых секретарей, и даже нескольких президентов. Навидался всякого. Но не утратил способности удивляться и радоваться, даже незначительным, казалось бы, мелочам. Робким, еле заметным лучам восходящего Солнца. Причудливым узорам инея на траве, что пропадали уже к завтраку. Даже сонным осенним мухам. Наверное, поэтому и довелось мне пожить дальше, пусть и так неожиданно, то деля тело с древнерусским князем, то, вот как сейчас, наблюдая за подворьем, как будто сидя на крыше княжьего терема.
Вчерашний разговор крепко засел в памяти, и в моей, и во Всеславовой. И у каждого, кто был за столом, надо думать. Но сомнений ни в одном из сказанных слов не было. Была лишь знакомая железобетонно-твёрдая уверенность в том, что всё задуманное было верным и правильным. Оставалось только достичь поставленных целей.
На ступенях лестницы-всхода сидели бок о бок, неслышно о чём-то переговариваясь, Рысь с Байгаром. Чуть поодаль, возле костерка, расположился десяток половцев. Семеро спали вповалку на каких-то шерстяных подстилках цвета старой грязи, трое бдили, поглядывая, чтобы дымок костра не особо тянуло к окнам. Один из них еле слышно выводил какой-то протяжный бесконечный напев. Со стороны кухни тянуло чем-то съестным, вроде разваристой кашей с жёлтым, как сыр, коровьим маслом.
На крыльцо вышла боком давешняя корова-Маланья, держа закрытый котёл. За ней следом показалась Домна с двумя пари́вшими на утреннем морозце корчажками в руках. Вручила их с вежливым, но сдержанным поклоном, главам конкурирующих спецслужб, зябко поёжилась и зашла обратно в сени. Воеводы грели руки о горячие глиняные бока посуды, с отеческой благостностью и миролюбием глядя, как толстуха щедро шлёпает черпаком в миски половецкого десятка густую кашу. Руки тянули все, проспать завтрак, видимо, считалось позорной глупостью в любой из армий каждого из времён. Картинка была настолько мирной и умильной, что когда пространство снова закружило меня в водоворот, я бы искренне улыбался. Будь у меня в этой бестелесной форме лицо.
Но едва сознание привычно заняло место «за плечом» князя, что осторожно утирал после умывания бороду, опасаясь разбудить сына и улыбавшуюся во сне жену, как губы разошлись и у Чародея. Наши памяти как-то наловчились мгновенно меняться образами, и увиденная картина утреннего двора Всеславу тоже пришлась по душе.
Пациенты чувствовали себя нормально. Деда предсказуемо штормило после почти недели на морфиновой диете, и выглядел он очень уставшим. Но от еды и питья не отказывался, просто на вопросы отвечал явно нехотя и через силу. Шов был в порядке, температуры, вроде бы, не было.
Сырчан наоборот удивил общительностью и тем, что по-русски шпарил без запинки, с тем же, что и у отца, лёгким акцентом. А ещё удивила рана, которую на ночь я обвязал капустными листьями. Отёк на ноге почти исчез, а лёгкое покраснение возле нескольких стежков было вполне в пределах нормы. Феодосий, что взялся помогать болящим, пусть и не православным, предложил к капусте добавить давленой моркови, которая, как он уверял, «тоже хорошо вытягивает». Я согласился, дав добро. Пожалуй, будет толк из него. Насчёт по духовной линии – не знаю, не ко мне вопрос, а вот интерес ко врачебному делу у него искренний, неподдельный. Примерно такой же, с каким смотрел на меня Шарукан, не отходивший от изголовья отцовской лавки.
Выйдя на крыльцо, махнул рукой подскочившим было министрам обороны и уселся между ними.
– Ну, как ночь прошла? – поинтересовался Чародей у разведки.
– Тишь да гладь, княже, – отозвался Рысь тут же. – Гостям никто обиды не чинил, и сами они вполне себе мирно ночевали. К лодьям их сунулись было одни, глянуть, вдруг что лежало плохо? Но там рядом Ти́тов десяток дремал сторо́жко, они и объяснили, что всё правильно лежит, хорошо, как великий князь велел.
– Все живы хоть из проверяльщиков ночных? – хмыкнул Всеслав. Тит и его парни были, конечно, не такими суровыми, как Лютовы. Но простых ратников в Гнатовой сотне не водилось. Ти́товы могли притаиться, кажется, посреди пустой горницы белым днём так, что мимо пройдёшь – не заметишь. А уж ножи метали как.
– Ну а как же? – фальшиво возмутился Рысь. – Мы ж не душегубы какие!
От этого его насквозь сомнительного утверждения одинаково понимающие улыбки расцвели у всех троих.
– А пойдём, Гнатка, мечами постучим чуток. Зябко поутру, – повёл плечами Всеслав и поднялся со ступенек. Друг шагнул следом. Байгар проводил их характерным для мудрого восточного человека взглядом, смесью понимающей улыбки и вечной профессиональной настороженности, глубоко скрытой под чуть прикрытыми ве́ками.
Привычная медленная пляска с мечами была, понятное дело, ширмой, прикрытием для отвода глаз. Ну, пошли князь с воеводой поразмяться, чего такого? А на самом деле Всеслав собирал сведения, получал, как в моё время говорили, актуальные сводки с лент информагентств, пользуясь умением друга говорить, почти не размыкая губ, и своим – слышать еле уловимо сказанное им сквозь перезвон железа. Эдакое комплексное упражнение для ума и тела, концентрация, недоступная многим.
– У пору́ба шныряли, вопросы задавали на торгу. Не верят, что в яме у тебя целый митрополит сидит, – неслышно доложил Рысь, смещаясь так, чтобы к крыльцу князь оказался спиной.
– Правильно делают. Он же не в пору́бе. Да и не целый уж, поди? – поддел Всеслав друга.
– Ну, есть немного. Помогли гниде вспомнить кое-чего. А то вздумал он в великомученика играть. Не всем везёт помереть быстро, можно и медленно, – ответил Гнат, и в глазах его будто мелькнула сама смерть, равнодушная и от этого ещё более страшная.
– Ещё что? – спросил Чародей, выписывая вензеля клинком, что с шумом рвал звонкий студёный воздух вокруг.
– Ясинь за ночь сыну с внуком всю плешь проел насчёт тебя. Мол, колдун ты редкий. У них слово такое нарочное есть, вроде как «ду́хами одержимый». Про тебя как-то иначе оно звучало. Будто не ду́хи тобой управляют, а ты ими. В степи одержимых уважают и боятся. А таких, у кого те ду́хи на побегушках, как у тебя, так и подавно.
– Лишним точно не будет, – кивнул Всеслав. – Дальше давай.
– Байгар намекнул, что у них сейчас тоже один проповедник гостит. Часто, вроде как, приезжает, с давних пор. И всегда находит что Ясиня, что Шарукана, где бы не кочевали табуны. Трое, что близко с тем латинянином общались, на Подоле в корчме на постой остановились. Смотрят за ними.
Мечи сходились плашмя, как раз в те моменты, когда Рысь заканчивал предложение. Внимательно глядя в начинавшие темнеть глаза князя.
– Давно гостит? – в голосе Чародея слышались нетерпение и какая-то догадка, в которой он будто бы очень хотел ошибиться.
– Давно. За две луны до битвы на Альте приплыл. С подарками богатыми. На те подарки с трёх дальних кочевий воины подтянуться успели, о которых Ярославичи не знали. Тише, Слав, убьёшь ведь, – отступил, сорвав дистанцию, Рысь. А князь сбавил темп, что значительно вырос от этих новых данных.
Некоторое время двигались в тишине.
– Сходим сегодня с ханом к Егору, побеседуем. Но сперва – к Софии, после обедни. Собери народ. Если уж Ставру с Юрием объяснять пришлось, то и люду киевскому знать правду не помешает. Тем более такую. – Всеслав вновь говорил тихо и ровно, как тот самый Левитановский метроном из моей памяти. – Узнай у Байгара, есть ли у него в Царьграде верные люди. Надо паскуду одну отравить. Нет, не одну, пожалуй. Додумаю – скажу.
– Добро, – кивнул Гнат, салютуя мечом, завершая тренировочный поединок-планёрку. И крикнул соколом, от чего вздрогнули и принялись изучать серые тучи половцы.
Князь шёл к Домне, что привычно вынесла воды и утереться. А мимо него к Рыси бежал один из Гнатовых, которого на дворе только что совершенно точно не было.
Завтракали тоже «расширенно», но сегодня никто на половецких гостей не косился и бровь не супил.
– А верно ли говорят, Шарукан, что гостит в землях твоих монах с земель италийских? – вполне светским тоном осведомился князь.
– Верно. Игнациус его имя, – отложив ложку и переглянувшись с чуть прикрывшим веки Байгаром, ответил хан.
– И частый гость тот Игнатий? – вроде как без особого интереса продолжал Всеслав.
– Ещё к отцу приезжал, деда моего помнит. В свою веру обращать не спешит, так, сказки про Нового Бога рассказывает, – с тем лицом, что было сейчас на невозмутимом обычно Степном волке, только по чужим минным полям бегать.
– Это они завсегда, точно, – согласно кивнул князь. – Мол, прости дикарей, ибо не ведают они, что творят. Вот только соседей промеж собой ссорить их Бог не велел, вроде бы. И привозить одному золота целыми телегами, а второму в эту же пору подсунуть выгодную сделку, чтоб все живые деньги выдернуть из казны, как-то не по-Божески выглядит, думаю. Дрянная история выходит…
Шарукан рассказал, что Игнациус такое проделывал не впервые. Бывало, и про торговые караваны русских лодок со слабой охраной предупреждал. И о том, что князья с дружинами своими на восход или на полночь отправились. И не было заметно, чтобы рассказ этот доставлял ему удовольствие. От дедо́в же, что от Ставра, что от Юрия, и вовсе можно было, наверное, лучину поджигать.
– Пойдём, добрый сосед, по городу пройдёмся. Нам по-прежнему много о чём есть поговорить. Рома, Глеб, пойдём тоже. А ты, Ставр, помнишь ли, где в первый раз встретились? Подходи с людьми верными, ближними. Сказку послушаете…
Напряжённый старик лишь кивнул коротко, давая понять, что понял и будет.
По городу шли неторопливо. Народу было мало, утро, кто делами занят, кто в храм к обедне пошёл. Я только сейчас понял с удивлением, что всю свою долгую жизнь ошибался, считая, что раз обедня, то и служить её должны после полудня. На деле же литургия начиналась утром и длилась часа полтора-два по ощущениям. Часов, чтоб их проверить, в одиннадцатом веке на Руси не было. Счастливые люди как-то справлялись и без них, по Солнышку жили.
Хан молчал, как и сыновья, шагавшие следом. От Вара с Немым тоже ожидать лишней общительности не стоило, как и всегда.
– Всеслав, – начал было кочевой вождь, но князь поднял руку, прервав его.
– Погоди, Шарукан. Ясно, что ромеи играли грязно. Что с вами им выгоднее было торговать и подманивать-приручать, как ловчих соколов. Ошибёшься – и ищи вас потом по всей Степи, как ветра в поле. Мы же привыкли на своей земле жить, хлеб растить, детей. Богатые края, много кому глаз слепит чужое добро. А у греков да латинян заведено так, чтоб одних с другими стравить, а потом самим поживиться да руки погреть. Ох, удивятся они, когда наш с тобой уговор в полную силу вступит. Наплачутся, во́роны. Кто жив останется. Но об том после. Ты мне вот что скажи. Говорят, далеко на востоке, за Степью и высокими горами, народ живёт издавна, волосом чёрен, кожей жёлт, с лица на вас похож. В науках и торговле сведущ, и тайн у них много. Что вот те нити шёлковые, какими, сам видел, живых людей шить довелось. Их же, говорят, с каких-то гусениц снимают. Но берегут секрет тот страшно, никому чужому и глянуть не дают.
– Я слышал от людей про империю Сун и её тайны, – кивнул хан с явным интересом.
– Есть у них и другой секрет. Поднесут искру малую к трубке из дерева, что у них бамбук зовётся, и вылетает из той трубки пламя да гром, далеко. А ещё, бывает, в небо ночью нацелят, запа́лят – и дивные огни да цветы жёлто-алые в том небе расцветают под жуткий грохот.
– И об этой диковине слыхал, – он даже с шага сбился. – А к чему рассказ твой?
– К тому, что, доведись твоим людям случайно найти и привезти мне того, кто секрет этих небесных цветов знает, я бы за этого человека очень многое отдал. В каждой юрте на золоте бы ели твои люди, – задумчиво произнёс Всеслав, глядя на поднимавшуюся впереди к небу громадину Софийского собора.
– Я услышал тебя, добрый сосед, – прикрыл глаза, легко кивнув, хан. И заметно задумался. Как и шедший чуть позади него ровно с таким же видом Байгар.
Пропорции, в которых требовалось смешивать селитру, серу и угольную пыль я помнил с детских лет. Знал это теперь и князь. А вот соседям, даже добрым, знать об этом пока не следовало.
Нарядный народ выходил из храма, но по домам разбегаться не спешил. В разных местах островками собирались люди возле тех самых болтливых баб и мужиков, что нагнал в прошлый раз Гнат. И как только он всё успевал? И со «СМИ» поработать, и с разведкой степной, и ночные «расшифровки переговоров» наших гостей изучить. И, как говорится, «в целом», судя по тому, как заливисто хохотала давешняя блондинка, которой он походя по-хозяйски звонко хлопнул по заднице. Богатырь, что и говорить.
Всеслав поднялся на ступени, кивнув врио митрополита, отцу Ивану, как тот представился сам. Он был родом откуда-то с южных берегов Ладоги. Всю молодость отгулял не то с дружиной, не то с ватагой единомышленников, не упоминая имени князя, чей стяг носила та дружина, если это всё-таки была она. Хотя, по взгляду, осанке и разговору вполне можно было бы предположить, что князем или атаманом был он сам. Или компания была из товарищей старых, былинно-сказочных, где каждый ратник стоил по меньшей мере десятка нынешних. Батюшка был харизматичен: не имел двух пальцев на левой руке, зато имел три очень неприятных шрама на лице, походку профессионального моряка и нос не самого удачливого боксёра, от чего говорил довольно странно – гулко-гнусаво. Но удивительно лаконично и точно. Он служил в старейшей здешней церкви, где покоились мощи Владимира Святославича, который в моё время, кажется, был причислен к лику святых. В это – нет. Слишком сильна́ была память о событиях, с которых ещё и ста лет не минуло. Отца Ивана после одной из очередных заварух поставили на ноги монахи одного из старых и, так скажем, не ангажированных греческих монастырей. Он долго, пока лечился и проходил реабилитацию, спорил с ними о Писании и ценностях, о применимости христианских святых идей в насквозь грешном мире. Тамошние старцы восхищались живым умом дотошного руса и страшились его странной логики, которая, случалось, разбивала с беспощадной методичностью, как в бое на мечах, «незыблемые постулаты веры». Кончилось дело тем, что, поклонившись учителям и спасителям-лекарям, северный дикарь покинул горный монастырь с шестью другими монахами и отправился на Родину. Среди тех шестерых были швед, латгал, торк, новгородец, киянин и псковитянин.
Впервые увидев странного священника, я сразу вспомнил случай из «той» своей жизни. Тогда я приехал в соседнюю деревню, в магазин, за хлебом и молоком. Затарившись у болтливой продавщицы, вышел на крылечко, с трудом удерживая у груди батоны и картонные пакеты с красной буквой «М». И увидел попа́ в запылённой понизу чёрной рясе. Тот стоял столбом, задрав неожиданно коротко стриженую седую голову к утреннему летнему небу какого-то невообразимо бирюзового оттенка, чистому, без единого облачка.
– Красивый цвет у неба сегодня, – удивив самого́ себя, проговорил я вслух.
– Да. На купола Мазари-Шариф* похоже, – не оборачиваясь и не отводя глаз от высокой яркой синевы, хрипло согласился священник.
Батоны и пакеты с молоком я тогда, конечно, рассы́пал.
Кто бы знал, что Афган снова встретит меня на пороге сельмага в трёх с половиной тысячах километров на северо-запад, через три с лишним десятка лет?
* Мазари-Шариф – «Голубая мечеть», джума-мечеть и мавзолей, построена в XV веке. Купола и стены покрыты бирюзовыми изразцами.
Его тоже звали Иваном. В восемьдесят восьмом мы вполне могли пересечься с ним в коридорах Кабульского военного госпиталя. Но я его предсказуемо не помнил, а он знал только то, что ногу ему отнял какой-то афганец.
– Я её, помню, и в вертушке никому не отдавал, так и прикатили: лежу, к груди прижимаю. Кроссовок даже снял, чтоб, значит, антисанитарию в госпитале не создавать, – с грустной ухмылкой рассказывал он.
Мы сидели на крылечке аккуратной и, видно было, недавно подремонтированной избушки прямо возле деревенской церкви. Проходившие мимо палисадника бабульки вежливо здоровались, а он приветливо кивал им в ответ. Пряча рюмку в больших ладонях. В дом не пошли – уж больно было похоже бирюзовое небо на то, прозрачно-звенящее, недоступно-высокое, афганское. Что смотрело тогда равнодушно на бардак, вечно творимый людьми под ним.
– Вот, говорю, доктор: песочек смети́ только, да и пришей, дел-то на копейку! А он на ногу и не глянул, вниз только смотрел, туда, где не было её. А потом грустно так мне: «Нист, шурави, хараб. Мотасефам....».** А дальше маску кто-то сунул сзади. Очнулся – ноги нет, культяпка белая с красными и жёлтыми пятнами вместо неё. А у койки кроссовки стоят, оба… Это меня тогда больше всего разозлило. Дня четыре кололи чем-то, чтоб не матерился да не орал. А потом тот доктор мимо шёл и говорит: «Радуйся, шурави, что нога оторвало, а не башка!». И как-то сразу согласился я с ним тогда.
** «Нист, шурави, хараб. Мотасефам» – Нет, советский, плохо. Мне очень жаль (дари́).
А я тогда аж дёрнулся. Потому что этой фразе Муссу, Файзи, Рахмана и Сухейлу, тамошних подсоветных-хирургов, научил я. И так, путая падежи, её произносил только Мусса.
Ваня повидал всякого, прежде чем осесть в полуразвалившейся избе рядом с развалинами старой церкви. Но мужиком был крепким и настырным. Когда мы с женой ехали на рынок в тот последний день моей первой жизни, над его храмом блестели уже четыре ку́пола из пяти. Этот отец Иван чем-то был похож на него.
– Благослови, отче, – Всеслав склонил голову перед статной фигурой священника. Тот осенил князя крестным знамением и отошёл в сторону, глядя с тревогой. Но и с интересом.
– Слушай меня, люд киевский! – разнеслось над мгновенно притихшей толпой. – Митрополит Георгий захворал тяжко. Слышал я, что хочет патриарх ромейский нового прислать к нам, подменного. Хочу, братья и сёстры, совета вашего попросить. Не лишку ли греков учат нас, как Богу молиться? Неужто просить Его о помощи можно только через ромейских толмачей? Нешто Он по-нашему не разумеет?
Толпа молчала ошарашенно. Разинутые рты, распахнутые глаза, изумление и испуг в них.
– Вот отец Иван, наш, русский. Во святых монастырях подвизался, Писание знает наизусть. Всем вам он ведом и никому сроду в помощи да утешении не отказал. Чем не патриарх православный? Ответь, люд киевский, любо ли, чтоб был у нас наш, свой, русский пастырь, а не греки понаезжие?
Сердце стукнуло дважды. Перед третьим ударом площадь перед Софией взорвалась криком:
– Любо!!!
Удивляя князя, в толпе обнимались и плакали. Были, конечно, лица и обескураженные, и даже злые. Их, надо полагать, очень внимательно запоминали сощуренные против Солнца рысьи глаза за правым плечом.
– Благодарствую, люд честной, за решение твоё. Мне, не кривя душой скажу, оно тоже по сердцу. Но верю я, что не ошиблись мы! Что доверие наше оправдает Иван, первый патриарх церкви русской, православной!
Рёв, вой и гомон тянулись бесконечно, кажется. Хотя вряд ли больше минут пяти-семи. Но на этом неожиданный референдум-сюрприз Всеслав завершать не планировал.
– Сегодня здесь, рядом с нами, в этот важный день, когда русская церковь выросла и свою голову к небесам подняла, а не греческую, стоят люди из Великой степи, что прибыли только вчера, – летело над толпой дальше.
Злых лиц стало значительно больше. Но основная масса выглядела скорее растерянно. Слишком уж много неожиданностей для одного дня. А если прошедшую неделю вспомнить – так и вовсе сроду такого не бывало.
– Рядом со мной на ступенях святого русского храма, Софии Киевской, стоит Шарукан, великий хан половецкий. В моём тереме дорогими гостями сейчас живут его отец, почтенный Ясинь-хан, и сын Сырчан. Беда привела их к нам. Но с Божьей помощью удалось мне хворь отвратить от них.
Число растерянных лиц в толпе у подножия храма увеличилось кратно. Казалось, ни один человек в толпе, где шептался и хлопал глазами, наверное, весь город, не понимал, ни что происходит, ни что задумал Чародей. Я же только диву давался умению князя работать "с массами". Мне такое и не снилось. Я бы запорол речь уже давно, сказав с привычной прямотой о том, что дорогие гости живут пока.
– Мы много говорили с ханом. И вызнал я то, о чём велит мне рассказать вам клятва, данная принародно. Обещал я служить городу, стеречь покой его, порядок и Правду. Слушай же меня, люд киевский!
Всеслав говорил о латинских монахах, что замарались в подлых интригах, ровно и спокойно. Глядя, как расцветала ярость на совсем недавно растерянных лицах горожан. Рассказал о том, как «наводили» чужие священники степняков на речные и шедшие сушей мирные торговые караваны, заставив налиться краснотой лица богатых торговцев. И закончил тем, что объяснил, как можно было бы избежать Ярославичам кровавой резни с половцами на Альте. Просто, доступно, на пальцах. Ясно, что история сослагательного наклонения не знала. Но Чародей в первую очередь вершил здесь политику. Историю, конечно, тоже, но не она сейчас была во главе угла.
– Палить латинян!!! – раздался справа из глубин бушевавшего людского моря истошный вопль. Ожидаемый.
– Тихо! – тот самый рык, что словно ледяной водой окатывал, у Чародея по-прежнему получался на загляденье. – Взять и ко мне!
Хотя шумевшего и так уже тянули сквозь толпу Лявон, что недавно получал здесь наградное оружие, и громадный Вавила из Ждановых. Он, в принципе, мог бы обоих над головой на вытянутых руках нести не напрягаясь. Народ недобро гомонил. Ситуация становилась излишне напряжённой.
– Ну что ж вы, люди? – в голосе князя звучала искренняя печаль. – Вы же не воронья стая, чтоб грай поднимать всем разом. Не свора псов, что лай начинают, стоит лишь одной шавке через три забора тявкнуть. Вы – вольный и свободный народ стольного града Киева!
Площадь заткнулась и замерла моментально, вся. А таких распахнутых глаз у Шарукана Всеслав не видел со вчерашнего дня, когда вытянул из распоротого живота его отца ядовитую «гусеницу». Я же продолжал восхищаться мастерством манипуляции и ораторским искусством. Надо будет вечером поподробнее расспросить Всеслава про те книги по этике и риторике, полезное, оказывается, дело.
На земле сидел, затравленно озираясь, затрапезного вида мужичок с сальными волосами и налипшей прядкой квашеной капусты в бороде.
– Рысь! – повысил голос князь и дождался, пока Гнат шагнёт вперёд. – Пусть твои люди всё вызнают про него. Если просто пьяный дурак – отсыпь плетей для вразумления и отправь нужники чистить.
Народ заулыбался. А Чародей продолжил, не меняя тона:
– А если узнаешь, что он подсыл ромеев, ляхов или германцев, – повисла недолгая пауза, но за её время все улыбки как ветром сдуло, – то пусть всё, что знает, тебе расскажет. Птичкой пусть заливается. На дыбе!
Последнее слово звякнуло кандально, жёстко и угрожающе. Люди стали хмуриться и всплескивать руками. Да, братцы, поорать вместе с толпой – весело и нестрашно. Головой думать куда труднее. Но бывает полезно.
– Видишь, народ честной, какое время непростое на дворе. За любым поступком могут разные ниточки тянуться. Некоторые не грех и срубить. Да вместе с дурными головами, – вроде бы задумчиво проговорил Всеслав, когда онемевшего паникёра утащили. А серьёзных глаз в толпе значительно прибавилось.
– Потому прошу каждого из вас! Я дал слово гостям степным, что худого с ними не случится в нашем городе. Каждый из вас знает теперь, что стравили нас обманом, втёмную. И есть в том прежних князей вина, что вместо головы мошной думали, что родичей ваших не сберегли. Я хочу мира между соседями, между Русью и Степью. Великий хан того же желает! – Шарукан встал рядом и с достоинством кивнул, подтверждая сказанное великим князем.
– Потому повторю. Честь и Правда наши не велят прощать врагов. Но говорят быть великодушными и не таить за пазухой зла. Мы знаем, кто обманом да кривдой ссорил нас. И я обещаю вам пред Солнцем, Небом и Богом, ответят нам змеи проклятые сторицей!
Мужики вскидывали кулаки. Бабы утирали слёзы уголками платков. Но лица у большинства были собранные и даже торжественные. Все помнили, что не так давно этот же князь так же твёрдо и уверенно говорил с Богом. И тот отвечал ему. А сомневаться в правдивости слов того, кто прилюдно летал по небу на крылатом волке, было как-то неловко, что ли.
Толпа дважды ещё орала привычное «Любо!», заверяя князя и его гостей, что всё будет исполнено в лучшем виде. И что когда Чародей соберётся с латинян должок требовать идти – его каждый поддержит без сомнений. Очень продуктивно, словом, митинг прошёл.
На обратном пути князь и хан видели, как молодая баба во вдовьем платке подошла к настороженному Байгару. И протянула ему кусок свежего хлеба и туес с взваром, от которого шёл паро́к. За подол её держался мальчонка лет трёх-четырёх, хмуро глядя на половца. Хмуро, но без страха. Одеты, что он, что мать, были опрятно, но явно небогато.
Байгар принял поданное и склонил – небывалое дело – голову перед женщиной. И поднёс хлеб и питьё вождям.
– Храни тебя Господь, батюшка-князь, – красивым грудным голосом, в котором слышались близкие слёзы, сказала молодая вдова. – Даст Бог, хоть этот живым останется, мне на радость.
И она, присев, крепко обняла белоголового сынишку. И слёзы потекли по её щекам.
Князь и хан отщипнули от большой горбушки по куску, прожевали и запили горячим взваром. Глядя друг на друга одинаково. И одинаково не чувствуя вкуса ни еды, ни напитка. Казалось, и то, и другое было горьковато-солёным. Как кровь погибших воинов. Или слёзы их вдов и детей.
Глава 6. Шаги по тонкому льду
Осень вошла в полную силу. Уже сыпал пару раз мелкий снежок, стаивавший к середине дня. Разглядывать цепочки следов на нём с высоты крыши терема было занятно. Очень хотелось, чтобы и в жизни было всё так же понятно: тут конный проехал, тут пеший прошёл, здесь собака бежала, там ворона копалась-прыгала.
Но реальность человеческая, а уж тем более княжья, предсказуемо была не в пример сложнее отчётливых и понятных тёмных цепочек на белом фоне.
– Ты б хоть упредил о задумке своей, княже, – едва ли не с обидой прогудел новоявленный патриарх, сидя через стол от великого князя тем же вечером после инаугурации или интронизации, или как оно там правильно звалось. Всеслав мял переносицу, пытаясь отогнать головную боль. День в который раз выпал долгий и насыщенный.
– Времени, отче, не было. Случается так в жизни, знаешь, что летишь ты со своей лодьи на вражью, с мечом в руке. Внизу чёрная ледяная вода, за спиной летят друзья, в впереди копья острые. Тут не до разговоров, – ответил Чародей, щуря глаза от тусклого, вроде бы, света лучины, что каждым движением будто раскачивал гвоздь, вбитый где-то над бровями.
Судя по лицу свежеиспечённого первоиерарха не менее новой русской православной церкви, о прыжках с мечами над холодной чернотой он знавал не понаслышке. Теребя, сминая в изуродованном когда-то давно левом кулаке густую бороду с частой сединой, лишь спросил, помолчав:
– А с ромеями что думаешь?
– Ничего не думаю, – долго, тягостно вздохнув про себя, отозвался Всеслав. Понимая, что вопросы по-прежнему требовалось решать быстро и при любой возможности. Которой, как водится, никакого дела не было до того, болит у решальщика голова или нет. Приоткрыв, сморщившись, правый глаз, князь увидел, что Иван не сводил с него взгляда под нахмуренными бровями, одна из которых, левая, была чуть выше. Пришлось вздохнуть и вслух, не сдержавшись.
– С ними – ничего. Против них думаю. Крепко, отче, долго, тяжко. Небывалое дело задумал, трудное. И не отступлюсь.
– А коли их патриарх меня анафеме предаст, да и тебя со мной вместе? – продолжал выуживать информацию священник.
– Предашь его тому же самому, и всех присных его. Я в ваших обрядах не силён, но, сдаётся мне, отлучать кого-то от церкви за неуплату десятины или за то, что его сам народ, сама паства в пастыри себе выбрала, как-то не по-христиански. Любви не больно-то много в таком поступке, как мыслишь? Значит, и Бога в таком нет. – монотонно говорил князь, не убирая руки от переносицы и мечтая лишь о том, чтоб чёртова лучина с плясавшим огоньком пропала пропадом.
– Но он – Вселенский патриарх, – с сомнением напомнил Иван.
– А ты – патриарх Всея Руси. Вот пусть он там у себя во вселенной порядки и наводит, а к нам в монастырь со своим уставом не лезет, – хмуро буркнул Всеслав. – Ты трусишь, что ли?
Лицо отца Ивана вспыхнуло, и в глазах блеснуло что-то вовсе не похожее на кротость и смирение. Всего на полмига. Удачно, что именно на эти полмига Чародей приоткрыл левый глаз.
– Мне, княже, знать потребно, что задумал ты. Верно сегодня говорено было: разные ниточки от слов да дел тянутся, ох и разные. И объяснять их по-всякому можно, смотря, как повернуть. Давай, чтоб я не верте́л слова твои туда-сюда, ты мне сам поведаешь всё. Так честнее быть должно. Ну, коли правду скажешь.
Дожились. Без году неделя в патриархах ходит, а уже князю начинает вопросы задавать, да на слабо́ пробует взять.
– Я вижу, что разговор со мной причиняет тебе му́ку и очень опечален этим, – вдруг произнёс он неожиданно мягким и будто бы смущённым тоном. А я аж вскинулся за плечом Всеслава, ожидая продолжения, вроде: «но сейчас облака скроют Солнце, и боль твоя уйдёт». Но, конечно, не дождался. Откуда бы тут, в эту тёмную пору, взяться светилам, облакам и знатокам Булгакова?
– Благодарю за сочувствие твоё, отче. Один опытный человек сказал мне, что нет худого в том, чтоб принять дар от сильного, если дар тот от души. А в части сердечности и сочувствия ты всяко посильнее меня будешь, – собравшись с мыслями в звеневшей голове, начал князь. – Мне не нужны все блага и всё золото мира. Мне не нужны шелка и пряности, янтарь и серебро. Мне, тайну тебе открою, и стол-то Киевский не нужен был. Я свою землю Полоцкую от осатаневших от жадности Ярославичей сберечь желал, да вот в яму угодил. А из неё – сюда вот, в терем. Но с той поры, как под руку мою эти люди и семьи их отошли, отвечаю я за них. Хочу я того или нет. А с ними и лесные, что Старым Богам требы кладут. Теперь вот и степной люд, если сладится у нас. Я бы, отче, лучше рыбку ловил на берегу Двины или Полоты, как Андрей-апостол, а не башку себе мучил. Но, как греки древние говорили, каждому своё.
– А ты, княже, как рыбу ловить любишь? – неожиданный вопрос удивил и насторожил. Но, знать, не я один в «да-нет» да другие способы до правды дознаться играть умел.
– Я, Иван, люблю на зорьке на бережку сесть, мушку навязать, да по течению пустить. Надёргать пять-шесть хвостов язей да голавликов, и домой. Чтоб юшки потом к обеду похлебать с роднёй да друзьями. И чтоб сиделось спокойно, без лучников вокруг, без гонцов на потных конях, без колокола вечевого.
– Складно. А я, княже, раньше верши ставить любил. Веришь-нет, и зимой под лёд спускал. На озёрах у нас рыбы было – только вытягивать успевай, – и в глазах его появился какой-то новый блеск, а в голосе – странная, еле уловимая вибрация.
Э, да ты, батюшка, никак решил с нами в гляделки поиграть да силу испытать? А не зря ты у святых старцев столько времени оливки ел, или чем там тебя кормили. Силён. Но против князя – не игрок.
– Верши – дело хорошее, спору нет, – спокойно отвечал Чародей. От возникшего интереса к разговору и чему-то вроде ментального поединка, кажется, даже голова меньше болеть стала. – Да вот беда: забудешь про неё в жару дня на два-три – и вся рыба в ней передо́хнет да сгниёт, вершу надо новую плести. А ещё, бывает, зимой налимов набьётся, только что не в узлы там завяжутся, не вытянуть. А их, отче, коли знаешь, не все есть будут.
– Что ж так? – подхватил манеру разговора патриарх.
– А они, говорят, утопленников жрут. У некоторых племён да родов принято весь улов выпускать, коли в вершу или сеть хоть одна скользкая пятнистая тварь попадётся.
– А ты? – и глаза его стали цепкими.
– Я, отче, всё ем. Ежели правильно приготовить, то и из топора кашу сварить можно. А у налимов печень очень хороша. Надёргаешь печёнок из них, да с лучком изжаришь – что ты! А чего они там жрут – я не смотрел, мне то без надобности, – вернул Всеслав внимательный взгляд священнику.
Некоторое время молчали оба. И видно было, что патриарх понял несложный намёк: лишнего князю не надо, но и своего упускать он не намерен. И того своего взять не постесняется хоть с трупоедов тайных, придонных. Которых вокруг вьётся слишком уж много в последнее время.
– А изжоги не забоишься ли? – не вытерпел первым он.
– А ты? – поднял бровь и улыбнулся Чародей. Знаем мы таких, кто вопросом на вопрос отвечают, и сами тоже так умеем.
Улыбка осветила лицо священника, да так, что и шрамов старых, кажется, видно не стало – они будто все в лучи её превратились.
– Бояться мне, отче, некогда. Больно уж дел много накопилось. Об одном тебя прошу – возьмись за службу Божью вдумчиво, не по книжкам, а по разуму. У нас вон почти половина народу княгиню Ольгу Псковской волчицей почитает, а Владимира-князя – и того хуже да обиднее зовут. Не забыли, да и вряд ли забудут, как он с Добрыней да Путятой смиренно новгородцев вразумлял в христолюбии. Помни и ты, что не один Киев окормляешь – всю Русь! Не дело в спешке да суете учить людей в Бога верить. Он, Бог-то, есть любовь, как в Писании сказано. От спешной любви, сам помнишь, поди, удовольствия никакого, а то и болячка какая привяжется, – продолжал князь. И улыбка Иванова стала ещё шире.
Хорошо поговорили тогда с начинающим патриархом, результативно, успешно. Главное, о том, куда и как идти будем, договорились. И это было третьей победой за день, после митинга на площади. И после посещения в компании Шарукана подвала с отставным митрополитом.
У того уже не хватало ещё нескольких зубов. От надменного важного хозяина жизни, от властителя дум и вершителя судеб осталось мало, ещё меньше, чем тогда, в гриднице, когда Ставр вырвал змее жало. Теперь же змею будто бы переехало гружёной телегой. Дважды. Выслушав откровенные, и от этого ещё более пакостные, рассказы, хан убедился, что Всеслав ни слова не сочинил. А Байгар, задавая вопросы, которые внимательно, очень внимательно слушал стоявший рядом Рысь, под конец разговора сделался мрачен, как грозовая туча. А когда мы поднялись на подворье, исчез в осенних сумерках, как настоящий маг или смерч, что распадается на песчинки, отлетав своё над степными ковылями. И вернулся только после того, как стемнело почти полностью. Рысь рассказал, что за это время из города один за другим вылетели четыре половецких всадника с заводными конями. И ещё семеро просто как сквозь землю провалились, выйдя за ворота. Про тех вышедших прояснил Ставр, как раз приехавший к этому времени на Гарасиме: троих ждали конные в паре вёрст от городских стен, четверо пустились вплавь на двух разных челнах, что стояли под берегом, укрытые раскидистыми ракитовыми ветвями, свисавшими до самой воды. Хотя, по слухам, половецкие ратники речные прогулки не особо жаловали. Эти, знать, были очень специальные.











