Читать онлайн Русская еда в историческом очерке, словаре и избранных рецептах
- Автор: Ольга Дунаевская
- Жанр: Популярно об истории, Кулинария
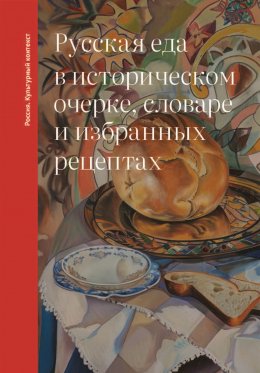
Ольга Дунаевская
Русская еда в историческом очерке, словаре и избранных рецептах
«Никогда не откладывай на ужин того, что можешь съесть за обедом»
Петр Абрамович Ганнибал, двоюродный дед А. С. Пушкина
Серия «Россия. Культурный контекст»
© Дунаевская О. В., 2024
© ООО «Издательство АСТ», 2025
Предуведомление
Текст, который вы открываете, посвящен русской еде в ее изначальном варианте. Становление русского меню, причины и традиции, которые сделали его таким, а не иным, его возрастные изменения – вот то, что меня занимало, когда я бралась за эту работу.
Но история еды тесно связана с событиями частной человеческой жизни, поэтому иногда вы будете сталкиваться с биографическими экскурсами, способными, на мой взгляд, осязаемо дополнить сухой гастрономический пассаж.
Текст состоит из трех основных частей: а) собственно исторического очерка (в нем естественным образом будут и описания некоторых блюд, и технология их изготовления, однако без деталей), б) словаря блюд и терминов (в основном, упомянутых в очерке) и в) тех рецептов, которые, с моей точки зрения, могут быть без особого труда воспроизведены на современной кухне, являясь при этом аутентичными.
Поговорим мы и об утвари, которую использовали на старинной поварне (кухня – немецкое слово, оно появилось в языке лишь в XVIII веке), и о том, в чем хранились заготовки и как делались припасы, о столовой посуде, из которой ели и пили наши предки. Узнаем меню как богатого, так и крестьянского обеда, поговорим о том, кто и что ел в пост. Разберемся, от каких «родителей» произошел ресторан в России и что представлял собой первый русский «фастфуд».
Отдельного разговора достойна этно-филологическая тема, а именно: блюда, подававшиеся в праздники, как религиозные, так и народные, а также бытование еды в фольклоре: пословицы, поговорки и идиомы, связанные с пищей.
Должна сказать, что работать над этим текстом было увлекательно, потому что всегда интересно знать свою историю в любых областях жизни. И хоть, конечно, текст этот во многом компилятивный, то есть он не мог бы появиться на свет без множества других текстов и книжек, которые я прочла, все же по ходу дела приходилось думать и уточнять некоторые термины, наименования блюд, их этимологию, то есть происхождение того или иного названия, а также делать свои выводы по разным сюжетам. А кроме того, работа над ним очень помогла мне в трудную минуту жизни.
Смею надеяться, что хотя бы некоторым читателям этого опуса затронутые в нем сюжеты тоже покажутся интересными, а уточненные наименования – обоснованными.
Автор
Часть первая
Глава 1
Хлеб да сыта – вот мы и сыты
(формирование национального съестного меню)
С каким только видом человеческой деятельности ни сравнивали работу повара! И с работой разведчика, и поэта, и художника. На мой же взгляд, она ближе всего к бытовому волшебству, ну и немножечко – к профессии медика. Ты берешь простой и грубый продукт, часто совершенно несъедобный в первоначальном виде, соединяешь его с массой других продуктов, приправ и специй и получаешь нечто новое, невероятное и очень вкусное. Ну и, конечно, ты помнишь основную заповедь эскулапа – «не навреди». Ведь еда – это то главное, чем занят родившийся человек и что сопровождает нас всю нашу жизнь. Это то горючее, без подпитки которым наш двигатель – человеческий организм – не способен работать. Поэтому кухня – равноправная часть жизни и культуры любого народа.
Проведя в тишине и безвестности крестьянское детство, дворянское отрочество и советскую юность, русская кухня напоминает о себе по видимости совсем некстати. Сытная, обильная, жирная – ложка в сметане должна стоять – русская кухня, казалось, обречена на вытеснение более здоровыми кулинарными традициями – средиземноморской или японской. Однако в то время как производители и потребители продуктов борются с жирами, калориями и холестерином, русские рестораны стали весьма посещаемыми. Как же складывался традиционный русский набор блюд и каковы основные принципы их изготовления?
Россия – и разрезанная на отдельные княжества, и сложившаяся в единое государство, – всегда была огромной, инертной массой, с бесконечными, плохо проезжими дорогами, долгой зимой, трудной и влажной весной, такой же осенью и часто плохим летом: то слишком засушливым, то слишком холодным или слишком дождливым. Подобный климат (на основной территории страны) не располагал к богатому ассортименту продуктов. Чуть не половину года здесь холодно, на некоторых территориях – и дольше. А северному народу, да еще крупногабаритному – русские в среднем были выше средиземноморских народов, – без сытной пищи не выжить.
Традиционная русская кухня, пишет историк Н. И. Костомаров, была вполне «национальная, т. е. основывалась на обычае, а не на искусстве. Лучшая повариха была та, которая присмотрелась, как готовится у людей. Изменения в кушаньях вводились незаметно. Кушанья были просты и не разнообразны, хотя столы русские и отличались огромным количеством блюд; большая часть этих блюд были похожи одно на другое…»[1] По традиции, состоятельные люди делали роспись своего меню чуть ли не на год вперед. Под определенный набор продуктов выделялись необходимые средства, отводились места для хранения. Меню сообразовывалось с постами и церковными праздниками. Почти полгода на Руси длились православные посты. Они соблюдались всеми – и царем, и крестьянином. Так что русский съестной календарь делился на постный и скоромный. (Забавно, что слово «скоромный» созвучно со словом «скромный», но имеет совсем другое значение: жирный, масляный, разгульный. Оно происходит от общеславянского «скорм» – «жир».) Хотя соблюдался запланированный список блюд и не очень жестко: всегда можно было заменить одно кушанье другим по «хотению». Припасы делились на пять наименований: растительные, мучнистые, молочные, рыбные, мясные.
Начнем наш разговор, конечно же, с хлеба. Потому что даже если в доме пусто, но есть кусок хлеба и немного воды, можно еще как-то продержаться. Выражение «жить на воде и хлебе» как минимальном возможном запасе вполне обоснованно.
Помню, знакомый родителей, просидевший в ГУЛАГе четверть века и попавший туда 19‑летним юношей, рассказывал, что после освобождения он был в отчаянии – нет ни одежды, ни денег, ни жилья, ни близких – все за эти годы погибли, кто на войне, кто в лагере, а кто в блокадном Ленинграде. Он был родом оттуда. Профессии тоже не было, и он с тоской подумал, что скоро придется умирать с голоду. Лагерников на работу не брали. И вот, войдя в буфет на полустанке, куда его довезли после освобождения, он не поверил своим глазам: в вазах на каждом столе стоял крупно накромсанный серый формовой хлеб. Он взял себе чаю с сахаром за три копейки и, глотая с чаем слезы, сказал себе: «Хлеб есть, значит, еще поживем». В конце 50‑х – 60‑е годы XX века хлеб в столовых и вообще в точках общепита давали бесплатно.
Итак, «хлебенное». Какой хлеб в старые времена ели русские, как бедные, так и богатые? Ржаной. Его даже предпочитали белому, справедливо считая более здоровым для желудка. Слово «хлеб» общее для многих языков: общеславянского, готского, раннегерманского и других. Означает – «выпечка из муки». У древних так же называлась и емкость для выпечки.
На Руси к ржаной муке иногда примешивали и ячневую (ее называли «ячная», она делается из ячменя). Пшеничную муку использовали для церковных нужд – на ней пекли просфоры, а в быту она шла на выпечку, например, калачей.
Итак, калач. Этот чудесный и почему-то вышедший из ассортимента пекарен хлеб еще в 80‑х годах XX века можно было купить во многих булочных. Он бывал двух сортов – глянцевый, с поджаристой корочкой на «губе» и на «ручке», и матовый, совсем белый, невероятно пористый, да еще щедро обсыпанный мукой: с другими продуктами рядом не положишь – все «обмучнит». Помню, как идучи из школы всегда заходила в булочную между школой и домом и покупала там этот мягкий, обычно еще теплый хлеб. Он стоил 10 копеек и был похож на большой белый замк. Его удобно носить за ручку, как дамскую сумочку, а попутно откусывать нежнейшие куски.
Может, благодаря своей форме калач был одним из первых русских фастфудов; его покупали для перекуса; ели часто грязными руками, держа за эту самую ручку. А ее потом отдавали нищим. Отсюда и выражение «дошел до ручки», оно имеет два значения: дошел до предела возможного, съел все, что естся; и второе – опустился до того, что и ручку съел.
Часть сумочки калача, которая внахлест закрывает мякиш, называется «губа». Когда выпекали калач, на нем делали специальный надрез. Губу раскатывали, потом посыпали мукой и прикрывали ею вкусную сумку-замочек: так губу закатывали. И возникла поговорка: «Что губу раскатал?» (Хотя раньше говорили «закатать губу» в значении «сильно чего-то захотеть».)
Со временем в уже готовом калаче эту губу начали приподнимать и мазать маслом, которое быстро пропитывало теплый пушистый мякиш. А позже стали часть мякиша вынимать и начинять калач рубленым мясом, например. Вот и готов вкуснейший прадед гамбургера. Добавляли в калачи и кусочки сельди, и любую другую начинку. Калачи выпекали из очень хорошей муки – она называлась «крупитчатая», хотя вообще-то была, наоборот, самого мелкого (или тонкого – так говорили) помола. К слову: весь хлеб на Руси выпекался раньше без соли.
Слово «калач» происходит от общеславянского «круглый». И на Руси известны были разные виды калачей. К примеру, братские калачи – большие круглые булки, они делались из более грубой, толченой муки (она изготавливалась из пропаренных, потом высушенных, а после еще и обжаренных зерен, ее толкли, а не мололи). Были еще и смесные калачи – из смеси пшеничной и ржаной муки. Такие, кстати, любили при царском дворе.
Калачи, ситники, сайки сейчас исчезли, зато к нам вернулся старинный подовый хлеб. Это хлеб, выпеченный не в форме, не формовой (который в народе называют «кирпичик»). Подовый пекли в нижней части печного свода, который имел название «под»; он прогревался до 200° C; после топки, когда сгорали дрова, из пода выгребали золу, выметали ее гусиным крылом и на ее место с помощью хлебной лопаты сажали будущие хлебины. Выпекавшим не полагалось разговаривать – чтобы не вспугнуть хлеб. Подовый считается полезным хлебом, он содержит в себе мало влаги.
Но это все был хлеб для людей с достатком. Какой хлеб ели бедняки? Часто это был отрубной хлеб. В муку добавляли отруби и даже – в голодные годы – измельченную траву. Тесто замешивали в огромных кадках и хранили квашню в подполе.
Брали куски для опары и выпекали по мере надобности. Последняя порция теста была перекисшая. Корка у такого хлеба была жесткая, неугрызная, поэтому его еще горячим заворачивали в мокрую ветошь – чтобы корку размягчить. А зимой такие хлебины выносили испеченными в сени – там они замораживались и хранились впрок.
А где хлеб, там и пироги. Пироги на Руси готовились на закваске. Дрожжи (современные, грибковые) появились лишь в конце XIX века. До того использовали несколько видов заквасок: а) солод (ферментный продукт, который получают из ростков пророщенного ячменя или ржи); б) самозакисающую ржаную закваску, шмат которой просто всегда оставляли в квашне; в) заболонь (внутренняя часть коры ивы или ольхи)[2].
Пироги делились на пря́женые и, как и хлеб, подовые. Пряже́ние – это вид обжарки в русской печи. Особенность процесса заключалась в том, что пирог не должен был плавать в масле, оно его покрывало на 1/3, а само масло надо было прокалить добела – тогда нет бульканья и брызг во время жарки.
Как и подовый хлеб, подовые пироги пекли в нижнем отсеке русской печи, раскалив его и выметя золу. В ходу были и пироги, и пирожки, и кулебяки. Слово «пирог» скорее всего произошло от общеславянского «пир» (застолье).
В старину пироги пеклись продолговатые, по форме противня. Если не было поста, их начиняли мясом – чаще бараньим, говяжьим, заячьим; соединяли несколько видов мяса или мясо с салом; иногда к мясу добавляли кашу; а иной раз и соединяли мясо с рыбой.
Масленичные пироги были обычно пряженые с творогом и яйцами. Тесто делали на молоке, на коровьем масле. Могли начинять рыбой с крутыми яйцами, либо тельным. Если говорить точнее, то яйца были не только вареные, но еще и каленые. Их после варки калили несколько часов в той же печи. Белок становился чуть коричневатым и менее нежным, но хранились такие яйца очень долго.
Тельное – это особая статья. Название произошло от слова «тело», потому что делали его из рыбного филе. Процесс напоминал приготовление еврейской фаршированной рыбы. Филе отделяли от костей, мелко рубили, иногда добавляли яйцо и даже размоченный хлеб, специи и скручивали в рулет. Рулет помещали в кусочек полотна или заворачивали в рыбью кожу (чаще плотную – щуки или судака), обвязывали тесемкой и затем отваривали. Позже стали делать тельное из, например, куриного мяса.
В пост, но когда рыба разрешена, делались рыбные пироги, чаще со снетками – мелкой озерной рыбкой типа кильки, имеющей запах свежих огурцов. Пекли пироги с рыбными молоками. Кстати, кто не пробовал, молоки невероятно вкусны. У соленой селедки молока тоже весьма съедобная; но обжаренные в сухарях рыбные молоки – это настоящий деликатес!
Популярными были и пироги с забытой нынче вязигой (или визигой). Вязига – это хорда осетровых, такой пузырчатый шнурок с хрящами. Ее вытаскивали из хребта рыбы, очищали, обмывали, высушивали и связывали для продажи в ленты по дюжине. Сейчас вязига как правило продается не в виде лент, а порезанная и упакованная в небольшие коробки, добытая, видимо, из одной рыбины. При варке вязига мягчает, ее рубили и либо добавляли к ней рыбную мякоть, либо просто, соединив с крутыми яйцами, использовали в виде начинки. Порубленную вязигу смешивали также с кашами или с рисом, который в старину назывался сарацинским пшеном.
Рыбные пироги делались на трех видах масел, и это чисто русское изобретение: маковом, конопляном или ореховом.
Сладкие пироги были вообще популярны в качестве десерта (у тех, кто их себе, конечно, мог позволить). Пеклись с ягодами, с вареньем, с изюмом.
Еще один вид русских тестяных изделий – среднее между пирогом и хлебом – это каравай. Старое написание слова – коровай, потому что произошло оно от «коровы», известно еще в общеславянском, есть у всех славянских народов. Караваи пеклись, в первую очередь, на свадьбу, их символическая задача была – обеспечить плодовитость молодой семьи. Караваи различались по способу приготовления. Битый каравай пекся из теста, которое взбивалось в ступе с маслом; ставленный – делался на молоке и походил на кулич; яцкий каравай требовал в тесто большое количество яиц; делали каравай и с домашним сыром.
Как уже говорилось, большие пироги были, как правило, прямоугольными – такой формы противень удобно задвигался в печь. К особому виду выпечки относится исконно русский курник. Вообще курник типичен для богатых южных российских областей, но на свадьбу его пекли повсеместно. Это, возможно, единственный российский круглый несладкий пирог, да еще и куполообразный. Куриное мясо или индюшатина рубится вперемешку с куриными яйцами и жареным луком. Иногда отдельным слоем добавляется гречневая каша. Иногда грибы. В любом случае слоев начинки должно быть несколько. Слои перекладываются тонкими уже выпеченными лепешками. Курник пекут из дрожжевого или пресного слоеного теста. В центре делается отверстие для выхода пара.
Как и в курнике, многослойны начинки настоящих русских кулебяк. Они также были традиционной слегка вытянутой формы, в сдобное дрожжевое тесто добавлялось немного мясного бульона. Блинчики-прокладки между начинками пеклись заранее. Наиболее частыми слоями были такие: мясо, рис, рубленые яйца с жареным луком; свежая капуста с крутыми яйцами, жареная капуста, жареный лук с грибами; рыба, рис, вязига с луком. Слово, по мнению В. Даля, происходит от глагола «кулебячить» – валять руками, мять, лепить.
Другими популярными изделиями из теста были оладьи (в старину – аладьи, слово происходит, видимо, от древнегреческого «масло»), котлома, сырники, блины, хворосты. Оладьи в постные дни делались без яиц и молока, с ореховым маслом и подавались с патокой или медом. Оладьи большого диаметра назывались «приказными», потому что их приносили на поминки царским чиновникам – служащим приказов. Котлома – блюдо старинное, но явно пришедшее от тюркских народов. На Руси это были пресные жареные лепешки на воде, подавались часто с патокой. Сырники готовили из творога, яиц, сметаны с добавкой хорошей пшеничной муки. Блины же пеклись красные и молочные. Красные делались из гречневой муки и иногда не требовали ни молока, ни яиц. Интересно, что в старые времена принадлежностью Масленицы были не столько блины, сколько пироги с творожным сыром и хворосты.
Хворост – ломкое маслянистое и невероятно вкусное печенье, получившее свое имя от опавших сухих веток. Только он хорош не из кулинарий и тем более магазина, а самодельный. Хворосту вредит время – есть его надо сразу после приготовления. Блюдо пришло на Русь из Византии и быстро прижилось. Еще он не подходит тем, кто не ест супержареного, поскольку, начав им хрустеть, остановиться трудно. А готовить его просто: яйцо, мука, вода и хорошо бы чуток крепкого спиртного (рюмку водки, например). Да растительное масло для обжарки. Даже сахар многие не кладут – хворост, когда остынет, надо обильно посыпать сахарной пудрой. Лично у меня к хворосту особенно теплое чувство, потому что это была единственная сладость, которую соглашалась изготовлять моя мама в наших трудных коммунальных условиях, но об этом позже.
Исконно же русским блюдом являются так называемые блины с припеком. Иными словами, это блины с начинкой, но она не заворачивалась внутрь блина, а клалась сначала на сковороду, распределялась по всей поверхности и заливалась блинным тестом. Какие бывали припеки? В основном, несладкие, конечно. То же рубленое мясо или рыба с жареным луком; рубленые крутые яйца с луком, как жареным, так и зеленым, жареные грибы с луком. Есть и другая технология: наливать тесто, быстро посыпать начинкой и аккуратно переворачивать. Делались и постные начинки из тыквы, яблок, тех же грибов. Если начинка клалась сверху, можно было немного теста полить поверх нее. Блины вообще вещь сытная, а уж блины с припеком – сверхсытная.
Еще отметим здесь особые злаковые блюда – кисели. Ягодными и жидкими их стали варить с XVIII века, когда появился картофельный крахмал, а до того они были на овсяной, ржаной и пшеничной муке, чуть заквашенной. В скоромные дни их подавали с молоком, а в постные – с растительным маслом. Кисели разрезали на порции ножом. Их ели, запивая сытой – теплой водой, подслащенной медом. По виду, а отчасти и по вкусу они напоминали современные кисловатые пудинги, то есть были не питьем, а едой.
Теперь немного о кашах и запеканках.
Вообще поговорка «щи да каша – пища наша» – весьма относительно годится для всей России. На севере и кашу-то редко ели. Зато вне поста там было много рыбы, летячины (так называли зайчатину и дичь). На юге же, на хороших землях и у хороших хозяев – и пирогов, и блинов, и овощей-фруктов и изделий из них было немало. Поговорка эта хороша, пожалуй, лишь для центральной России. О щах (или штях) будет следующий разговор, а пока поговорим про русские каши.
Каша, томленная в русской печи, не может сравниться с той, какая вышла на свет божий на наших горелках или даже в современном ресторанном конвектомате. Вообще русская печь – это дом, на который насаживался второй дом – изба-пятистенка. Русская печь грела избу, около нее сушили белье. В русской печи мылись, на ней спали, на ней и в ней готовили. Недаром в русских сказках герои не на коврах-самолетах летают, а перемещаются, лежа на русской печи. Готовка в этих печах долгая, но вкус блюда получается совершенно неповторимым. Различали три степени тепла печи: «до хлебов», «после хлебов», «на вольном духу». В зависимости от температуры готовили ту или иную еду. При большом жаре пекли хлеб, пироги, запекали мясо. В слегка остывающей печи делали топленое молоко и томили каши.
Что касается каш, Русь знала пять основных злаков: рожь, пшеницу, просо, ячмень и гречиху. Овес не был так широко распространен – из него в основном делали толченый мучной продукт, который так и назывался – толокно. Его не пекли, а варили. Оно питательно, его легко смешать с водой, молоком, фруктовым взваром.
Самой популярной едой у древних славян было вареное просо, а вот самая русская каша это, конечно, гречневая. Каши готовились двух видов: рассыпчатые и вязкие. В рассыпчатую, протомив несколько часов в печи крупу с водой, добавляют масло. Вязкие каши были сродни густым похлебкам. Вообще «кашей» называли пищу из измельченного продукта – не обязательно злаковую. Само слово пришло в общеславянский язык из санскрита и значит «нечто дробленое». Заправлялись рассыпчатые каши салом, жареным луком, творогом, горохом, грибами. Сладкие каши заправлялись печеной тыквой, изюмом, отваром из ягод; их подавали с медом, патокой или вареньем.
Но особенно популярны и вкусны были крупеники из каш. В них добавляли творог, мясо, грибы, овощи, яблоки. В русской печи крупеники отлично получаются, тем более что некоторые из них и подавали с топленым молоком. (Слово «запеканка», которое мы употребляем сейчас как синоним крупеника, польское, в Россию пришло в XIX веке. Для русских же «запеканка» означала водку, настоянную на ягодах и травах, выдержанную в русской печи – тогда сивушные составляющие успевают испариться.)
А где крупеник, там и лапшевник. Правда, лапшевники чаще делались на юге России. Домашняя лапша, кстати, несложна в приготовлении, но несравнима по вкусу с покупной, которая в последние годы к тому же куда-то подевалась. Слово это тюркское, об этом говорит и повтор одной гласной «а» – сингармонизм – и означает «маленькие кусочки теста, сваренные в бульоне».
Помню, как однажды в детстве меня привезли к тете Тасе, маминой старшей сестре. Она была очень маленького роста и очень изящная – бывшая балерина, – а приготовленная ею еда, наоборот, всегда была очень крупной. Помню, меня поражали размеры сделанных ею котлет, испеченных ею пирогов. Крошка, которой она посыпала торт «Наполеон», тоже была больше похожа на мелкие кусочки теста, нежели на крошку. Но это ничему не вредило: готовила она потрясающе вкусно и щедро.
В тот день меня встретил обеденный стол, засыпанный мукой, и тетя Тася в клетчатом переднике. Она предложила мне поучаствовать в нарезании домашней лапши.
Там, где жили мы – я, брат, мама и папа – вообще не было кухни, а в соседней комнатушке жила другая семья из трех человек. Газовая плита стояла почти под крюками, куда вешалась верхняя одежда. И все-таки иногда, очень редко, мама жарила хворост, требовать от нее большего никому и в голову не приходило. Я ела в детском саду, брат в школе, а родители – на работе. Дома мы в основном довольствовались бутербродами. Поэтому, наверное, я так их люблю.
Не то было у тети Таси. Хотя ее комната тоже была в коммунальной квартире, эта квартира была большой, а сама комната располагалась около кухни; в квартире были теплая ванная и туалет, а на кухне – раковина. Всех этих удобств мы тоже были лишены. У нас прямо на лестнице, за тонкой фанерной дверью, имелся туалет без отопления и рукомойник с ледяной водой, общие на весь этаж. Хоть наш дом – старинный особнячок, окруженный большим садом, – имел великолепное расположение: он находился в Вознесенском переулке (тогда улица Станкевича), позади здания Моссовета (теперь мэрии).
К тете Тасе и бабушке меня возили мыться и вообще тогда, когда родители были сильно заняты. Это были счастливые поездки.
Тетя Тася дала мне не слишком острый нож и велела, сначала под ее наблюдением, резать свернутые рулетом полоски лапши поперек, делая их коротенькими. Как-то с задачей я справилась, и лапшевник с творогом до сих пор потрясает мое воображение. Очень рекомендую, особенно в качестве семейного занятия, если к изготовлению привлечь детей.
Кстати, просто лапша с топленым молоком – старая русская еда. Добавляли к лапше и варенец (простокваша из того же топленого молока) или резали в лапшу домашний творожный сыр. Как и каши, лапша отлично запекается в духовке не только с творогом, но и с любыми доступными добавками – яйцами, мясом, сыром, овощами – то есть теми, какие есть под рукой.
Закончив про каши-лапшу-крупеники, волей-неволей переходим к щам, или, как правильно говорить – штям. Вообще к похлебкам, которые в XVIII веке на европейский манер стали именовать супами. Слово «суп» есть во всех основных европейских языках, восходит к латыни, где означало «кусок хлеба, который обмакнули в подливку». Суп для русского человека очень много значил, да и сейчас значит. Мало где, кроме России, можно найти людей, которые едят суп на завтрак. А только я знаю таких несколько. Суп согревает душу, особенно зимой и в ненастье, он быстро усваивается и надолго дает сытость.
Многие рецепты традиционных русских супов так и остались чисто русскими. Итак, наш первый и главный – шти. Поначалу так называли различные овощные похлебки (капустные, свекольные, из репы). Само слово – древнерусское, «съти» – означало похлебку. Но щи – это совсем не обязательно мясной или постный суп; варили его и с рыбой. Рыба могла быть как свежей, так соленой и даже истертой в порошок. Шти, в которых варилось мясо или птица, назывались «богатыми». Их обязательно забеливали сметаной сразу после варки и в полном котле. К ним подавались пироги с рыбой или с кашей. Иногда шти подкисляли капустным рассолом или добавляли кашицу из антоновских яблок. Варили на Руси и так называемые серые щи. Из тех листьев, которые теперь обрывают и либо выбрасывают, либо скармливают животным. Когда они подмерзали, их засаливали и пускали в дело.











