Читать онлайн «Ваш Рамзай». Рихард Зорге и советская военная разведка в Китае. 1930-1932 годы. Книга 2
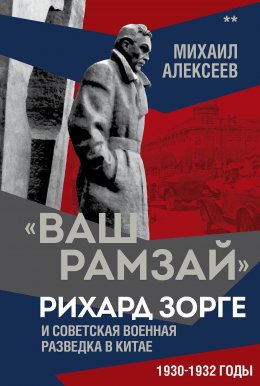
© Алексеев М., 2025
© ООО «Издательство Родина», 2025
130-летию со дня рождения легендарного разведчика Рихарда Зорге, памяти военных разведчиков, воевавших на фронтах Великой Отечественной, военных разведчиков, воевавших и воюющих на незримом фронте, участвовавших и участвующих в частных конфликтах и СВО посвящается.
Величие Родины в Ваших славных делах!
Автор выражает благодарность А. П. Алексееву, А. И. Сивцу, А. П. Серебрякову, О. В. Каримову, А. П. Аристову, А. И. Колпакиди, С. Ф. Макарову-Седову, В. Б. Леушу за содействие и поддержку при работе над монографией и ее издании.
Отдельная благодарность Владимиру Степановичу Алексееву и Ирине Юльевне Куксенковой.
Глава 1. «Оставьте „Рамзая“ пока своим заместителем» (Центр – «Шерифу»). Шанхай (сентябрь – декабрь 1930 г.)
«XII. Использование шпионов.<…>
11. Обращённые шпионы – это те, которых мы перехватываем у противника и обращаем в нашу пользу. [С помощью крепких спиртных напитков и путём щедрых обещаний мы переманиваем таких людей у противника; их польза заключается в том, что они распространяют у себя предлагаемую нами ложную информацию и собирают там же необходимые нам сведения… – Комментарий переводчика Лайонела Джайлса]».
Сунь-Цзы. Искусство войны.
1.1. «Взятая Вами линия информации правильна» (Центр – «Рамзаю»). Хрупкий мир между Нанкином и Мукденом
Перед отъездом из Кантона Зорге доложил в Москву 3 сентября:
«1) В Шанхае буду держать письменную связь с югом с помощью информаторов. Сеть этих информаторов стараюсь развивать дальше.
2) Посылайте инструкцию в Шанхай, сохранить ли станцию в Кантоне или ликвидировать».
Берзин дал указание начальнику II-го (агентурного) отдела: «Ст. нужно сохранить».
Вернувшись в Шанхай, Зорге продолжал информировать о происходившем на юге Китая через оставленную на месте агентуру.
«Москва, тов. Берзину.
Шанхай, 8 сентября 1930 г.
1) Чэнь Цзитан сформировал новую дивизию под номером 16, число войск 5000, под … (неразборчиво. – Авт.). Дивизия в Гуанси.
2) Намерение Чэнь Миншу увеличивать число войск „корпус для сохранения мира“ от 5200 до 10 000. Выполнение из-за плохого финансового положения сомнительно.
3) Кантон купил 5 новых воздушных машин: 3 лёгкой английской (модели? – так в тексте. – Авт.), 2 тяжёлого американского типа.
Р.
Ценно.
Подпись».
4 сентября «расширенный пленум Гоминьдана» избрал первых семь членов «северного» правительства, организуемого в Бэйпине (новое название Пекина), в том числе Янь Сишаня (председатель), Ван Цзинвэя, Фэн Юйсяна, Ли Цзунжэня, Чжан Сюэляна и др. 7 сентября 1930 г. Янь Сишань принёс присягу в связи с занятием поста главы правительства. Чжан Сюэлян отмежевался от Янь Сишаня, прислав телеграмму с отказом от участия в правительстве. Роль рядового члена правительства никак не могла его устроить, и это должны были понимать те, кто рассчитывал на его поддержку. Однако Янь Сишань не собирался отказываться от своих амбиций, да и Ван Цзинвэй не «видел» Чжан Сюэляна во главе нового правительства. Сепаратисты не успели выдвинуть никакой конкретной политической и экономической программы, кроме требования об усилении роли властей на местах. Новое правительство стояло на тех же антикоммунистических позициях, что и Нанкин, однако считало необходимым восстановить дипломатические отношения с Советским Союзом для противовеса японской угрозе.
Затянувшаяся сверх всякой меры очередная гражданская война между Нанкином и северными милитаристами зашла в совершенно безнадёжный тупик. Обе стороны были истощены, и ни та, ни другая не могли рассчитывать на победу силой оружия. Нанкин пытался было изобразить взятие Цзинаня, как великое торжество, но официальные восторги по этому поводу ни у кого не вызвали доверия. Точно так же никакого впечатления не произвело образование в Бэйпине конкурировавшего с Нанкином второго «национального» правительства.
На фронте создалось положение, когда обе стороны были лишены возможности как выиграть, так и проиграть войну.
Успехи революционных войск не могли остаться без влияния на эту войну, будучи фактором, действовавшим в сторону скорейшего заключения компромисса между воевавшими сторонами, которых разделяли не принципы, а только аппетиты.
В этой обстановке решающей силой становилась свежая и нетронутая армия мукденской клики. До сих пор Мукден держался в стороне от войны и занимал настолько двусмысленное положение, что оба враждовавших лагеря могли официально считать его своим. Правда, он продолжал номинально признавать нанкинское правительство, но в самой мукденской клике шла внутренняя борьба, препятствовавшая занятию Мукденом более активной позиции.
Группа молодых политиков и военных, близкая Чжан Сюэляну с самого начала, стояла за новый выход в собственный Китай и за то, чтобы использовать обстановку для захвата близлежащих провинций. Напротив, другая влиятельная группировка в мукденском лагере, т. н. гиринцы, самым решительным образом возражала против участия в гражданской войне и особенно против какой бы то ни было помощи Нанкину.
Гиринцы доказывали, что, разбив с помощью Мукдена северный блок, Нанкин немедленно же обратится против самих мукденцев. Они без сомнения оперировали горьким опытом советско-китайского конфликта, во время которого Мукден получил достаточно наглядные доказательства нанкинского своекорыстия. Не следовало забывать и о возможной вооружённой экспансии со стороны Японии, которая уже имела плацдарм в Южной Маньчжурии.
В результате Чжан Сюэлян вынужден был балансировать между обеими враждовавшими сторонами. Однако «молодые» получили, по всей видимости, перевес, и Мукден вышел из своей пассивности. 18 сентября 1930 г. Чжан Сюэлян неожиданно перешёл на сторону Чан Кайши и открыл боевые действия, что сразу же определило исход этой войны.
20 сентября 1930 г. Зорге направил телеграмму из Шанхая:
«1) Германский консул утверждает…, что решение Мукдена означает ослабление позиций Мукдена.
2) После решения Мукдена Чан Кайши приказал усиливать наступление против Фэна. Нанкинская 3-я армия заняла Синьсян, 4-я армия заняла Мисянь, 5-я заняла Циньян, на юге Хэнани.
3) Красная армия Чжудэ и Пэн Дэхуайа отступила в направлении Кианг-Сия. До поражения у Чанша они имели вместе около 20 000 войск с 15 000 винтовками.
РАМЗАЙ.
Ценный.
Ма[маев].
23/IX».
21 сентября мукденские войска заняли Тяньцзин. Шаньсийские войска отступали без боя. 23 сентября пал Бэйпин. Правительство и деятели северной коалиции выехали в Баодин (в 100 км от Бэйпина).
Несмотря на то, что это выступление Мукдена явилось непосредственным ударом по северному блоку, оно вовсе не означало, что Мукден становился на сторону Нанкина и что последний получал какую-либо реальную власть над Северным Китаем.
Напротив, гораздо правдоподобнее была версия, что Мукден ведёт независимую политику, что он направляет свой удар, главным образом, против «левых» гоминьдановцев и Фэн Юйсяна и что в его намерения входил союз с шаньсийцами (Янь Сишанем) против Нанкина.
Выступление Мукдена, тем не менее, могло расколоть северную коалицию, эфемерность которой никогда не вызывала сомнений. Оно могло привести и уже привело к перетасовке сил и к перераспределению милитаристских вотчин. Но данное выступление ни на один шаг не приблизило к действительному объединению Китая.
Непосредственным результатом мукденского выступления должно было стать заключение хрупкого компромисса, желательного в данный момент всем сторонам, устранение на непродолжительный срок отдельных военно-политических фигур и временное прекращение военных действий. Но основные элементы враждебной Нанкину комбинации должны были остаться, к ним объективно должен был присоединиться Мукден, и они неизбежно должны были составить между собой новое сочетание.
Тот или иной исход этих боевых действий ни в малейшей степени не менял основного факта – Нанкин не имел никаких шансов господствовать в Северном Китае и Маньчжурии. Китай был лишён единого центра, и ему было суждено неопределенное время оставаться раздроблённым.
Нанкин в телеграмме, адресованной Чжан Сюэляну, приветствовал выступление Мукдена, подчёркивал необходимость разбить Янь Сишаня и Фэн Юйсяна, т. е. пытался подтолкнуть мукденского правителя к действиям, которые тот не собирался совершать.
28 сентября 1930 г. Зорге докладывал в Москву:
«1) Передаю сообщение из Тяньцзиня: Мукден готовит второе воззвание с предложением, что для решения спорных вопросов Гоминьдана, а также для реализации плана Сунь Ятсена, необходимо содействие также Ван Цзинвэя и Дуань Цижуя.
2) Фэн до сих пор на берегу Жёлтой реки (Хуанхэ. – Авт.).
3) Информация с юга: Тан Шэнчжи занял Хенчау на юге Хунани, Чжан Факуй опять перешёл в Хунань, Хэ Цзянь перешёл в лагерь гуансийской группы. Подтверждение вероятности сообщения можно видеть в факте, что Нанкин послал 3-ю образцовую дивизию на север Хунани, уволил 2 генералов Хэ Цзяня и что после смерти Тань Янькая увольнение Хэ Цзяня очень вероятно.
Р.
в[есьма] ценный [материал].
Ма[маев]».
«По мнению стоящего близко к Т. В. Суну (Сун Цзывэнь; в 1929–1931 гг, – заместитель председателя, и.о. председателя Исполнительного юаня, министр финансов. – Авт.) лица, Нанкин предполагает возникновение в будущем войны с Мукденом. – Докладывал в Центр Рамзай 1 октября 1930 г. – Мукден стремится к ослаблению Фэна и Чан Кайши. Минфин Сун скоро едет в Пекин с намерением предложить Мукдену об оплате всех расходов мукденской армии в Чжили, если Нанкину будет предоставлено право сбора налогов морской таможни и налогов в Чжили. В связи с этим возможно, что Мукден потребует назначения своего кандидата на пост министра финансов нанкинского правительства. В гоминьдановских газетах ведётся энергичная кампания против Мукдена.
Рамзай.
Копии
Наркому и др. адресатам.
Берзин.
Ценный.
Ма[маев]».
3 октября 1930 г. Рамзай направил в Москву «сведения из Кантона»:
«1) Отмечается организация полков „для сохранения мира“ не только в Кантоне, но и в провинции …[Гуандун]
2) Школа в Вампу закрыта. Одна из причин – внутренняя борьба сторонников Чэнь Цзитана и Чэнь Миншу[1].
3) Наньнин в руках гуансийской армии. Юнаньские войска занимали на несколько [дней] часть города.
4) В Амой и Фучжоу приехал из Германии немецкий инструктор Бертрам[2], будет работать в авиашколе. В Фучжоу имеется шесть машин: три юнкерса и три фучжоусского производства. Фабрика там такая же как и в Кантоне.
Рамзай.
Ценный.
Ма[маев]».
4 октября 1930 г. в Центр ушла очередная телеграмма из Шанхая:
«1) Министр Сун отложил поездку в Бэйпин. он получил предупреждение, что возможно Мукден задержал бы его в Бэйпине.
2) Чэнь Цзитан требовал от Чан Кайши немедленно освободить Ли Тисина (Лу Дипин?), чтобы с помощью Ли заключить мир с гуансийской группой. Чэнь Миншу энергично протестовал.
По-моему, предложение Чэнь Цзитана означает соглашение его с гуансийцами против Чэнь Миншу и может быть против Чан Кайши.
Рамзай.
Ценный.
Ма[маев]».
В окружении Чжан Сюляна по-прежнему отсутствовало единство в части использования вооружённых сил вне пределов Маньчжурии и дальнейшей стратегии Мукдена. Члены правительства «Трех Восточных Провинций» Ван Фулин и Тан Цзюйлин подали прошение об отставке в знак протеста против участия в вооружённой борьбе в собственно Китае, рассматривая эти действия как втягивание Нанкином Мукдена в сферу своего влияния. Другие же влиятельные силы выступали за отказ от альянса с «национальным правительством».
Именно об этих манёврах мукденских милитаристов докладывал «Рамзай» 4 октября 1930 г.:
«Из Тяньцзиня: На военном совещании в Мукдене группа стариков и др. против политики временного соглашения с Нанкином. Решили теперь направлять мукденскую армию внутрь Шаньдуна и в направлении Пукоу. Отношение к разным группам: с группой Ван Цзинвэя надо работать, а позволять политическое действие этой группы только в районах военного действия. С Фэном держать связь во время передвижения на юг и помогать ему снабжением амуницией. Во время этой кампании политическую и военную связь с Янем не надо держать. Ши Юсян, Хао Ку и Ма Чун должны держать себя нейтральными до того момента, пока мукден[ская] армия ещё не передвигается. После передвижения армия Ши Юсяна является правым крылом мукден[ской] армии. Передать управление Шаньдуна Ханю [Хань Фуцзюй] и Ма Чуну вместе и держать их в финансовой зависимости от Мукдена. стараться с помощью Ван Цзинвэя, чтобы гуансийская армия опять передвигалась через Хунань в Хубэй.
Рамзай.
Ш/т разослана:
Штерну,
Уборевичу,
Гамарнику,
Начштаба,
Карахану,
Месингу».
Отправляемая в Москву информация явно «черпалась» не из газет, а агентурой и носила достоверный характер, что не могло не быть отмечено Центром:
«Телеграмма № 1341/229
В Шанхай
Тов. Рамзаю
5/X 1930 г.
Ваша оценка взаимоотношений между Нанкином и мукденцами правильна. Ваши задачи: 1) усильте освещение позиции Нанкина к Мукдену, 2) чаще и подробнее освещайте действия Красной Армии, 3) добывайте материалы по организации, численности и состоянию нанкинской армии. Изучите военную обстановку в Хэнане, началось ли движение сычуанцев на Ухань.
БЕРЗИН».
Последняя задача Центра была обусловлена появлением слухов о намерении У Пэйфу выступить за пределы Сычуани, для того чтобы возглавить вооружённую борьбу против Нанкина.
В своём «воззвании», о подготовке которого докладывал Зорге, Чжан Сюэлян заявил, что своим выступлением Мукден стремился достигнуть объединения вокруг нанкинского правительства. Чжан Сюэлян высказался за необходимость реорганизации центрального правительства на основе конституции с целью передачи в нём руководящей роли гражданским лицам, а также за сохранение дружественных отношений со всеми группировками. Чжан Сюэлян выступил также с призывом о созыве национального собрания в Тяньцзине или Бэйпине.
Из достаточно противоречивого заявления Чжан Сюэляна следовало, что Мукден, с одной стороны, призывал объединиться вокруг национального правительства, которое, ко всему прочему, подлежало реорганизации и в котором не просматривалось место для Чан Кайши. А с другой стороны, относился к нанкинцам как к одной из группировок, т. е., по существу, не считал себя подчиненным Нанкину и пытался выступать не только в роли миротворца, но и объединителя страны, если учитывать предложение Чжан Сюэляна созвать национальное собрание под своим «крылом».
К этому времени нанкинские войска заняли важнейшие стратегические пункты в провинции Хэнань, включая Кайфын, и окружали Чжэнчжоу. Выступление мукденцев внесло заметную дезорганизацию в ряды войск Фэн Юйсяна и Янь Сишаня, которые отступали без боев в провинции Шаньси и Шэньси.
На этом заканчивалась в 1930 г. гражданская война в Китае.
6 октября в местной печати было опубликовано сообщение о предложении Чан Кайши нанкинскому правительству амнистировать к 1 января всех политических заключённых, кроме Янь Сишаня, Чэнь Цзюнмина и коммунистических агитаторов. Чан Кайши выступил также за немедленный созыв по окончании военных действий пленума Гоминьдана, чтобы рассмотреть на нём наряду с другими вопрос разработки конституции.
В начале октября Рихард Зорге направил в Москву телеграмму, в которой на основании имевшейся информации и проведенного анализа фактов излагал личное мнение:
«Москва, тов. Берзину
Шанхай, 8 октября 1930 г. Передаю личное мнение. 1/ Воззвание Чан Кайши о созыве партийного съезда (IV-го пленума ЦИК Гоминьдана. – Авт.) и о необходимости конституции, по моему, яркое политическое отступление нацправительства целиком в направлении требований Мукдена. А с другой стороны воззвание – попытка сохранить руководство в отступлении и в будущем для партклики против антипартийного влияния Мукдена. Очень возможно, что воззвание является попыткой соединения разных фракций против попытки Мукдена использовать их против Нанкина. 2/ В таком размере неожиданное отступление Фына (Фэн Юйсян. – Авт.) без серьезной борьбы только понятно как выражение окончательного распада армии Фына или, как я думаю, начала соглашения ЧКШ с Фыном. Несколько дней тому назад Чан Кайши издал декларацию об амнистии противника с исключением Яня и с включением Фэна. Были также слухи и о переговорах ЧКШ с представителями Фэна. 3/ Войска ЧКШ у Хонан-фу [Хэнани].
Рамзай.
III.
Копию т. Штерну.
10/X Берзин.
Ценный.
Ма[маев]».
Отказавшись от оказания серьёзного сопротивления противнику, Фэн Юйсян очередной раз повторил свой старый манёвр – убедившись, что обстановка не благоприятствует его планам, вывел свою армию из боя с минимальными потерями. Нанкину не удалось нанести своим противникам чувствительного поражения, живая сила северных милитаристов в основном сохранилась, и им предоставлялась возможность после некоторой передышки снова выступить против Нанкина.
Включение Фэн Юйсяна (в отличие от Янь Сишаня) в списки лиц, подлежавших амнистии, было совершенно правильно истолкованы Зорге как новая комбинация Чан Кайши, обеспечивавшего в лице Фэна ценного союзника в борьбе с Чжан Сюэляном.
11 октября состоялась церемония вступления Чжан Сюэляна на должность заместителя главнокомандующего сухопутными, военно-морскими и военно-воздушными силами Китайской Республики. По сообщениям японской прессы, мукденский правитель заявил, что принимает эту должность на следующих условиях: отделение Гоминьдана от правительства; выдача Мукдену дополнительных 30 миллионов долларов на нужды обороны провинции Хэбэй; созыв национального собрания.
«Победа» над северной коалицией не снимала вопрос поиска компромисса внутри правивших группировок самого Гоминьдана в части партийного и государственного строительства.
В Гоминьдане одну из ведущих позиций занимала так называемая чжэцзянская группировка, получившая название по происхождению основной части своих деятелей во главе с Чан Кайши из провинции Чжэцзян и в силу своей тесной связи с чжэцзянскими банкирами, господствовавшими в китайских банках Шанхая.
До февраля 1931 г. Чан Кайши блокировался с группировкой правого крыла в Гоминьдане во главе с Ху Ханьминем. Именно Ху Ханьминь пытался определять партийный и государственный курс и убирать из правительства неугодных ему людей с последовавшей расстановкой на ключевые позиции своих представителей. Водораздел между двумя лидерами – Чан Кайши и Ху Ханьминем – по большинству коренных вопросов ясно обозначился уже в конце 1930 г. и завершился разрывом в феврале 1931 г.
В Гоминьдане существовал ещё целый ряд группировок, поддерживавших Чан Кайши, но имевших в нем ограниченное влияние. К таким группировкам, в частности, относились «группа политических учений», «группировка Вампу», «группировка братьев Чэнь Лифу[3] и Чэнь Гофу[4]».
Возникновение «группы политических учений» относилось к 1916 г. Она проявила себя в 1917 г. борьбой против Сунь Ятсена в Кантоне совместно с гуансийскими милитаристами.
Основную часть группировки Вампу составляли воспитанники военной школы Вампу, начальником которой в своё время был Чан Кайши.
«Группировка братьев Чэнь Лифу и Чэнь Гофу» – это племянники Чэнь Цимэя, покровителя Чан Кайши после победы синьхайской революции 1911 г. Она начинала набирать влияние в аппарате Гоминьдана.
Определённую роль в Гоминьдане играла и группа старейшин.
«Группа Сунь Фо», незначительная по своей численности, занимала несколько особое место. Внутригоминьдановское значение её определялось, главным образом, личным престижем Сунь Фо как сына Сунь Ятсена. Сунь Фо сохранял связи с Кантоном и рассматривался как представитель американофильских кругов в Гоминьдане.
Уже упоминавшиеся ранее «реорганизационисты» Ван Цзинвэя и «третья партия» Тан Лишаня и Дэн Яньды находились по другую сторону «баррикады», на стороне противников нанкинского правительства или за границей.
Мукден пытался (и небезуспешно) повлиять на состав правительства.
«Сообщение об отставке Суна (Сун Цзывэнь – министр финансов, заместитель председателя Исполнительного юаня. – Авт.) передано в прессу группой Ху Ханьмина, – докладывал Рамзай 19 октября 1930 г. – Фактическая группа Чан Кайши не готова для выступления по этому вопросу и ожидает партконференции (IV-го пленума ЦИК Гоминьдана. – Авт.). Из японских кругов сообщают, что Мукден требует также увольнения Ван Чжэтина (министр иностранных дел нанкинского правительства. – Авт.), как дальнейший шаг для устранения Чан Кайши.
Армия нац[ионального] пра[вительства] заняла всю западную часть Хэнани до конца желдороги. Часть их перешла на северный берег реки (Хуанхэ. – Авт.). Войска бывших генералов Фэна – Ли Минчжун и Чжан Чжицзян перешли в лагерь нац[иональной] армии. Немецкий инструктор Шаунбург считает боеспособность армии Фэна в данный момент очень низкой. Утверждает, что у Фэна теперь не больше 20 000 хороших способных войск.
Р.
Ценный.
Ма[маев]
23/X».
«Взятая Вами линия информации правильна, – отреагировал Центр 28 октября 1930 г. на поступавшую телеграфную информацию от Зорге. – Сосредоточьте своё внимание на след[ующих] вопросах:
1. Позиция Нанкина в советско-китайской конференции.
2. Позиция держав в этом вопросе.
3. Борьба между Ху Ханьмином и Чан Кайши.
4. Политика Чжан Сюэляна и его ориентировка на группировки внутреннего Китая.
5. Позиция Ван Цзинвэя.
6. Уточняйте силы и дислокацию войск группировок.
7. Куда отошли из Чжэнчжоу части Фэна. Тщательно следите за всеми перебросками на подавление красных.
БЕРЗИН».
На советско-китайских переговорах Китай представлял Мо Дэхой, назначенный в начале января 1930 г. дубанем (председатель правления) Китайско-Восточной железной дороги. В марте китайская пресса объявила, что нанкинское правительство не станет обсуждать вопрос о восстановлении дипломатических отношений с Советским Союзом до тех пор, пока не получит удовлетворительных гарантий, что русские должностные лица не станут вмешиваться во внутренние дела Китая и поощрять коммунистическое движение в стране.
В Москву Мо Дэхой прибыл 9 мая 1930 г. Его задача, подчеркнул китайский посланник, вести переговоры о выкупе КВЖД. Заявление это было не только амбициозным, но и провокационным. Оно не было подкреплено финансовыми возможностями Нанкина. Хотя с мая по октябрь 1930 г. китайская делегация и находилась в Москве, приступить к официальным переговорам так и не удавалось. 21 ноября 1930 г. Чан Кайши вновь заявил, что Китай никогда не признает Хабаровский протокол, «…подписанный без предварительного согласия национального правительства».
28 октября 1930 г. Зорге сообщил об организации авиаотрядов в НРА:
«Содержание копии документа из Нанкина об организации авиаотрядов: имеется 6 отрядов, каждый отряд из 15-ти машин, большинство машин Юнкерс. 2 отряда по линии Лунхай и Шандунь – Пукоу, 1 отряд – в Гуандуне, 1 – по жел. дороге Ханькоу – Пекин, 1 – Хунань – Цзянси и Нанкин. Организация каждого отряда: 1 начотряда, 1 пом. нач. отряда, 3 начотделения, 2 служащих штаба отряда, 1 нач. машиноуправляющий, 15 лётчиков, 1 врач, 3 человека для приёма и передачи, 2 для снабжения, 1 секретарь, 3 для машиноуправления, 3 служащих оруж. дела, 1 радист, 1 фотограф, 1 для сохранения материалов, 1 особого дела, 27 машинистов и 30 солдат в разных отделениях отряда.
Рамзай.
В[есьма] ценный.
Ма[маев].
1/XI».
К 1931 г. выросшие доходы от таможенных пошлин после введения нового тарифа от 1 февраля 1929 г., тесная связь с шанхайскими банками и выпуск внутренних займов позволили Чан Кайши продолжить перевооружение своих войск и формирование новых дивизий под руководством германских инструкторов. Реальная военная и финансовая власть сосредоточилась фактически в руках Чан Кайши, Сун Цзывэня (министра финансов) и Кун Сянси (министра промышленности и торговли), связанных с Чан Кайши не только политическими, но и родственными узами.
4 ноября 1930 г. из Шанхая была отправлена информация, полученная от одного из немецких военных советников:
«Немецкий инструктор Мёлленхоф рассказывал, что для организации 12 образцовых дивизий в течение года приглашено ещё около 20 инструкторов из Германии. Из старого состава немецких инструкторов уехали обратно Венд, Мольтке и Техов. Фон Крибель дальше работает под руководством фон Ветцель. Из всех инструкторов только 5 были все время на фронте и последнее время 1 в Ханькоу. Мёлленхоф имеет тесную связь с белыми, он друг генерала Семёнова и барона Сукантона, имеет также связь с англичанами. Отношения с Чан Кайши очень хорошие, с другими генералами часто плохие. Жалование обыкновенного инструктора не меньше 1200–1500 мекс. долларов.
Р.
Штерну».
Одновременно Рихард продолжал докладывать в Центр о внутри- и внешнеполитических манёврах национального правительства и лично Чан Кайши:
«Шанхай, 5-го ноября 1930 г.
В целях отвлечения общественного внимания и иностранных государств от внутреннего положения и также Мукдена от вопросов, связанных с Пекин-Тяньцзинским районом, нац[иональное] пра[вительство] против всякого соглашения на советско-китайской конференции. Имеются сведения, что Нанкин собирается установить связи с группой стариков мукденских генералов, которые оппозиционно настроены к политике Чжан Сюэляна. Нанкин готов пойти на уступки Японии, лишь бы добиться у неё поддержки в срыве советско-китайской конференции. В связи с этим особое значение приобретает поездка матери и брата Суна [Сун Цзывэнь] в Японию, т. к. этому предшествовали переговоры Чан Кайши с японским представителем в Нанкине. Сун получил заём в размере 80 миллион., предоставленный Гонконг-Шанхайским банком с условием, что часть займа пойдёт на усиление обороноспособности на северной границе Маньчжурии.»
11 ноября Центр поставил перед Зорге ряд вопросов, подлежавших освещению:
«Содержание соглашения Чан Кайши и Чжан Сюэляна имеет для нас большое значение. Выясните. Усильте информацию о планах и переброске войск для разгрома красных. Давайте дислокацию не ниже бригады.
БЕРЗИН».
В ответ на запрос Центра Зорге телеграфировал 20 ноября 1930 г.: «От секретаря Суна [Сун Цзывэнь]. Независимо от результатов переговоров с Чжан Сюэляном Нанкин подготовляет войну против Мукдена; поход нацармии в Шэньси уже является стратегической подготовкой этой войны. Платформа Ху Ханьмина в вопросе реорганизации правительства вместе с увольнением Суна и Вана [Ван Чжэтин] и назначения Ху Ханьмина председателем исполнительного юаня: уменьшать значение провинциальных правительств и губернаторов, а увеличивать политический и административный вес небольших дистриктов. Ху Ханьмин уже назначил своих генералов губернаторами в Хэнани, Хубэе, Цзянси и Аньхуе.
Р.
Копию т. Штерну.
Берзин».
И действительно, состоявшаяся в Нанкине встреча Чан Кайши и Чжан Сюэляна не являлась свидетельством их действительного примирения и сотрудничества. Это свидание лишь зафиксировало то временное, неустойчивое положение, которое фактически создалось на основе существовавшего соотношения сил, и которое каждая из сторон собиралась изменить в свою пользу.
Ху Ханьмину не удалось добиться увольнения со своих постов министра финансов и иностранных дел Ван Чжэтина и Сун Цзывэня, соответственно. Не удалось ему реализовать свою идею быть избранным председателем Исполнительного юаня, к тому же он в это время занимал пост председателя Законодательного юаня. Председателем Исполнительного юаня на 4-м пленуме ЦИК Гоминьдана был назначен Чан Кайши, являвшийся председателем Национального правительства.
21-го ноября 1930 г., информируя Центр о попытках нанкинского правительства получить американские займы, Зорге сообщал и о ходе подготовки военной кампании против «красных»:
«Сун [Цзывэнь] едет в Америку для переговоров о займе до 500 миллионов. Друг Тана утверждает, что принципиально Морган уже согласен и Сун едет только для окончательных переговоров. Другие думают, что дело не так благоприятно, но что перспектива не плохая.
В связи с этим решение Чан Кайши руководить кампанией против красных по нашему важно и серьёзно. Экономические интересы американского капитала требуют особенно чистку на Янцзы. Связана с кампанией против красных, вероятно, также подготовка нападения на Гуанси, может быть, Гуандун. Для того 60-я и 61-я дивизии в Хунани. Место их пребывания держится в секрете.
Рамзай.
Ценный.
26/XI Ма[маев]».
23-го ноября 1930 г. Зорге сообщил информацию, полученную из Нанкина: «Посланный нами в Нанкин друг подтверждает наши сообщения о пленуме и серьёзности решения начать наступление против красных одновременно с подготовкой наступления на Гуандун. Чан Кайши едет скоро в Ханькоу руководить операцией. 60-я и 61-я дивизии обезоружили 2 полка Хэ Цзяня у Лилина (провинция Хунань. – Авт.). Пленум передал дело реорганизации армии Яня [Янь Сишань] – Шань Чену (? – Авт.), что означает сохранение военных сил Яня по желанию Мукдена.
Р.
Ценный.
Подпись».
В дальнейшем не вся информация подтвердилась. Чан Кайши отказался от идеи усмирения мятежных генералов в Гуандуне. Более того, он решил направить гуанси-гуандунскую группировку войск для уничтожения частей Красной армии. Столкновение «центральных» (гоминьдановских) армий с «южными», которое предсказывал Зорге, произошло позже – в весенне-летний период 1931 г.
28 ноября Зорге впервые сообщил, без всяких на то ориентировок Центра, о готовности Японии выступить против Советского Союза в случае очередного конфликта на КВЖД. Эта информация активно обсуждалась в окружении атамана Семёнова:
«Шанхай, 28 ноября 1930 г.
Атаман Семёнов опять сообщает, что Япония готова действовать против СССР в случае нового конфликта. Семёнов передаёт из Японии в Маньчжурию, но хочет раньше встретиться с Чан Кайши и немецким инструктором Мёлленхофом. Старается устроить встречи. Председатель Международной Комиссии по серебряным деньгам в Вашингтоне приехал в Шанхай для переговоров с Нацправительством о займе в 500 миллионов. 75-й полк 12-й дивизии обезоружен красными у Хуанпи на севере Хубэя на жел. дороге, два полка 48-й дивизии отправлены туда. Действие красных очень оживляется во всех частях Хубэя.
Р.
III
Штерну, Начштаба.
Ценный.
Подпись».
8 декабря 1930 г. Зорге доложил о позиции мукденского правительства по отношению к Хабаровскому протоколу: «Секретарь Иностранных дел в Нанкине рассказал мне следующее: Мукден согласен с политикой Нац[ионального] правительства против Хабаровского протокола, против дипотношений с СССР и будет настаивать на выполнении всех пунктов соглашения 1924 года. В этот момент Нац[иональное] правительство будет избегать повторения военного конфликта в СССР.
Р.
К сведению.
Подпись».
8 декабря 1930 г. Зорге отправил радиограмму о провале планов национального правительства «получить крупный заём в Америке»: «Возможен заём от консорциума международных банкиров, но под условием полного контроля Китая, что-то вроде плана Дауэса. Для этого нац[иональное] пра[ительство] не готово. Сун не поедет и будет занимать старую должность.
Р.
III Штерну.
Таиров
Ценно.
Подпись».
За информационные шифртелеграммы, поступавшие от зарубежных резидентур, III отделом ставились следующие оценки: «весьма ценный [материал]»; «ценный [материал]», «ценно», «ценное донесение»; «малоценный [материал]»; «к сведению».
Из общего числа информационных телеграмм, отправленных Гурвичем с января по апрель 1930 г. были получены следующие оценки: шесть – «весьма ценных»; девять – «ценных»; две – «малоценные» и шесть – «к сведению».
Из телеграмм, отправленных из Шанхая Улановским с января по сентябрь 1930 г., четыре телеграммы получили оценку «весьма ценные»; 21 – «ценная» (в том числе, и на основании информации, полученной Рамзаем); две – «малоценные» и 15 – «к сведению».
Телеграммы, направленные Зорге в мае – декабре 1930 г., оценивались следующим образом: четыре – «весьма ценные»; 46 – «ценных» и 12 – «к сведению».
В шифртелеграммах Гурвича и Улановского информация о внутренней и внешней политике китайских властей, о позиции иностранных держав занимала несущественное место. Основное внимание уделялось военной информации, как правило, не упреждавшей, дававшей оценку уже происшедшим событиям.
Зорге же давал оценку внутренней политики правительства Чан Кайши, о взаимоотношениях нанкинского правительства с Мукденом, предпринимаемых внешнеполитические шагах. Нередко «Рамзай» писал: «по моему мнению».
В первом квартале 1931 г. в Шанхай из Центра поступили оценки на часть материалов, отправленных Улановским и Зорге во второй половине 1930 г. Эти оценки любопытны тем, что содержали в ряде случаев комментарии и указания по дальнейшему добыванию разведывательной информации:
«VIII (месяц отправления почты в 1930 г. – Авт.); – (должен быть номер пленки. – Авт.); Рез[идент]. Приказы по учебному отряду. ЦЕННЫЙ. Приказы по дивизии /по административной части/ нам нужны, поскольку они рисуют картину состояния внутренней службы /дисциплина, быт, политвоспитание и пр./.
VIII; —; —// – Положение внутри ГМД [Гоминьдана]. ЦЕННЫЙ. Давая такие обзоры /здесь дана краткая история реорганизационистов/, надо их сопровождать оценкой вооружённых сил. Пусть источник даст справку, какие и где вооружённые силы имеют под своим влиянием реорганизационисты.
VIII; —; —// – Приказы по 18-й дивизии. ВЕСЬМА ЦЕННЫЙ. Это приказы 18-й дивизии по борьбе с красными. Доставайте и впредь.
VIII; —; —// – О Гуансийской группировке. ЦЕННЫЙ. Оценку обстановки китайских источников, по возможности авторитетных, нам получать желательно. Данный источник дал оценку положения на фронтах. Это для нас не ценно. Однако его информация о „Юань Лао-пай“ – группировке Ху Ханьмина – ценна. Пусть источник даст более подробную информацию об этой группировке: кто в неё входит, чем вызвано её формирование, какие ставит задачи, почему недовольна ЧКШ и т. д. Надо ставить дату на документе.
9/XI (дата отправки почты из Шанхая. – Авт.); 1; Рамзай. Организация военно-авиационных отрядов. МАЛОЦЕННЫЙ. Эти же сведения, расходящиеся в небольших деталях, даны нам 1/XI. Донесение подтверждает предыдущие сведения, но не даёт конкретных данных. Нам нужно: 1/ какие и кому сделаны заказы на самолёты Мукденом и Нанкином /количество/ и срок исполнения, 2/ сколько и куда послано китайцев за границу для изучения авиадела, 3/ достать фотоснимки указанных в донесении самолётов /Кершос, немецкие/. Очень желательно в дальнейшем подкреплять все сообщения о материальной части фотоснимками. Сведения по „генеральской войне“ в Китае нового нам ничего не дают, известно об этом было и из других источников.
–//—; 9; —//-… ВЕСЬМА ЦЕННЫЙ. Надо отметить, что на фоне материалов „Рамзая“ это один из ценнейших документов (здесь и далее выделено мной. – Авт.). Надо усилить добычу материалов как по характеристике и описанию операций 1930 г., так и оценку армии ЧКШ. Источник обещает в этом докладе ещё подробнее описать об использовании орудий Эрликона, пех. гаубицы и лёгкого пулемёта. Это нужно обязательно. Уточните калибр пех. гаубицы. Дайте тактическую оценку этого оружия.
–//—, 10, —//– МАЛОЦЕННЫЙ. Статьи Рамзая для немецкой прессы нам не нужны.
–//—, 12, —//– Общее положение Нанкинского правительства. ЦЕННЫЙ. Рамзай даёт в целом правильную политическую оценку положения. Нам от него надо: 1/ подробнее о деятельности нем. инструкторов, 2/ выбрать 1–2 дивизии и дать им полную оценку /организация, обучение, состав, дисциплина и т. д./, характеристику вооружения; 3/ описание военной школы в Нанкине: состав, программы, комплектование и пр.».
Нумерация почты шла по нарастающей и до конца 1930 г. продолжала ту нумерацию, которая была принята Шерифом. С 1931 г. Рамзай начал свою нумерацию почты с № 1. Как следовало из оценок, в 1930 г. Рамзай сотрудничал с немецкими газетами, куда отправлял свою корреспонденцию.
«10/1–31 г.; Рамзай. Разные материалы. ЦЕННЫЙ. Данные по составу войск в отдельных провинциях будут использованы. Состав частей надо время от времени повторять. Надо высылать нам /если можно/ приказы Нанкина – его Военного Совета по личному составу армии. Надо добывать штаты дивизий, хотя бы на китайском языке.
3 (номер почты. – Авт.); 19 (номер плёнки. – М.А.); —//– Разный материал о кит. армии. ЦЕННЫЙ. Всё же надо сказать Рамзаю: 1/ не фотографировать сведения из газет, 2/ фотографировать аккуратнее.
4; 8; —//– Разные документы. ЦЕННЫЙ. К сожалению, почти все снимки сняты плохо, обрезаны концы. Надо обратить внимание Рамзая на более тщательное фотографирование.
5; 15; —//– Политический материал /на нем. яз./. БЕСЦЕННЫЙ. Материал не может быть прочтён, так как фотографии совершенно слепы, неразборчивы».
Материал «бесценный» только потому, что его невозможно прочесть.
«VIII [1930]; 26; Рез. Письмо из Пекина о положении „левых“. ЦЕННЫЙ. 1. Анализ взаимоотношений сишаньцев и реорганизационистов не даёт ничего нового. 2. Анализ курсантов, окончивших Вампу, – ценный. Надо изучать военные школы. Жаль только, что это изучение носит случайный характер. Нам надо исчерпывающий доклад о военной школе в Нанкине.
29–11–30; 22; Рамзай. ЦЕННЫЙ. Нами уже отмечалась желательность такого рода обзоров взаимоотношений между отдельными группировками. Надо сопровождать их оценкой вооружённых сил.
5; 12; —//– ЦЕННЫЙ.
5, 15, —//– Фотоматериал /разные донесения/. ВЕСЬМА ЦЕННЫЙ. Письма Ф., конечно, ценны, ценно также то, что Рамзай дал перечень всех частей Гуандуна. Это надо делать и по другим группировкам. Надо сказать Рамзаю, чтобы он не увлекался обзорами прессы. Шанхайскую прессу мы читаем, и ему нет надобности этими обзорами загружать почту». /Оп.3573. Д.4. Л.26/
«29–11–30; 19; Рамзай. ЦЕННЫЙ. Наибольший интерес и ценность для нас представляет описание борьбы между генералами в Гуандуне с оценкой их сил.
3; 18; —//– Материал о китфронте /запись беседы т. И.К. с секр. ВО, т. Майер и т. Лю/. ВЕСЬМА ЦЕННЫЙ».
«VIII; п. – ; Рез. Схема организации военных школ и пояснительная записка. ЦЕННЫЙ. Все же донесение написано наспех и очень небрежно. А жаль, нам надо дать более детальный материал по организации и программам центральной военной школы в Нанкине».
«29–11 [30]; п. 7. ЦЕННЫЙ. Материал, суммирующий его телеграфные сообщения о силах белых в ЦЗЯНСИ, ХУБЭЙ и ХУНАНИ. Обещанный перечень всех дивизий ЧКШ с их краткой характеристикой очень нужен».
Материалы, отправленные Зорге и оценённые Центром как «весьма ценные» и «ценные», носили в основном документальный характер и освещали разнообразную проблематику.
Вышеприведённый перечень даёт возможность представить себе широту охвата военной и военно-политической обстановки в Китае, а также свидетельствует о наличии источников, которые способны были добывать эти материалы.
Следует отметить также, что часть претензий была связана не с содержанием материала, а с качеством его фотографий. Как следовало из оценки одного материала, Рихард Зорге во второй половине 1930 г. продолжал сотрудничать с немецкими газетами, куда отправлял свою корреспонденцию. Малоценными были признаны его статьи для немецкой прессы с ремаркой, что они «нам не нужны». Не представляется возможным судить о характере и содержании этих статей и оспаривать оценку Центра. Показательно другое: в течение 1930 г. Р. Зорге писал статьи для германской прессы.
1.2. Труженик «Филипс» – помощник «Рамзая»
8 сентября 1930 г. Рамзай уже был в Шанхае. И по предложению Шерифа «пока» возглавил резидентуру. Центр тоже рассматривал кандидатуру Рамзая как временную и приступил к поиску нового резидента для Шанхая. Каких-либо планов дальнейшего использования Рихарда не существовало. А те намётки, которые были, многократно менялись в течение второй половины 1930 г. В создавшейся обстановке Центр выступал в роли пожарника, не пытаясь просчитать ситуацию на несколько ходов вперёд. Сказывался острый дефицит зарубежных руководителей.
Временщиком сознавал себя и сам «Рамзай», однако, вернувшись в Шанхай, он без промедления приступил к руководству резидентурой.
Зорге принял от Улановского корейца «Вили», японского «Жоржа» («Джорджа») – Гинити Кито и китайского «Жоржа» (Чэня) в Ханькоу с их связями.
Первое, что сделал Зорге, это подобрал двух человек и отправил их в Кантон, для продолжения работы, которую он с Агнес там оставил. Выбор производился из уже имевшихся знакомых Смедли.
С этого момента начался отсчёт создания Рихардом Зорге собственной агентурной сети, ядро которой будет работать до 1935 г.
24 сентября 1930 г. он сообщил в Москву, что «Вили» «потерял связь с единственным агентом в Нанкине» и что «агент украл 280 мексов». Из последовавшей переписки с Центром следовало, что укравший деньги китаец живёт «на свободе» в иностранной концессии в Нанкине и что его бегство не угрожает «безопасности Вили». Был ли это «Цзян» или кто-то другой, сказать трудно.
26 сентября Зорге напомнил Центру насчёт денег: «Прошу срочно выслать деньги с курьером из Харбина или через фирму в Шанхай. Не могу платить жалованье для всех работников в октябре. Если пошлёте с курьером, передам ему почту для Вас. Явка и пароль та же самая, как для Фройлиха».
7 октября 1930 г. Рамзай, осмотревшись на месте, направил Центру оптимистическую реляцию:
«1) Обследовал внимательно после отъезда Шерифа положение всех наших работников. По-моему, у нас всё в порядке. 2) Какой месячный бюджет в нашем распоряжении? 3) Прошу отправить Фриду».
«В данный момент Фриду отправить не можем», – отреагировала Москва на неоднократные просьбы «Рамзая», высказываемые им на этот счёт.
Центр не считал возможным оставить Зорге, не имевшего достаточного опыта конспиративной работы, шанхайским резидентом вместо Улановского. В Шанхай срочно подбирался новый резидент. А до его приезда содействие «Рамзаю» должен был оказывать «Филипс» (он же «Фриц») – Евгений Густавович Шмидт (настоящая фамилия Кальнын), который направлялся в Шанхай в качестве помощника резидента и должен был прибыть на место ориентировочно 24 октября 1930 г. В Китае он проживал по латышскому паспорту, под фамилией Отто Гринберг, «являясь» бухгалтером часовой фирмы.
18 октября 1930 г. Зорге получил указания Центра на перспективу:
«По приезде резидента, которого мы подготавливаем здесь, предполагаем внести следующие изменения в В/работе:
1) Вы возвращаетесь на Юг и устраиваетесь не в Кантоне, а в Гонконге, а кантонскую рацию переводите в Макао вместе с радистом Зеппелем;
2) русского радиста переводите из Кантона в Ханькоу, где должна быть создана новая рация;
3) по приезде Фрица, хорошо знающего радиодело, Макса отправьте в наше распоряжение».
На самом же деле резидента ещё не готовили, его только подыскивали. Из указания «устраиваться не в Кантоне, а в Гонконге» следовало, что Центр прислушался к рекомендациям Улановского по поводу организации работы на Юге Китая.
А «Фриц» – Шмидт Е. Г. уже 28 октября был на месте. Только здесь он проходил под псевдонимом «Филипс».
23 ноября из Шанхая поступила телеграмма за подписью «Филипс»: «Положение критическое, нет денег. Чтобы не страдала работа, просим впредь регулярно в определённый срок высылать причитающуюся нам сумму».
В дальнейшем, вплоть до отъезда Шмидта, телеграммы из Шанхая подписывались и вместе «Филипсом» и «Рамзаем», и порознь. Это говорило о том, что ни тот, ни другой не воспринимал себя резидентом. Хотя телеграммы из Москвы адресовывались только «Рамзаю».
25 ноября в Москву ушла телеграмма с реакцией на предложения Центра: «Считаем поездку Рамзая и Зеппеля на юг нецелесообразной. Более полезны здесь. Пока для них климат благополучный. Начали и продолжаем развивать информационную связь с югом. Работают уже двое. Если не имеется самостоятельный работник для юга, следует закрыть мастерскую в Кельне. Создать снова в Милане всегда легко. Отправить русмастера в Гамбург нельзя, лежит на кровати. Рекомендуем создать там мастерскую только по приезде постоянного работника. Пока иногда Гамбург может посещать Рамзай. Работать там трудно. Просим Ваше решение о Максе временно отменить. Филипс. Рамзай».
В Шанхае приняли к исполнению распоряжение Центра впредь в переписке вместо слов «рация» и «радист» употреблять слова «мастерская» и «мастер». Заменялись также названия китайских городов: Кантон на «Кельн», Шанхай на «Штеттин», Ханькоу на «Гамбург», Гонконг на «Гаага», Макао на «Милан».
Так как в указаниях присутствовали не все города, проходившие в переписке, Рамзай предложил заменить отсутствовавшее в указаниях Центра слово «Нанкин» словом «Неаполис». Одновременно он предложил употреблять вместо словосочетания немецкий инструктор – «профессор».
28 ноября 1930 г. Зорге и Шмидт направили курьером в Центр через Харбин «Краткую докладную записку», в которой сделали «весьма короткое уведомление о нашей работе в настоящее время, не оставляя в тени перспективы дальнейшей работы». Записка была написана эзоповым языком с сокращениями, так как была отправлена не в тайнописи и не на фотоплёнке.
В разделе «Личный состав Р[езидентуры]» отмечалось, что много времени отнимает зашифровка телеграмм и что в перспективе будет ставиться вопрос о «техническом работнике». «Большим диссонансом» в работе резидентуры являлась «постоянная болезнь нашего русского мастера», диагноз болезни которого врачами ещё точно не был установлен, но предполагалось, что туберкулёз лёгких в тяжёлой форме. В этой связи открытым оставался вопрос направления Мишина в Ханькоу. «Для местной работы необходимо иметь постоянно, считаясь с настоящим объёмом работы, двух мастеров», указывали «Рамзай» с «Филипсом», исходя из чего, они просили временно отменить решение об отзыве Макса, который всё ещё находился в Кантоне вместе с Мишиным.
Относительно приобретения «секретных сотрудников» дело, по мнению авторов «Записки», начало улучшаться. Зорге удалось связаться с рядом немецких инструкторов, и он собирался «к ним в гости» в Нанкин. С одним из них даже завязалась дружба, и кое-что уже было получено, «но ещё слабоватое».
«Условия работы тяжёлые – получают очень много», – констатировали «Рамзай» с «Филипсом», но высказывалась и надежда, что «труды не будут напрасные». Рамзай собирался «к ним в гости», и ждали результатов.
На юг в Кантон, как уже отмечалось, были отправлены двое (Цай с мужем) и «уже получили довольно хороший товар, который уже посылается Вам». «Единственно, трудно получить товар прямо со станка, но напрягаем всеё наше внимание на это», указывалось далее. «Ко[реец]» работал хорошо, но на «Яп[онца]» приходилось нажимать – «очень инертный». Было также организовано информбюро, и получался хороший результат. «Рамзай» и «Филипс» полагали, что перспективы работы хорошие.
Связь с «Костей» (Ануловым) в Харбине была налажена, но не использовалась из-за отсутствия фотоаппарата. С Югом поддерживалась регулярная почтовая связь.
В записке содержалась и реакция на предложение Центра отправить Зорге на Юг – в Гонконг: «Рам. послать в этот район на постоянную работу нельзя, есть обстоятельства, которые заставляют воздержаться от этого. Развивать работу и работать в Гамбурге постоянно весьма трудно, т. к. колония очень маленькая. Для работы там следует подыскивать очень солидного коммерсанта и отпустить солидную сумму для фирмы».
Для более точного обследования этого района и налаживания информационной связи предполагалось послать кого-нибудь или направить туда «Рамзая», но временно. Организация постоянной работы в Нанкине считалась преждевременной, при этом отмечалось, что Рамзай там бывал наездами.
По мнению «Филипса», из поездки Фрейлиха с Зорге «кроме скандала больше ничего не выйдет, и он против такой поездки, т. е. с документами официальных лиц».
Ожидался ответ Центра по этому вопросу. 5 декабря шанхайский курьер выехал с деньгами для резидентуры «от Кости».
18 декабря Зорге направил пояснение в Москву по поводу перевода денег: «Если Вы будете высылать для нас через Вашу фирму в Шанхае, то по желанию этой фирмы нельзя посылать деньги через Дейтше Азиатише банк, а нужно через Америкен-экспресс Кампани. Жалованье для меня высылайте дальше так, как до сих пор».
Фирму одного из братьев Гольпер («Эммерсона») «Рамзай» называл «вашей фирмой». А призыв больше не переводить денег через Дейтше Азиатише банк делал ещё «Шериф» в начале июля этого года.
1.3. «Одним словом, дело – дрянь» («Фрейлих» – Берзину)
В китайской политике Москвы ко второй половине 1930 года определилась существенная эволюция – на первое место была выдвинута задача создания и укрепления Красной армии и территориальной базы советов в ряде сельских районов Центрального Китая. Этому в определённой степени способствовали и рекомендации, поступавшие из шанхайской резидентуры.
Ещё 6 марта 1930 г. Улановский телеграфировал в Москву:
«Срочно обсудите следующее: стихийный рост партизанского движения особенно … Китая выдвигает важнейшей задачей центральное руководство и связь между отрядами. Созываемая в начале мая конференция достигнет своей цели только в том случае, если партия сделает себя необходимой для отрядов. Предлагаю снабдить крупнейшие [отряды] рацией. Расход максимум 150 ам. долларов станция; если оставите Ганса мне в Шанхае, можно делать одну станцию 3 дня. Необходимы только китайские радисты. Принятие плана обеспечит нам точную информацию с мест. Ответ не позже конца апреля. Делаю попытку посылки вам сводки прессы почтой. Получение подтвердите.
Шериф.
В[есьма] ценный.
Подпись».
8 сентября 1930 г. Рамзай получил телеграмму, подписанную помощником начальника IV-го Управления (он же начальник 3-го, информационнного, отдела) А. М. Никоновым:
«Последних числах сентября Вам явится наш работник, едущий на самостоятельную работу в Ханькоу. Строчите. Срочно обеспечьте надёжную явку и пароль для него. Работник называет себя Фрейлих. Можете быть с ним вполне откровенным и окажите ему всяческое содействие, особенности приобретения раций или принадлежностей для них. Продумайте заранее возможности покупки всего необходимого для пяти раций примерно 100–150 ватт. Договоритесь также о радиосвязи Вами. Шифровки Фрейлиха направляйте незамедлительно».
Фрейлих – Гайлис (Валин) Август Юрьевич, 1895 года рождения, латыш. В РККА с 1918 г. Член РКП(б) с 1918 г. Окончил Военную академию РККА (1920–1923 гг.). Военный советник германской компартии (1923–1925 гг.), в распоряжении заместителя НКВМД и председателя РВС СССР (1925–1926 гг.), член, секретарь Китайской комиссии Политбюро ЦК ВКП(б) (1925–1926 гг.), помощник, заместитель начальника 4-го отдела IV-го Управления штаба РККА (сентябрь 1926 – август 1930 года), в распоряжении того же Управления, руководитель группы военных советников при ЦК КПК (октябрь 1930 – ноябрь 1931 года).
29 июля 1930 г. А. Ю. Гайлис был утверждён в качестве члена Дальневосточного бюро Исполнительного комитета Коммунистического интернационала в Шанхае. Состав Дальбюро постоянно менялся и обновлялся. Основная причина текучести его членов – угроза провала, а вернее, угроза ареста вследствие провала.
Дальневосточное бюро ИККИ в Шанхае было образовано для усиления влияния Коминтерна в Китае. Его работа началась с июня 1926 г.
В новый состав Дальбюро, помимо Гайлиса, главы группы военных работников, входили: от ИККИ – П. А. Миф (руководитель, находился в Китае с октября 1930 г. по апрель 1931 г.); Г. Эйслер (уехал в Москву в январе 1931 г.); И. А. Рыльский («Остен», вернулся в Китай в августе 1930 г. и находился в Шанхае до августа 1931 г.); от Профинтерна – С. Л. Столяр[5] («Джеки», «Леон», находился в Шанхае до июня 1931 г.); от КИМа – Г. М. Беспалов[6] («Вили», находился в Шанхае до весны 1931 г.). В работе Дальбюро принимал участие и представитель ОМС в Китае А. Е. Абрамович, который с декабря 1927 г. по март 1929 г. (до начала работы в Шанхае Дальневосточного бюро) был не только распорядителем средств и организатором связей между ИККИ и КПК, но фактически и политическим представителем ИККИ.
Председателя Дальбюро ИККИ Мифа, считавшегося в то время в Политбюро ЦК ВКП(б) крупнейшим знатоком Китая, звали на самом деле Михаил Александрович Фортус. Псевдоним Миф, под которым он был известен в партийных кругах, был составлен из аббревиатуры имени и фамилии. В 1930 г. ему было всего 29 лет, но он уже снискал известность как в Коминтерне, так и в рядах КПК. С апреля 1927 г. и до своего отъезда помимо работы в ИККИ он являлся ректором Университета трудящихся Китая им. Сунь Ятсена (УТК), созданного в 1925 г. для подготовки китайских революционеров. После поражения КПК в «национальной революции» и установления в Китае белого террора УТК в сентябре 1928 г. был переименован в Коммунистический университет трудящихся Китая (КУТК). Несколько ранее, в конце 1928 г., в него были переведены китайские студенты Коммунистического университета трудящихся Востока (КУТВ). Летом 1929 г. русское наименование КУТК изменилось: теперь он стал называться Коммунистический университет трудящихся-китайцев. К осени 1930 г. университет был закрыт, а центром для обучения китайской революционной молодёжи становится Международная ленинская школа (МЛШ).
При нахождении в Китае и по возвращении в Москву Миф целенаправленно протежировал выпускникам КУТК, получивших название «птенцов Мифа», и целеустремлённо выдвигал их на руководящие посты в китайской компартии – «мифовская революция». В Шанхае Миф находился под видом немецкого коммерсанта по фамилии Петершевский (в Германии ему в целях конспирации даже сделали пластическую операцию).
Новый член Дальбюро ИККИ «Фрейлих» – Гайлис прибыл в Шанхай не один, вместе с ним были В. П. Малышев[7] и Л. С. Фельдман[8].
Малышев в 1927–1928 гг. был начальником военно-политических курсов при Коммунистическом университете трудящихся Востока, в 1927–1929 гг. – слушатель Восточного факультета Военной академии. В 1930 г. он занимал должность помощника начальника 4-го отдела IV-го Управления Штаба РККА.
Зорге в своих «Тюремных записках» называл прибывших в Шанхай военных как группа «Фрейлиха – Фельдмана». Перед участниками этой группы была поставлена задача пробраться в советские районы Китая и, находясь там, осуществлять руководство военной работой.
Особенностью работы сотрудников IV-го Управления в Китае в эти годы являлось то, что вопреки имевшемуся официальному запрету резидентам приходилось действовать в контакте с органами Коминтерна в Китае, которые, в свою очередь, были тесно связаны в своей деятельности с руководством китайской компартии. Да и как не контактировать, когда Гайлис был сотрудником IV-го Управления Штаба РККА.
13 сентября 1930 г. Рамзай сообщил в Москву условия встречи с «Фрейлихом» (Гайлисом) и коснулся вопроса финансирования:
«1) Явка для Фрейлиха: Боугайский, 85, Роутеваллон, квартира и лавка.
2) Пароль: Фрейлих должен спросить Боугайского: где представитель фирмы немецких консервов господин ВЕЙНГАРТ? В комнате этого представителя Фрейлих должен сказать: „Хочу заказать 125 штук немецких консервов“, наш человек отвечает: „Наверно, вы получили адрес моей фирмы от германского консула?“
3) Желательно, чтобы Фрейлих говорил с Боугайским по-немецки и должен приходить только с 10 до 12 часов утра.
4) Прошу выслать деньги для нас с Фрейлихом или с курьером из Харбина, у нас только 800 амов.
5) Прошу выслать жалованье мне, так как до сих пор – из Гамбурга в Шанхай».
Как следовало из телеграммы, «Фрейлих» должен был встретиться с «Зеппелем» (Вейнгартом), который являлся представителем фирмы, торговавшей мясными консервами.
26 сентября «Рамзаю» поступило разъяснение по поводу раций. От него требовалось не «постройка рации в Шанхае», а «покупка частей для четырёх раций», которые «возьмёт с собой наш работник, едущий в Ханькоу». Части для радиостанций должны были быть закуплены за счёт прибывшего «работника» после его приезда в Шанхай.
Прибывший в сентябре в Шанхай А. Ю. Гайлис был полон наполеоновских планов, которые никоим образом не соотносились с обстановкой, в которой он оказался. При первой же встрече с «друзьями» до представителей китайской компартии было доведено, что основная задача – это пробраться в советские районы, чтобы наладить там работу. Кроме того, Гайлис собирался внести свежую струю в работу ЦК КПК ещё здесь, в Шанхае.
7 октября 1930 г. он докладывал в Центр о непростом положении в советских районах: «1. Согласно полученного от парткомитета Янцзы (Ханькоу) письма в северном Хубэе положение изменилось в худшую для нас сторону. Тактика физического истребления кулаков и зажиточных привела к колебанию середняков и вообще средних слоёв населения в сторону от сов. власти. Территория сов. власти в этом районе не только не расширяется и укрепляется, а постепенно суживается и становится все более рыхлой. …По словам Чжоу Эньлая, тактика физического истребления проводится также и в ряде других районов: Цзянси, Хунани, Цзянсу…
2. В конце декабря проектируется созыв съезда советов. Место ещё не намечено…
Фрейлих».
Параллельно Гайлис собирался радиофицировать «всех и вся». Идея, безусловно, плодотворная и очень актуальная, но, учитывая противодействие гоминьдановской разведки, для своей реализации требовала отсутствие какой-либо спешки и суеты. «1) В ближайшие дни посылаю 1 стоваттную в соврайон, – докладывал Гайлис в Центр 5-го октября 1930 г. – 50 ватт устанавливается в Шанхае для связи с Бюро ЦК на месте. Ожидающиеся из Америки 2 рации 15 ватт немедленно будут отправлены туда же. Заказать остальные 5 надо сейчас же. 2) Я буду связан с Вами, с Рамзаем и с Бюро в Шанхае через мастерскую ЦК. 3) Прилагаю все усилия, чтобы убраться отсюда. Думаю, недели через три удастся. Ориентировочно дорога займёт тоже три недели. 4) Прошу выслать нам под отчёт 3000 амов на зарплату в будущем и орграсходы.
Фрейлих».
И следующая телеграмма от 14 октября 1930 г. всё в том же мажорном духе: «Китайский радист Сергеич в августе согласовал с Филипповым во Владивостоке вопрос о позывных, времени и волне. Сергеич построил рацию для переговоров ЦК и КИ. С конца сентября до 10 октября рация работала, но не обнаружила Владивостока. Дайте новые позывные, время работы и волну или заставьте Филиппова работать по согласованным с Сергеичем позывным и времени. Часы желательно 24 по Хабаровску и нечётные числа. Это необходимо. № 06.
ФРЕЙЛИХ.
Согласовать с т. Абрамовым.
Б.».
20 октября 1930 г. в письме Берзину Гайлис поднял целый ряд практических вопросов, касавшихся организации связи с советскими районами, подготовки радистов в Шанхае с последующей отправкой их в советские районы и т. д. И, конечно, затронул вопрос финансирования всех сформулированных им предложений. Гайлис запросил у Москвы 10 000 американских долларов, которые предполагал расходовать следующим образом.
Четыре тысячи из этой суммы планировалось потратить на оплату организации постоянных маршрутов, посылки людей, директив и т. д. в соврайоны. До сего времени, по оценке Гайлиса, в этом отношении «кустарничали». Людей посылали, но после отъезда никто об их дальнейшей судьбе не был в курсе. Часть из них провалилась, часть застревала месяцами в дороге, а те немногие, которые всё-таки добирались до конечного пункта маршрута, были не в состоянии сообщить об этом. Гайлис справедливо считал, что должны быть разработаны постоянные маршруты с постами проводников.
В полторы тысячи долларов Гайлис оценил стоимость обучения радистов на месте. Это было, по его мнению, и дешевле, и удобнее. Возможности для такой постановки дела были, утверждал посланец Москвы. Имелся радиоинженер, партиец (китаец), который совместно с ещё одним товарищем был в состоянии это дело организовывать. Потребность же в радистах была и должна была стать ещё большей. У Гайлиса даже родился проект создать в Шанхае школу на двадцать человек со сроком обучения пять месяцев. Ожидавшиеся же из Москвы пять человек потребности в радистах не могли покрыть.
Три тысячи долларов планировалось израсходовать на закупку пяти – шести 15-ваттных радиостанций. Устройство такого типа уже испытали на месте и признали его «очень удобным и портативным».
Как минимум пятьсот долларов требовалось на первое время для организации в Шанхае военно-политической школы для трёхнедельной подготовки командируемых в соврайоны работников. По оценке Гайлиса, стоила такая школа недорого, но китайцы и на это не имели денег. Гайлис сам на первых порах готов был руководить школой и подготовить кадры китайцев, чтобы запустить учебный процесс.
Из самого письма следовало, что Гайлис совершенно оставлял в стороне вопросы конспирации. Отсюда всё было так легко на бумаге – не надо было никого отправлять в Москву, на месте можно было развернуть учёбу десятков людей, используя при этом базу и технический состав национального правительства.
Гайлис совершенно не хотел принимать в расчёт то, что находился он в стране с враждебным Советскому Союзу и китайским коммунистам правительством. Кроме того, в Шанхае активно действовали и английская, и французская спецслужбы.
Принятию решения Москвой об обеспечении частей китайской Красной армии рациями в определённой степени способствовали и рекомендации, поступавшие ранее от шанхайской резидентуры. Еще в начале марта 1930 г. Улановский констатировал, что стихийный рост партизанского движения выдвигал важнейшей задачей создание центрального руководства и установление связи между отрядами. Созывавшаяся в начале мая партийная конференция, был убеждён Улановский, могла достичь своей цели только в том случае, если партия проявила бы себя политической силой, необходимой партизанским отрядам и поддерживающей с ними постоянную связь. В этой связи Улановский предлагал снабдить крупнейшие отряды рацией, при стоимости одной станции максимум 150 американских долларов. Одновременно он готов был оказать и помощь в сборке раций. Макс Клаузен, по его словам, способен был собирать одну станцию за три дня. Необходимы только китайские радисты.
Вопрос поездки группы «Фрейлиха» в советские районы при всей бившей через край активности Гайлиса тем не менее не получал никакого разрешения. Как выяснилось, иностранцу пробраться в эти районы было ещё сложнее, чем китайцу. Гайлис предлагал китайцам тысячу американских долларов на расходы по организации перехода, заявлял о готовности пройти сотни километров пешком, подчёркивал, что он и его спутники не претендуют ни на какие удобства, что они готовы были «выступить при наличии 20–30 % шансов на успех». И все безрезультатно. Если бы было 4000–5000 долларов США на организацию маршрута, фантазировал Гайлис, то через месяц – два можно было бы ожидать результаты. Кроме того, как выяснилось, никто из его группы (и сам Гайлис также) не владел английским языком настолько, чтобы можно было путешествовать.
В письме Берзину Гайлис подчёркивал ещё «паршивые» условия работы. «Вследствие террора властей» встречи с китайцами можно было проводить только по вечерам. Днём «руководящие товарищи» не могли показываться на улицах. Они все были известны, и полиция их разыскивала. Более того, Гайлис уже встретил на улице пятерых знакомых по Москве. Как подтвердил он сам, его знакомые ранее обучались в Коммунистическом университете трудящихся Востока, Коммунистическом университете трудящихся Китая и в военных школах в Москве. Ситуация усугублялась тем, что часть китайцев из числа бывших московских студентов отошла от компартии. И таких «студентов» в Шанхае было немало.
Много энергии и времени уходит на конспирацию, т. е. на создание сколько-нибудь подходящих условий для работы, жаловался Гайлис Берзину. Для работавших здесь долгое время, по его словам, все выглядело иначе – они уже привыкли к обстановке. Для недавно прибывших, оторванных от работы в китайской Красной армии, обстановка прямо-таки убийственная, отмечал Гайлис.
«Одним словом, дело – дрянь» (выделено мной. – Авт.), – пришёл к выводу Гайлис.
13 ноября 1930 года Гайлис докладывал об успехах в деле организации подготовки радистов:
«Радиошкола работает уже 7 дней. Состав: 12 человек. Условия учёбы благоприятны, используем мастерские Нацпра. Обучает наш радиоинженер и техники, работающие официально у Нацпра. 4 радиста прибыли. Проходят практику на американском аппарате. Ввиду пожара станция ЦК переносится в другой дом, перерыв работы 15 дней. Сообщите Владивостоку. О начале работы сообщим.
Фрейлих».
Все выглядело настолько безоблачно, словно речь шла о подготовке радистов не в Шанхае, а где-то в Подмосковье.
К тому времени прошло два месяца пребывания группы «Фрейлиха» в Шанхае, а выбраться оттуда в советские районы Китая всё никак не представлялось возможным. 30 ноября 1930 г. А. Ю. Гайлис направил письмо Я. К. Берзину, в котором давал оценку сложившейся ситуации и предлагал выходы из создавшегося тупика. В частности, он писал, что уже месяц назад ЦК послал людей в Сватоу и Амой для организации маршрутов. Одно время казалось, что уже можно выезжать, но вдруг поступили известия, что провалились парторганизации в Сватоу и Амое. В такой обстановке Гайлис затруднялся говорить что-либо определённое о самой поездке вследствие того, что ничего конкретного китайцами так и не было предложено. «Ехать как купцу» представлялось неудобным. Китайцы предлагали направиться как миссионеру, они якобы могли подготовить кое-какие документы. Однако проблема заключалась не только в подготовке сопроводительных документов, – отсутствовали люди, которые знали бы дорогу.
И в этой тупиковой ситуации Гайлис, как он считал, изыскал ещё одну «возможность». «Есть ещё одна возможность. Это при помощи Рамзая (выделено мной. – Авт.), – писал Гайлис. – Он говорит, что у него есть некоторые возможности по организации экспедиции. Кое-какие бумаги он может получить от своего консула, тоже собирается получить охранное письмо от губернатора Чжэцзяна (Чжан Наньсянь. – Авт.). Я думаю, что стоило бы дать ему директиву организовать это дело. Сам он хочет. На месте мы бы его использовали по политической линии. Это тем более, что там кроме нас никого не будет, мы же будем заняты, главным образом, военными вопросами. Даже если китайцам удастся организовать поездку, то всё же Рамзай смог бы нам оказать сравнительно большую помощь. Прошу дать директиву».
Поразительное легкомыслие со стороны Гайлиса – предлагать оголять шанхайскую резидентуру для решения своих задач. Возможно, он с высоты своего положения рассматривал резидентуру как вспомогательную и подчинённую ему структуру, нисколько не задумываясь об отношении к своим планам самого Рамзая. Более того, утверждение о том, что Зорге не возражает против такой поездки, вообще не соответствовало действительности.
За пять дней до отправки письма, 25 ноября 1930 года, Гайлис доносил в Центр:
«Китайцы всё продолжают выяснять условия поездки. Конкретного ещё ничего не имеют. В Шанхае ожидают отправку 30 товарищей. Места директив не получают. Рамзай говорит о возможности организации научной экспедиции в составе нас и китайцев. Может получить кое-какие бумаги от германского консула. Прошу дать директиву Рамзаю организовать это. Если китайцы установят маршрут, то при помощи Рамзая и с его официальным положением проехать гораздо легче. На месте мы его бы использовали. Вильгельм (П. А. Миф. – Авт.) предложение поддерживает. Дайте ответ.
Фрейлих.
II
Вряд ли можно
использовать Рамзая.
27/XI Берзин».
Данное решение было далеко не однозначным.
Невзирая на всю кипучую активность, развитую Гайлисом, своей радиосвязи с Центром он не имел, а всю телеграфную переписку вёл, используя радиостанцию шанхайской резидентуры. Более того, видимо, передавал для передачи незашифрованные тексты для последующей зашифровки радистом резидентуры. В этой связи в один день с телеграммой Фрейлиха отправлена вторая телеграмма, где излагалась позиция резидентуры по данному вопросу: «Шанхай, 25 ноября 1930 г. Все попытки Фрейлиха не достигают цели. Т. к. у Рамзая в этом деле имеются некоторые возможности, которые следует ещё конкретно разрабатывать, Фрейлих просит Рамзая устроить поездку, но это значит, что Рамзай вернуться больше не сможет, придётся оставаться там. Просим срочно инструктировать. Филипс. Рамзай».
В третьем по счёту письме от 3 декабря 1930 г. Гайлис счёл возможным остановиться на некоторых «общих вопросах китайской обстановки» и сделал достаточно точные и хлёсткие наблюдения. Он, в частности, писал:
«1. Положение Нанкина. На своём IV пленуме гоминьдановская клика опять зашумела о грандиозных планах хозяйственного и политического строительства страны. Война, мол, с северными бунтарями (Фэн [Юйсян] и Янь [Сишань]) закончена разгромом последних, Мукден обещает подчиниться Нанкину, страна, следовательно, объединена и теперь поистине настало время для осуществления заветов покойного Сунь [Ятсена]. Остаётся лишь ещё ликвидировать коммунизм, советское движение и тогда все необходимые предпосылки налицо с тем, чтобы заняться мирной созидательной работой. …Чан Кайши фигурирует как национальный герой, умиротворитель и объединитель китайской земли. Нечего доказывать, что все эти фантастические планы и поставленные задачи имеют такую же ценность, как и все прежние.
Вся эта шумиха рассчитана на то, чтобы втереть очки китайской обывательщине, создать у неё новые иллюзии насчёт стремлений и способностей Гоминьдана вывести страну из положения нищеты, перманентного голода, чтобы задерживать процесс революционизирования рабочего класса и крестьянства, чтобы репрезентировать себя в глазах империализма. Денег у Нанкина нет, чтобы в какой бы то ни было степени осуществить намеченные планы. Война с Севером требовала огромных сумм, сейчас расходы сократились, но содержание армии обходится чрезвычайно дорого. Она не сокращается и сокращаться не будет, ибо, несмотря на шумиху о длительном мире, для каждого ясно, что с Фэн [Юйсяном] и Янь [Сишанем] дело не совсем ещё закончено, что подчинение Мукдена Нанкину – дело формальное, что здесь идёт речь об очередной китайской политической пробке, что дело идёт о вербовке как Мукденом, так и Нанкином для себя союзников с тем, чтобы наилучше подготовиться к войне. Для этой же цели реорганизует при помощи немецких офицеров – ландскнехтов свою армию (см. информацию Рамзая). (выделено мной. – Авт.) Деньги Нанкин собирается получить у иностранцев. Сейчас по Китаю путешествует американская комиссия и изучает возможность приложения американского капитала. Чан Кайши извивается вовсю перед американцами, чтобы получить полумиллионный заём. Для этого он готов идти на какие угодно уступки, например, предоставить американцам крупные выгоды в отношении Янцзы. Он готов в Нанкине отвести специальный участок города для иностранного сеттльмента и этим „вынудить“ переезд иностранных представительств из Пекина в Нанкин и создать иллюзии в глазах общественности о всекитайском значении Нанкина. Что касается положения Чан Кайши внутри Гоминьдана, то он свои позиции значительно укрепил. Лидера оппозиции Ху Ханьминя он здорово побил. Это, конечно, не значит, что положение Чан Кайши совершенно укрепилось, что новой оппозиции не будет. Но в настоящее время усиление его позиции – несомненный факт».
«Нанкину нужен сейчас мир, – отмечал Гайлис, – это осознает головка Гоминьдана. Мир нужен для того, чтобы хоть сколько-нибудь сделать в отношении хозяйственном, чтобы показать иностранцам, главным образом американцам, прочное положение в Китае, чтобы возможно всесторонне подготовиться к новой войне, реорганизовать армию, пополнить запасы и ликвидировать советское движение и этим создать себе прочный тыл на случай будущих столкновений с северными милитаристами. Немецкие офицеры указывают, что Чан Кайши будет всеми силами стремиться к тому, чтобы сохранить в течение примерно одного года. Этот срок является достаточным для того, чтобы переформировать все дивизии в так наз[ываемые] образцовые дивизии. Я считаю, что как бы ни была близка перспектива новой войны (с Чжан Сюэляном или с другими, например с Фын [Юйсяном], или же в результате раскола внутри нанкинской группировки), всё же мы должны считаться с некоторым периодом передышки. Во всяком случае, зима пройдёт без большой войны. Не исключена возможность, что начало большой войны может затянуться на ещё больший период времени. К такой перспективе мы, во всяком случае, должны быть готовы. В течение этой передышки, как бы она долго не длилась, нажим на нас будет всё больше усиливаться. В первую очередь удар будет направлен по Кр[асной] армии и советским районам. На пленуме этот вопрос был поставлен со всей серьёзностью. Это и понятно. Нанкин предполагает ликвидировать соврайоны в течение 6 месяцев (вначале говорили о трёх месяцах). Основная задача для них – это ликвидировать нашу живую силу, раздробить, разъединить и разбивать по частям. Деньги на это отпускаются. Местные провинциальные правительства (Хубэй и Хунань) формируют новые части для борьбы с нами».
Удивительно точный анализ обстановки в Китае и не менее точный прогноз развития дальнейших событий.
В преамбуле к этому письму Гайлис писал, что «дать всесторонней и обоснованной оценки положения» в Китае, он, «конечно, не в состоянии». Для этого у него отсутствовали «необходимые данные – нет времени, далеко не достаточное знание английского и недостаёт материалов».
Значит, все эти данные он получил в резидентуре Рамзая, тем более что он ссылался в письме и на информацию Рамзая, и на «немецких офицеров». Только на основании имевшихся материалов и бесед с Рамзаем можно было сделать столь адекватный и блестящий анализ. Конечно, это свидетельствовало и о цепком уме Гайлиса и о его таланте аналитика, но отнюдь не нелегального сотрудника.
Поспешные и скоропалительные действия с организацией радиошколы ничем хорошим закончиться не могли. 20 декабря 1930 года Гайлис телеграфировал из Шанхая:
«Участились провалы. Помимо ежедневных арестов отдельных работников на днях провалился инструктор военки и 7 боевиков. Арестованы школа мастеров 12 человек и Сергеич. Забрана часть одной мастерской. Школу раз посещал Фельдман. Арестованные переданы китайцам. Газеты расценивают группу как конференцию мастеров по связи китайских городов и намекают на интернациональную связь. Предполагаем, арестованные болтают о Фельдмане. Общее мнение – провокатор в Центре (в ЦК КПК. – Авт.). Старая неврастения Фельдмана сказалась уже в начале приезда. Обстановка сильно обострила и обостряет процесс. Нет возможности лечиться. Поездка его на Юг в данном состоянии исключается. Единое мнение всех: его надо немедленно отозвать. Срочите согласие о Фельдмане. № 35.
Фрейлих.
Фельдмана надо отозвать.
26/XII Берзин».
Причины произошедших провалов, конечно, коренились не только в неконспиративных действиях Гайлиса, но и в практическом отсутствии среди руководства Компартии Китая профессионалов, готовых к работе в нелегальных условиях.
Возглавлявший Дальневосточное бюро Исполкома Коминтерна в Шанхае, уже находившийся в Москве И. А. Рыльский (Игнатий (Ян) Антонович Рыльский-Любенецкий) отмечал, в частности, 20 марта 1930 г.:
«1) После VI съезда [КПК] полицейский террор вырвал много партийных работников. Составы профессиональных комитетов арестованы несколько раз. Ничтожный процент арестованных возвращается на работу. Это создало такое положение, что центральный и провинциальный активы партии совершенно недостаточны для выполнения стоящих перед партией задач. В самом ЦК осталось всего 9 товарищей, из которых 7 работает в ПБ. Вся политическая обстановка в Китае и расширяющиеся партийные организации и связи требуют от партии усиления её руководства. Из находящихся в Китае товарищей, по словам китайских товарищей, нельзя подобрать ответственных товарищей на посты провинциальных секретарей и на заведующих центральными отделами (имеются в виду отделы ЦК КПК). Наиболее чувствительным недостатком является отсутствие практических и организационных работников, ориентирующихся в крестьянском вопросе. Специально нужно поговорить о военном вопросе, ибо партийная работа в армии милитаристов и работа в существующей Красной армии (30 тыс. солдат Красной армии, 15 тысяч штыков и довольно большая территория, занимаемая нами) требуют усиления партийного руководства этой работой и поднятия её на более высокую ступень».
Единственным источником, по мнению Рыльского, из которого можно было бы подобрать необходимых товарищей, являлась Москва «с её многосотенным китайским студенчеством и порядочной эмиграцией».
Арест китайского коммуниста означал только одно – пытки и расстрел, если задержанный не становился на путь сотрудничества с гоминьдановской контрразведкой.
В шанхайской резидентуре прекрасно понимали, чем грозят контакты с Фрейлихом и его людьми. 22 декабря 1930 года из Шанхая была отправлена шифртелеграмма следующего содержания: «Из-за провала группы китайцев, с которыми были связаны другие из людей Фрейлиха, и плохой конспиративности считаем абсолютно необходимым срочный отъезд их, а относительно Фрейлиха советуем, что его отъезд был бы также не лишним. Их пребывание здесь может скверно отразиться на нас, несмотря на нашу осторожность. № 38
Рамзай, Филипс
II.
Фрейлиху дать указания. Рамзаю и Филипсу категорически воспретить связь с Фрейлихом. 25/XII Берзин».
Рекомендация Зорге и Шмидта о срочном отъезде из Шанхая «людей Фрейлиха» относилась в полной мере и к самому Гайлису.
Реакция Центра была половинчатой и поступила 27 декабря 1930 г.: группа «Фрейлиха – Фельдмана» была оставлена на месте, а Зорге и Шмидту запрещалось поддержание с ними связи:
«Деньги для Вас привезёт Фрейлих. После передачи Вам денег категорически запрещаем поддерживать какую-либо связь с Фрейлихом и его людьми». Судя по всему, Фрейлих должен был привезти деньги из Харбина, куда он ездил отвозить почту.
20 октября 1930 г. Дальбюро отправило письмо в руководящий орган ИККИ – Малую комиссию Политсекретариата. В нём оно в резкой форме высказало свои претензии к работе представителя Отдела международных связей (ОМС) ИККИ в Шанхае «Альбрехта» (А. Е. Абрамовича). Главной задачей пункта связи ОМСа в Шанхае являлось осуществление конспиративных связей между ИККИ и коммунистическими партиями других стран Дальнего Востока и ЮВА, что включало в себя пересылку политической, в том числе коминтерновской, литературы, получением и отправкой почты, передачей документов, директив и денег представителям компартий, переброску функционеров по суше и по морю из страны в страну, в том числе в СССР и т. д.
Суть претензий, предъявляемых к Абрамовичу, – осуждение финансовой его политики, выразившейся в отказе в выделении требуемых средств «киттоварищам», а также в его нежелании согласовывать с Дальбюро отправления курьеров в Центр. Ввиду «постоянных помех» со стороны А. Е. Абрамовича работе на Дальнем Востоке, принявших в последнее время характер «прямого вредительства движению», Дальбюро предлагало снять его с работы представителя ОМС в Шанхае.
Критика была как объективна, так и субъективна. С одной стороны, не Абрамовичу следовало решать давать или не давать «киткоммунистам» требуемые суммы, а представителям ИККИ, входившим в состав Дальбюро в Шанхае. С другой стороны, Абрамович не мог дать больше, чем имелось в его распоряжении. К тому же он справедливо считал, что большие безотчётные деньги развращали тех, в чьи руки они попадали. На финансирование КПК шли суммы, переводимые в Шанхай из Европы и перевозимые курьерами через Харбин из Москвы. На эти цели изымались также деньги, изначально направляемые на развитие фирмы «Чайна Трейдинг Ко», деятельность которой обещала стать успешной и в чем, казалось, была получена поддержка со стороны руководства Коминтерна. Абрамович верил в то, что прибыль от фирмы должна послужить позже и источником финансирования компартии. Однако всё это могло быть лишь в будущем, а пока он не считал возможным изымать деньги из оборота фирмы, чтобы удовлетворить всё возраставшие запросы компартии, коммунистических профсоюзов и комсомола. Как бы то ни было, единственным виновным в создавшейся ситуации оказался Абрамович. На него жаловались и свои, и чужие коммунисты.
Малую комиссию Политсекретариата возглавлял И. А. Пятницкий. Именно он являлся последней инстанцией, именно к нему обращались представители и ИККИ, и ОМС за решением возникавших между ними проблем. И вердикт обычно был не в пользу представителей Исполкома Коминтерна, но не в данном случае.
На место Абрамовича предлагалось назначить сотрудника ОМС «Анри» – Я. М. Рудника[9], который находился в Китае с 1928 г. и в качестве своего прикрытия использовал фирму «Чайна Трейдинг Ко».
Руководитель объединённой резидентуры (ИНО ВЧК-ГПУ и Региструпра ПШ РВС Республики – РУ штаба РККА) во Франции (март 1921 – январь 1922), с 1925 г. Рудник являлся сотрудником Отдела международных связей ИККИ в Австрии – был прикомандирован к советскому полпредству в Вене под фамилией «Луфт». Он отвечал за переправку финансовых средств, занимался подготовкой заграничных поездок коминтерновских руководителей и посланцев компартий, разрабатывал для них маршруты следования, обеспечивал явками и фальшивыми документами.
Работавшая вместе с мужем в Вене Элизабет Порецки так характеризовала Рудника: «Ему было около тридцати пяти лет. Всегда опрятный, подтянутый, он, однако, производил при первом знакомстве странное впечатление: Люфт (так в тексте. – Авт.) находился в состоянии постоянного напряжения – не переставая двигался, когда говорил, в разговоре часто перескакивал с одного языка на другой, не замечая этого, темпераментно жестикулировал, глядя на собеседника глазами, полными огня и страсти. Хотя Люфт и не принадлежал к оппозиции, он часто слишком открыто высказывался о партийном руководстве СССР и разрушительных для партии методах его работы. Кроме того, у него были дружеские отношения с послом Иоффе…»
В Шанхае Рудник находился с женой, Татьяной Николаевной Моисеенко-Великой[10] (в прошлом, а возможно, и к моменту приезда в Шанхай, – сотрудницей ИНО ОГПУ) и трёхлетним сыном Дмитрием (Джимми – затем учился в Ивановском интердоме). Итак, Яков Матвеевич Рудник имел славное революционное прошлое, опыт нелегальной работы, прерывавшийся, однако, арестами, что не могло не настораживать.
В конце 1930 г. Абрамовича отозвали, и с его отъездом в начале января 1931 г. представителем ОМС в Шанхае стал Рудник. В работе он не стремился следовать бескомпромиссной линии своего предшественника, что вполне устраивало всех – и членов Дальневосточного бюро, и китайских коммунистов. Однако развернуть активную деятельность ему не удалось.
1.4. Некоторые аспекты национально-психологических особенностей китайцев первой трети XX в.
Специфика работы иностранцев в Китае в отличие от Европы и США заключалась в существовании «языкового барьера». В Европу или Америку разведчики приезжали чаще всего со знанием языка страны пребывания. Китайского же языка сотрудники Разведупра, как правило, не знали и не могли непосредственно общаться с китайцами, поскольку редко кто из них в начале 30-х годов мог изъясняться по-английски. И здесь проблема заключалась не столько в отсутствии желания Центра достойным образом подготовить работников, а в сложности, связанной с такой подготовкой. Неподготовленному европейцу было практически невозможно ни понять, ни объяснить поступков и действий отдельных китайцев.
В самом Китае китайский язык как единый национальный устный язык отсутствовал (был сформирован только к 1955 г.). В условиях отсутствия единого устного языка в Китае традиционно существовала система средств общения, состоящая из унифицированного письменного языка «баихуа», основанного на диалектах Северного Китая XIV–XVI вв. Одновременно на всей территории Северного Китая получил распространение «язык чиновников» (гуаньхуа), основанный на пекинском диалекте. Это был язык государственных служащих – как маньчжур, так и китайцев. Он и лёг в последующем в основу современного литературного языка, по-английски получившего наименование Mandarin language.
Китайская письменность имела зрительную природу; она зародилась и развивалась обособленно от устной речи. Основой китайской письменности является иероглиф. Современная иероглифика (понятийные идеографические знаки) развивалась из рисуночного письма, иначе называемого пиктографией. Знаки рисуночного письма отражали внешний вид, форму отдельных предметов и явлений окружающей человека действительности. Постепенно упрощаясь и схематизируясь, рисунки превращались в систему идеографического письма, в котором каждый знак передавал самую общую идею обозначаемого им предмета, явления, понятий.
Иероглиф – это своего рода схемка, аккумулирующая в себе определённый объём информации, взглянув на которую можно удовлетворить потребность в некоторых знаниях. Поэтому китайцы привыкли к восприятию по образу, по ассоциации. «Китайские поэты мне говорили, – писал И. Эренбург, – что китайские стихи нельзя слушать, их нужно читать – иероглиф рождает образ».
Важным следствием зрительной природы письма стала относительная неразвитость в китайском языке грамматических и синтаксических форм. Китайский разговорный язык по своей форме, синтаксису и словарному запасу, словообразованию предполагает величайшую простоту мышления, конкретность образов и экономию синтаксических связей. Слова, соответствующие предлогам, союзы и относительные местоимения, характерные для западных и многих восточных языков, в нем очень редки. Нет никакого различия между единственным и множественным числом. Отсутствуют фиксированные окончания для выражения времени или наклонения глаголов. Нет падежей. Одно и то же слово может выступать в качестве существительного, прилагательного или глагола. Значение слова определяется, как правило, его положением во фразе: вначале стоит подлежащее, за ним следуют сказуемое и дополнение или обстоятельство места.
Китайцу не важно, как построена фраза, какие грамматические правила используются в ней, лишь бы она рождала образ, с которым он знаком. В соответствии с этим образ мышления китайцев в целом можно назвать образно-ассоциативным. Особенности китайского языка определили и практический образ мышления китайца. Китаец, как правило, отдаёт предпочтение простым логическим построениям как наиболее доступным для восприятия.
Несмотря на стремление отразить в письменных знаках звучание соответствующих слов, в Китае так и не возникло ничего подобного звуковой азбуке, принятой в Корее и Японии. Причина тому лежит, без сомнения, в особенности звукового строя китайского языка, состоящего из весьма ограниченного числа слогов (немногим более 400 в нормативном произношении, в то время как в английском языке слогов 1200). Учитывая, что в китайском лексиконе насчитывается до 50 тыс. слов (иероглифов), каждый слог соответствует здесь необычайно большому количеству слов. Правда, каждый слог в нормативном произношении может поизноситься четырьмя разными способами – так называемыми тонами, что для китайцев (но далеко не всегда для иностранцев) значительно уменьшает вероятность смешения слов при восприятии языка на слух. Тем не менее даже в базовой китайской лексике слогу «и» в четвёртом тоне соответствуют более сорока различных иероглифов. Для того чтобы лучше различать одинаково звучащие слова, китайцы со временем все чаще стали прибегать к созданию двусложных и даже трёсложных слов. В настоящее время считается, что для чтения литературных произведений достаточно знание 7–9 тыс. иероглифов.
Иероглифическая письменность, оторванная от устной речи, была едва ли не главным фактором сохранения политического и культурного единства «китайского мира» при наличии большого числа местных диалектов.
К сказанному следует добавить, что до сих пор существует большое количество диалектов китайского языка (семь диалектных групп, в каждой из них несколько подгрупп), которые различаются между собой настолько существенно, что общение между людьми без специальной подготовки не всегда возможно. Каждый слог китайского языка в диалектах произносится девятью различными тонами.
О коллизиях, с которыми сталкивался иностранец, выучивший, как он сам считал, китайский язык, красочно и иронично писал англичанин А. Смит. Его наблюдения относились к началу XX в. Он выделил целый ряд психологических характеристик китайцев, дав им свои определения и проиллюстрировав забавными рассуждениями и примерами.
Одна из психологических характеристик китайцев, относившихся к языковым трудностям, с которыми сталкивались иностранцы в Китае, была определена Смитом как «интеллектуальная туманность».
«Существительные в китайском языке, – отмечал Смит, – по-видимому, не могли быть склоняемы. Они были совершенно лишены „родов“ и „падежей“. Китайские прилагательные не имели степеней сравнений. Китайские глаголы не были подвержены никаким стеснениям в виде „залогов“, „наклонений“, „времен“, „чисел“ или „лиц“. Не существовало никакой видимой разницы между прилагательными, существительными и глаголами, так как всякое слово (иероглиф) могло быть употреблено в любом смысле (или бессмыслии), не вызывая никаких замечаний».
Смит, по его утверждению, был далёк от мысли, чтобы утверждать, что китайский язык для передачи явлений человеческой жизни непригоден или что существуют обширные области человеческого мышления, которые трудно или невозможно передать «удобопонятно» на китайском языке, хотя порой это так и казалось. Смит настаивал только на том, что язык с таким построением сам вызывал «интеллектуальную мутность» точно так же, как летний зной клонил к послеобеденному сну.
Тот факт, что китайский глагол не имел времён, что перемена времени или даже места ничем не обозначалась, конечно, не вносил большую ясность в представления иностранца о чем-то смутном по природе своей. При таких обстоятельствах самое лучшее, что мог сделать бедный иностранец, желавший не подавать виду, что он, по крайней мере, не совсем потерял нити исчезнувшей мысли, – это задать ряд простых вопросов, наподобие того, как охотник прокладывает себе тропу топором через непроходимый лес. «Кто это лицо, о котором вы теперь говорите?», «Когда вы это узнали?», «Где это происходило?», «Что этот человек сделал?», «Что они сделали по этому поводу?» и т. д.
Самая обычная вещь в разговоре с необразованным китайцем – это, по утверждению Смита, крайнее затруднение в понимании того, о чем он говорит. Иногда замечания китайца как будто состояли исключительно из сказуемых, самым причудливым образом переплетённых между собой, и вся его речь была подобно гробу Магомета, как бы свободно висевшему в воздухе. По представлению говорившего, опустить подлежащее – дело не важное. Он ведь знал, о чем он говорит, и с ним никогда не случалось, чтобы эта довольно-таки важная часть предложения так или иначе не представлялась уму собеседника. Просто удивительно, в каких великолепных отгадчиков превратил большинство китайцев долгий опыт, научая их придавать словам такой смысл, который им несвойствен, путём простого снабжения предложения соответствующими подлежащими и сказуемыми, исходя из того, чего недоставало. Очень часто самое важное слово в предложении опускалось, несмотря на то что ключ к его отгадке мог быть совершенно неизвестен. Часто во всем построении предложений, в манере говорившего, в тоне его голоса или же в сопутствующих обстоятельствах отсутствовали какие-либо указания на то, что разговор перешёл на другую тему. Как говоривший свернул с прямой нити разговора и как он опять вернулся к ней, часто оставалось неразрешимой загадкой, но, тем не менее, этот подвиг совершался ежедневно в разговорах китайцев между собой и с иностранцами.
Выдающимся примером «интеллектуальной туманности» являлась распространённая привычка не давать объяснения какому-либо факту, а ограничиваться его констатацией. «Почему вы не кладёте соль в хлеб?» – задавали вопрос китайскому повару. «Мы не кладем соль в хлеб», – получали ответ на поставленный вопрос.
Для необразованного китайца всякая мысль являлась сюрпризом, к которому он далеко не всегда был подготовлен. Он не понимал, потому что он не надеялся понять, и для него требовался значительный промежуток времени, чтобы «…привести умственные силы в должное к употреблению состояние».
Из характеристики, названной Смитом «интеллектуальная туманность», – это проблема передачи сообщения одному китайцу через другого без искажения самого сообщения: «Сказать А что-нибудь для передачи В, с тем чтобы С в своих действиях мог руководствоваться сказанным – это принадлежит в Китае к самым бестолковым начинаниям. Или поручение вовсе не будет передано, потому что лица, которым это было поручено, не сочли его важным, или же оно доходит до С в такой форме, что он не в состоянии его понять, а то и в форме, совершенно несогласной с первоначальной. Предположить, чтобы три зубца в такой сложной машине могли так исправно входить один в другой, чтобы не производить трения, достаточного для остановки всего механизма, это значит питать крайне дикую надежду. Даже умы значительной силы находят для себя очень трудной задачей воспринять известную мысль и затем её передать без прибавлений и изменений».
О языковом барьере, с которым приходилось сталкиваться иностранцу, Смит говорил и в другой характеристике, которую он назвал «талант непонимания»: «Это замечательное дарование китайского народа, впервые замечаемое иностранцем, когда он достаточно знаком с языком, чтобы пользоваться как средством для передачи своих мыслей. С крайней грустью и удивлением он находит, однако, что его не понимают». Но равным образом становилось очевидным и то, что китаец и не надеялся понять собеседника. Он явно не обращал никакого внимания на то, что ему говорили, не делал ни малейшего усилия, чтобы следить за речью, просто-напросто китаец прерывал иностранца, замечая: «Когда вы говорите, мы не понимаем». И на лице его была улыбка превосходства, как у человека, наблюдавшего за усилиями глухонемого произнести членораздельную речь и собирающегося сказать: «Кто вообще предполагал, что вас можно будет понять? Это, может быть, ваше несчастье и не ваша вина, что вы не родились с китайским языком, но вы должны спокойно переносить ваши недостатки и не беспокоить нас ими, так как, когда вы говорите, мы вас не понимаем».
Другая стадия знакомства со способностями китайцев к непониманию достигалась тогда, когда, несмотря на то, что отдельные слова понимались с достаточной ясностью, «благодаря некоторому пренебрежению частностями», мысль затуманивалась, если даже не совсем терялась.
К «таланту непонимания» Смит отнёс и отношение китайцев к деньгам. «Из всех предметов общечеловеческого значения в Китае больше всего нуждаются в ограждении от превратного понимания деньги, – отмечал наблюдательный англичанин. – Когда иностранец выдаёт это благо (что, с китайской точки зрения, часто кажется главным отправлением иностранцев), то нечто вроде будущего совершенного времени или вида является крайней необходимостью. „Когда вы окончите вашу работу, вы получите ваши деньги“. Но в китайском языке нет такого оборота, как вообще в нем нет никаких времён. Китаец просто говорит: „Делай работу, получи деньги“. Последняя часть фразы содержит главную мысль, которая и остаётся у него в голове, обозначение же известного отношения ко времени отсутствует. Поэтому, когда китаец делает что-нибудь для иностранца, то он хочет получить деньги тотчас же, для того чтобы он мог „есть“, исходя из того предположения, что если бы он не наткнулся на работу иностранца, то он никогда бы больше не ел! Повторяем, ценой только вечной бдительности может быть куплено в Китае избежание недоразумений в денежных вопросах. Кто должен и кто не должен получить деньги, в какое время, в каком количестве… Если дело касается контракта, по которому подрядчик, компрадор или лодочник должны, со своей стороны, сделать что-нибудь или доставить какие-нибудь вещи, то никакое количество предварительной точности и определённости при объяснениях не будет излишним».
Во взаимоотношениях китайцев преобладала форма над содержанием. Конфуцианство, воздействуя на сознание многих поколений китайцев, акцентировало основное внимание не на внутреннем состоянии и чувствах человека в каждом конкретном случае, а на том, что ты обязан говорить и как действовать в данной ситуации, если она сложилась в соответствии с тем местом, которое ты занимаешь в социальной иерархии и характерными для неё нормами поведения. Эта особенность поведения китайцев была связана с так называемой «концепцией лица», ещё одной психологической характеристикой нации.
«Потерять лицо» – специфически китайский термин – означало сознаться в своей неправоте, утратить честь, чего китаец никогда не сделает даже при очевидной от этого выгоде.
Для того чтобы иметь хотя бы самое несовершенное представление о том, что понимается под словом «лицо», следовало принять во внимание тот факт, что китайцы как раса обладали сильным драматическим инстинктом, пояснял Смит. Театр можно было назвать почти единственным китайским национальным развлечением, и китайцы питали к театральным представлениям такую же страсть, которая отмечалась у англичан к атлетическим играм или же у испанцев к бою быков. Достаточно было самого ничтожного повода, чтобы китаец мнил себя в роли драматического актёра. Осанка его принимала театральный вид, он бросался на колени, падал ниц и бил головой о землю при таких обстоятельствах, которые в глазах обитателей Запада делали подобные действия излишними, чтобы не сказать смешными. Китаец думал театральными терминами. Но при этом всегда следовало помнить, что все это не имело никакого реального значения. Вопрос никогда не касался фактов, а всегда лишь формы.
Совершать надлежащим образом подобные действия при всех вообще возможных сложных обстоятельствах жизни значило иметь «лицо»; не соблюдать их, не знать их или же совершить ошибку при совершении этих действий значило «терять лицо». «Лицо» оказывалось ключом к сложному замку, соединявшему в своих пружинах многие из важнейших характерных черт китайцев. Необходимо прибавить, что принципы, регулировавшие само «лицо», и достижение его часто были совершенно недоступны пониманию европейца, постоянно забывавшего о театральном элементе и ударявшегося в безразличную область фактов.
Сознаться в каком-нибудь проступке значило «потерять лицо», поэтому, чтобы «спасти лицо», надо было непременно отрицать факт проступка, несмотря на всю его очевидность.
Но слово «лицо» не обозначало в Китае просто одну только переднюю часть головы. Оно являлось очень сложным термином, выражавшим множество понятий – больше, чем иностранцы были в состоянии описать или, быть может, даже понять.
Поэтому реакция китайцев на то или иное событие отвечала ожидаемым от них действиям со стороны окружающих; в их поведении прослеживались определённая искусственность и стремление «достойно» выглядеть.
«Уничтожить оппонента – не значит доказать его вину, – гласит китайская мудрость. – Надо заставить его „потерять лицо“». И если враг переживёт позор отречения, все равно от кого (близких людей, вождей и т. д.) или от чего (взглядов, идей и т. д.), с ним тогда можно будет делать всё, что угодно. Полицейские гоминьдановского режима, арестовывавшие коммунистов, как правило, предлагали им выбор: или смерть, или публичное отречение. И отпускали пленника, если тот выбирал последнее (не важно, какому физическому воздействию он до этого подвергался). Обычно отречению сопутствовало предательство своих бывших товарищей (хотя, по сути, отречение и есть предательство). Однако не только предательство важно было для китайской полиции, а «потеря лица» арестованным. Многих раскаявшихся коммунистов даже брали затем на работу, более того – поручали им исключительно ответственные посты. Все знали: опозоривший себя человек будет преданно служить тому, кто заставил его «потерять лицо».
Председатель хунаньского провинциального правительства и одновременно командир 4-го корпуса НРА Хэ Цзянь в августе 1930 г., после того как части Красной армии оставили Чаншу, издал приказ об аресте Ян Кайхуэй, жены Мао Цзэдуна. За её голову была назначена награда в 1000 юаней, и в октябре она оказалась за решёткой. Вместе с Ян арестовали её старшего восьмилетнего сына и преданную семье Мао няню. Хэ Цзянь требовал от Ян Кайхуэй только одного: отречься от мужа. Если бы жена Мао сделала это публично, считал Хэ Цзянь, многие китайские коммунисты явились бы в полицию с повинной. Но она отказалась предать близкого ей человека. И тогда Ян Кайхуэй была отдана под суд военного трибунала, несмотря на то, что по просьбе матери прошение о её помиловании подписал сам Цай Юаньпэй, бывший ректор Пекинского университета. Суд длился не более десяти минут. Задав несколько формальных вопросов, судья обмакнул кисточку для письма в красную тушь, сделал пометку на протоколе допроса и швырнул его на пол: так в китайских судах объявляли о вынесении смертного приговора. Ян Кайхуэй расстреляли на кладбище за северными воротами г. Чанши.
Существовало общепризнанное мнение, что за деньги в Китае можно было сделать всё, что угодно, и купить кого угодно. В общем-то, конечно, замечали разведчики, работавшие в Китае, это соответствовало действительности. В Китае деньги играли гораздо большую роль, чем в других странах, но нужно было знать, что нигде, ни в одной стране не приходилось преодолевать таких трудностей, как в Китае: деньги за агентурную работу надо было дать так, чтобы не уронить при этом «лица» берущего.
Сохранение же «лица» для китайца – это всё. Это гораздо больше, чем понятие «потеря чести» в странах Запада. С этой особенностью китайцев разведчикам необходимо было считаться. Всегда следовало помнить, что китайцы были страшно щепетильны во взаимоотношениях. И нужно было проявить большое умение, такт, а главное – терпение, чтобы убедить китайца взять в первый раз деньги за разведработу, не обидев его. Конечно, это не относилось к проходимцам. От вербовки людей такой категории, как считали некоторые разведчики, работавшие с китайскими агентами, кроме расходов и вреда, ничего другого получить было нельзя. Точка зрения, отнюдь не бесспорная.
Другую характерную черту китайца начала прошлого века наблюдательный Смит назвал «пренебрежение временем»:
«…Существует знаменательная разница между приветствием китайца и англосаксонца. Первый обращается к своему товарищу при встрече со словами: „Ели ли вы рис?“, последний же спрашивает: „Как ваши дела?“». Занятие каким-то видом деятельности является нормальным состоянием одного, а приём пищи – нормальным состоянием другого. От этого чувства, которое стало для англичан второй натурой, именно что время – деньги, и которое при обыкновенных обстоятельствах доводится ими до крайнего совершенства, китайцы подобно большинству народов Востока совершенно свободны. Сутки у китайцев имеют только двенадцать часов, и названия этих часов не выражают просто того момента, когда один час уступает место другому, а обозначают в то же время и все пространство времени, приходившееся на данную двенадцатую часть дня, которую обозначало каждое название в отдельности. Таким образом, выражение «полдень», казавшееся таким определенным, как любое иное, употреблялось относительно всего промежутка времени от одиннадцати часов до часу дня. О наручных часах китайский народ в целом не имел ни малейшего представления, и только немногие китайцы, имевшие часы, сверяли по ним свою жизнь.
Пренебрежение временем со стороны китайцев сказывалось в их работе, «качество напряжения» которой чрезвычайно разнилось от «качества напряжения», наблюдаемого в работе англосаксонца. Во всяком случае, в те годы трудно было воспитать в китайце понимание важности быстрого и точного исполнения обязанностей. Известен был случай, когда мешок с иностранной корреспонденцией был задержан в течение нескольких дней между двумя городами, отстоявшими друг от друга на двенадцать миль, только из-за того, что мул почтальона захворал и нуждался в отдыхе. Китайская почтовая служба представляла собой часто пародию того, чем эта служба должна была бы быть.
Никогда, однако, индифферентное отношение китайцев к течению времени не бывало более досадным для иностранцев, как во время простых, частных визитов. В западных странах считали, что подобные визиты ограничивались известным промежутком времени, за пределы которого они не должны выходить. В Китае же таких пределов не существовало. При посещении иностранцев китайцы никоим образом не хотели мириться с той мыслью, что на свете существовало нечто такое, что называется временем и представляло собой ценность. Они готовы были сидеть в гостях часами, даже если и говорить-то уже не о чем было, и отнюдь не собирались уходить.
«Пренебрежение точностью» – ещё одна черта китайца, подмеченная Смитом: «…Китаец обыкновенно говорит: „немного сотен“, „несколько сот“ или „немало“, но подобные показания никогда не облекались и никогда не будут облекаться в установленное и определённое число».
Равнодушие к точности нигде так сильно не проявлялось, как в адресах. Обыкновенное китайское письмо адресовалось крупным почерком «Моему Отцу, Великому Человеку» и т. д., но почти никогда адрес не содержал намёка на имя «Великого Человека», к которому обращался отправитель письма.
Казалось весьма странным, замечал Смит, что такой крайне практичный народ, как китайцы, до такой степени неточен по отношению к именам собственным, как это показывает нам целый ряд наблюдений. Очень часто встречалось, что эти имена писались то через один, то через другой иероглиф, причём вас уверяли, что любой из них годится. Но это ещё не так сбивало с толку, как то обстоятельство, что одно и то же лицо имело несколько имён: фамильное имя, прозвище и, что страннее всего, ещё одно, совершенно уже оригинальное, употреблявшееся при регистрации по случаю допущения к литературным экзаменам. Поэтому иностранцы нередко принимали одного какого-нибудь китайца за двух или трёх человек.
Названия деревень были не менее неопределённы, и иногда одна и та же деревня носила два и даже три существенно отличавшихся друг от друга названия, причём не допускалось даже сомнения, что все три названия были «правильными». Можно было легко обмануть себя, принимая сообщаемые китайцами числа и количества за то, чем они не являлись, т. е. за соответствовавшие действительности.
Первое понятие о китайцах, писал Смит, мы получаем от нашей прислуги. Бессознательно для них и не всегда к нашему удовлетворению, они являлись первыми наставниками в деле изучения туземного характера, и выученные таким образом уроки самым поразительным образом подтверждались всё более расширявшимися знакомствами в китайской среде. Нельзя было рассчитывать, что приказание будет исполнено буквально так, как требовалось сделать.
В Китае сложился многочисленный класс слуг, которые совмещали «…чрезвычайную преданность с ослиным упрямством – представляя собою благодаря этому неизбежный источник неприятностей». В этой связи иностранцы, хозяева боя, принадлежавшего к вышеперечисленной когорте таких слуг, находились «…в постоянной нерешительности: убить ли его или повысить жалованье!» Китаец-хозяин отлично понимал, что прислуга всячески будет пренебрегать его приказаниями, но он совершенно покорно воспринимал подобную неизбежность.
Нельзя было привести лучшего примера китайского таланта «уступчивости», по мнению англичанина Смита, чем способность китайцев с благовидным лицом принимать порицания. Китаец выслушивал упрёки в свой адрес терпеливо, внимательно и даже радушно и от чистого сердца соглашался, говоря: «Виновен, виновен». Могло сложиться впечатление, что он даже благодарил хозяина за доброту к его недостойной персоне и обещал, что все замечания, которые были только что высказаны, «…будут немедленно, совершенно и навсегда исправлены». Смит писал: «Вы отлично знаете, что эти прекрасные обещания только „цветы в зеркале и яркая луна в воде“, но, несмотря на их несуществующую природу, невозможно не быть тронутыми ими, а это, заметьте, цель, для которой они предназначались».
Подобное же большее или меньшее пренебрежение приказаниями господствовало и среди разных разрядов китайских чиновников во взаимных их отношениях друг к другу, вплоть до самых высокопоставленных из них. Существовали различные причины, каждая из которых могла привести к нарушению известных приказаний, как-то: личная леность, желание услужить друзьям или, наконец, самая могущественная из всех – притягательное влияние денег.
Существует не много сравнений, более метких, считал Смит, чем то сравнение, которое уподобляет китайцев бамбуку. Он изящен, он всюду полезен, он гибок, и он пуст. Когда дует восточный ветер, он гнётся на запад. Когда дует западный ветер, он гнётся на восток. Когда не дует никакого ветра, он совсем не гнётся. Бамбуковое растение принадлежит к породе трав. Легко завязать узел в траве. Однако, несмотря на гибкость бамбука, трудно завязать его в узел.
Увидел в китайцах начала XX в. Смит и такую национальную черту, которая получила название «талант окольности». Не требовалось обширного знакомства с китайцами, для того чтобы иностранец был в состоянии прийти к тому заключению, что невозможно составить себе понятие о том, что китаец хочет сказать, слушая только его слова, утверждал Смит.
Это наблюдение оставалось справедливым несмотря ни на какое совершенство, достигнутое в разговорном языке: иностранец, быть может, был в состоянии понять каждую фразу, обращённую к нему. Более того, был даже в состоянии написать каждый иероглиф, который слышал в данном предложении. И всё-таки никогда нельзя было однозначно утверждать, что именно говоривший китаец имел себе на уме. Причина этому, конечно, заключалась в том, что говоривший не выразил того, что у него было на уме, а лишь что-нибудь более или менее родственное, из чего он хотел, чтобы собеседник «вывел его мысль или часть её».
Кроме основательного знания китайского языка, всякому желавшему успешно вести дело с китайцами были необходимы ещё большие дедуктивные способности. Но каковы бы ни были таковые способности, иностранец всё-таки во многих случаях оказывался в заблуждении, ибо эти его способности не соответствовали предъявляемым к ним требованиям.
Не так просто, по словам Смита, было установить «цену» услуги, которую иностранцу оказал китаец, и что стояло за его отказом принять денежное вознаграждение. Лицо, оказавшее вам услугу, говорило, что было бы равносильно нарушению всех пяти постоянных добродетелей, если бы оно приняло что-нибудь от вас за такую ничтожную услугу, и что вы, делая ему такое предложение, обижаете его, и что вы удивите его, если будете настаивать на принятии им денег. Что бы это всё означало? Из этого могло следовать, что надежды китайца в отношении размеров ожидаемого вознаграждения «расстроены незначительностью предлагаемой суммы» и что подобно Оливеру Твисту, юному герою Чарльза Диккенса, он «хочет больше». С другой стороны, это могло быть простым намёком на то, что вы теперь или в будущем будете иметь возможность дать китайцу что-нибудь ещё, более подходящее, и что принятие им предложенного вознаграждения явится преградой к получению более «подходящего»; так что китаец предпочитал оставить этот вопрос открытым до более удобного времени.
Если китайцы были так осторожны, когда говорили о своих собственных выгодах, то из всеобщей боязни их – служить источником неприятностей – следовало то, что они должны были быть ещё более осторожными, говоря о других, тем более когда имелась возможность для возникновения всякого рода «хлопот» в будущем.
Несмотря на всю любовь к сплетням и разного рода пустой болтовне, китайцы с замечательным чутьём различали случаи, когда не следовало быть слишком общительным, и при указанных обстоятельствах, в особенности, когда в деле были заинтересованы иностранцы, они представляли собой могилу по своей молчаливости. В многочисленных случаях недалёкие с виду люди, окружавшие иностранцев, могли бы дать советы, знакомство с которыми значительно изменило бы поведение иностранцев по отношению к другим. Но до тех пор, пока китаец ясно не представлял себе ожидавшее его вознаграждение и гарантии предотвращения возможного риска, у него преобладал инстинкт умалчивания.
Одна из черт, которую китайцы разделяли со всем остальным человечеством, заключалась в желании не обнародовать дурные вести в течение как можно более продолжительного времени и сообщать их лишь в замаскированной форме. Но «приличие», соблюдаемое среди китайцев, требовало, чтобы этот обман доводился до таких размеров, которые могли показаться в то же время и удивительными, и напрасными.
Не всегда и не во всем китайцы показывали себя людьми рациональными, практичными. Это необходимо было учитывать. Вместе с тем нельзя было отнять у них находчивости, изобретательности, просто изворотливости.
Доказательством тому характеристика-сравнение мыслительной деятельности китайца и японца, данная во времена первого знакомства европейцев с азиатскими государствами и их народами. «Если японцу нужно разбить твёрдый орех, – писал один англичанин, побывавший в Китае, – он берет молоток и одним ударом делает это. Китаец же начинает, прежде всего, искать, нет ли у данного ореха какой-либо щели, в которую можно было бы вставить клин. И только если орех оказывается совершенно целым, он прибегает к более радикальным средствам, чтобы раскрыть его».
Изучение мыслительной деятельности китайцев начала XX в. позволило некоторым исследователям утверждать, что для них свойственны определённые стереотипные подходы к восприятию окружающей действительности. Стереотипное мышление стало основной наиболее привычной формой мышления населения страны. Причём стереотипы мышления китайцев национально отличные, часто не укладывавшиеся в логику мышления европейцев.
Очевидно, что всё вышесказанное касалось определенных социальных групп; оно было несколько преувеличено и в определённой степени утрировано, но с возможностью проявления таких черт национального характера Зорге сталкивался и обязан был их учитывать в своей разведывательной деятельности. И как следствие – воспитывать в нужном направлении своих помощников из числа китайцев.
Наряду с вышеперечисленными национально-психологическими характеристиками присутствовал и целый ряд других, как-то: трудолюбие, кропотливость, смётка, расчётливость, бережливость, настойчивость, старательность, терпеливость и упорство, которые должен был рассмотреть Рихард Зорге в китайцах (и рассмотрел) за годы своего пребывания в стране и найти им применение при организации агентурной работы.
Опасным становился китаец, если он оказывался по другую сторону баррикад и перед ним стояла задача выявить и уничтожить представителей Коммунистической партии Китая и Коминтерна, вскрыть и искоренить советскую агентурную сеть в стране.
Александр Яковлевич Максимов, посол России в Китайской империи во второй половине XIX в., оставил свидетельство о таком китайце.
«Со словом „китаец“ в воображении большинства связывается понятие о существе слабом, апатично-сонливом и, вместе с тем, тихом и безответном, – писал Максимов в своих политических этюдах, увидевших свет в 1888 г. – Между тем китайцы далеко не таковы, какими их представляет себя значительная часть русского общества и почти все русские дипломаты. Надо помнить, что это – враг серьёзный, настойчивый, терпеливый, энергичный и ловкий; вместе с тем враг в высшей степени хитрый, двуличный, притом злой и злопамятный».
Максимов видел в Китае грозного противника, с которым уже через 25 лет придётся столкнуться России, о чем и пытался предупредить общественное мнение страны: «Общая характеристика наша нисколько не преувеличена; китайцы оправдали её как своей историей, так и приёмами, употребляемыми ими при переговорах и выполнении заключённых контрактов. Отсюда ясно, что Китай – враг в высшей степени опасный, несмотря на свой консерватизм, который к тому же не вечен. В недалёком будущем и Китая коснётся могучая рука реформ, и он выйдет на путь прогресса и цивилизации. Слишком легкомысленно думают некоторые, что Китай распадётся тотчас же, как только его коснутся реформы, что он не способен воспринять их без вреда для своего государственного организма. Китай – не старец, как думают многие, который хочет только растянуть машинкой свои морщины и подкрасить лицо; тот старец жил тысячи лет и уже отжил; в настоящую минуту растёт на его прахе новое, молодое, свежее дерево, обильно поливаемое нашими европейскими врагами. Пройдёт четверть столетия, и это дерево сделается могучим и крепким; если мы вовремя не обрубим его свежих ветвей, то они раскинутся на Амур и бросят тень на наши среднеазиатские владения.
Через двадцать лет, может быть и раньше, мы увидим пред собой на крайнем Востоке грозную, достаточно дисциплинированную, хорошо вооружённую китайскую армию, которая потребует у нас возвращения древних владений Поднебесной империи, как это уже бывало не однажды.
Мы уже указали выше, что Китай – держава с особенными государственными тенденциями; он никогда, например, не откажется от возвращения земель, некогда ему принадлежавших, и будет стремиться войти в свои прежние границы. В этом мы твёрдо убеждены. В то же время надо помнить, что спор за преобладание в Азии должен решиться не только между Россией и Англией. Мы уверены, что Китай непременно будет третьей державой, которая примет в недалёком будущем участие в этом горячем, может быть кровопролитном, споре. Мало того, китайская раса должна прийти в столкновение с белым населением Европы и Америки по поводу главнейших вопросов цивилизации, и это неизбежное столкновение затормозит прогресс человечества на более или менее продолжительное время. Отсюда видно, что Россия должна быть готовой к борьбе с Китаем, которая возникнет в течение предстоящего двадцатипятилетия, должна быть готовой дать отпор китайским полчищам и quasi-цивилизаторским замыслам Поднебесной империи».
Своеобразное мышление китайцев следовало обязательно учитывать при привлечении к сотрудничеству с разведкой лиц из числа местного населения. Вербовка в Китае представляла собой трудную и сложную задачу для разведчика. Дать единый рецепт для вербовки китайца не представлялось возможным, как, впрочем, невозможно было дать его и для всех остальных стран. Вербовка агентов напрямую была связана с индивидуальностью лица, привлекавшегося к сотрудничеству с разведкой, а поскольку не существовало двух совершенно одинаковых индивидуумов, постольку и при вербовке нельзя было пользоваться одним и тем же методом, а в каждом отдельном случае следовало изыскивать различные подходы и применять новые методы. Все сказанное не означало, что не существовало общих подходов при вербовке китайцев первой трети XX в., исходя из их национально-психологических особенностей.
Задача вербовки китайцев усложнялась ещё и тем, что китайцы, как отмечалось выше, мыслили иначе: китаец мыслил так же, как и писал, – образами. Пока с китайцем говорили о вещах и предметах, которые он легко воспроизводил у себя в голове, китаец всё понимал и усваивал, но как только речь заходила об отвлечённых понятиях, китаец только делал вид, что понимает.
Поэтому разведчикам в Китае следовало вырабатывать у себя способность все отвлечённые понятия в разговоре передавать так, чтобы китаец мог всё сказанное представить в виде образа. При разговоре с китайцами рекомендовалось говорить, как правило, короткими фразами и, закончив одну мысль, следовало незаметно задать вопрос, из ответа на который можно было заключить, понял ли вас собеседник, а главное, понял ли он вас так, как вы этого хотели. Это было особенно важно ещё и потому, что большинству разведчиков приходилось разговаривать с китайцами через переводчиков, а почти все переводчики (исключения были очень редки) при переводе вставляли много отсебятины, разбавляя мысль разведчика своими пояснениями. От этого очень часто случались большие ляпсусы.
В 1926 г. перед пекинской резидентурой была поставлена задача выяснить, в каких районах Хэнани дислоцируются отряды «Красных пик» и связаны ли они с Фань Синминем, командиром 13-го корпуса. («Красные пики» – организация деревенской самообороны в Китае, члены которой были вооружены пиками с красными кисточками. Возникла во втором десятилетии XX века, боролась с грабежами и произволом милитаристских войск.) Для выполнения этой задачи был выбран агент – китаец, окончивший трёхмесячные курсы разведки и уже проработавший месяцев пять самостоятельно. Переводчик при постановке задания был из русских, выросший в Китае и говоривший по-китайски лучше, чем по-русски. Понадеявшись на то, что и агент, и переводчик достаточно опытны, руководитель агента не стал уточнять, насколько правильно понято агентом задание. К этому следовало добавить, что агентом был бывший студент Пекинского университета, коммунист.
Агент, получив задание, уехал и пропадал месяца полтора, и в резидентуре уже посчитали его погибшим. Вдруг он появился и представил целый доклад о проделанной работе. Оказалось, что агент был занят организацией отрядов «Красных пик» и связью их с Фань Синминем. Донесение заканчивалось просьбой предоставить ему оружие, которое он обещал достать для отряда у левых гоминьдановцев (последнее было сказано в целях конспирации). Когда стали выяснять, почему всё это произошло, то оказалось, что переводчик во время передачи задания был настроен философски и вместо того, чтобы передать задание, пустился в пространное объяснение того, какую пользу могут принести «Красные пики» и как важно их организовывать для пользы китайской революции.
Из этого примера легко представить, до чего можно договориться с незнакомым китайцем и неважным переводчиком, если уже достаточно опытный «интеллигентный» агент и хороший переводчик смогли так исказить простое задание.
Огромное большинство нелепостей и ляпсусов, которые имели место при организации агентурной работы с китайцами, происходили именно оттого, что китайцам не сумели объяснить того, чего хотели, а переводчики, не умея передать то, что от них требовалось, стеснялись об этом сказать и передавали так, как, им казалось, будет понятнее для китайцев.
Немаловажно при работе с китайцами было усвоить и понять их манеру общения и, исходя из этого, оценку ими иностранцев, с которыми им приходилось общаться. Многие из разведчиков при разговорах с китайцами старались на первых порах подражать их манерам, рассчитывая скорее завоевать их расположение. И это было совершенно неверно. Мало того, что подобное подражание выглядело очень смешно, так как китайские церемонии очень сложны и не случайны, но главное, подобное поверхностное копирование раздражало собеседника.
При разговоре с китайцами следовало держаться как можно естественнее. При этом следовало помнить, что китайцы не любили и не понимали поспешности как в разговоре, так и в решениях каких бы то ни было вопросов.
Быстрый ответ на вопрос, по китайским понятиям, вовсе не свидетельствовал о знакомстве собеседника с предметом разговора или остроте его ума, а как раз наоборот. Быстрый ответ, по мнению китайцев, означал «непроходимое легкомыслие и глупость». Степенность и медлительность в поддержании разговора в глазах китайцев говорили о положительности и солидности собеседника.
Сами китайцы никогда не позволяли себе ни при каких обстоятельствах горячиться или нервничать, это являлось признаком дурного тона. Умение владеть собой расценивалось китайцами очень высоко и было возведено ими в добродетель. Такого же умения владеть собой китаец искал и у своего собеседника.
При самом незначительном разговоре китаец зорко наблюдал за собеседником, и по тому, как тот себя держал, делался вывод о его солидности и значимости. Человек, малознакомый с психологией китайцев, никогда не понимал и не замечал, как реагирует китаец на ту или другую ситуацию. Лицо китайца никогда ничего не выражало.
Одному из советских разведчиков в Пекине в 1927 г. пришлось стать свидетелем казни простых китайцев. И при всём своём старании очевидец казни не смог ничего уловить на лицах китайцев, кроме самого невозмутимого равнодушия, как будто всё, что делалось вокруг, их абсолютно не касалось. То же самое равнодушие было и на лицах многочисленных зрителей.
Выразителем внутренних переживаний у китайцев являлись руки, и главным образом – пальцы. Достаточно было понаблюдать за нервным китайцем, чтобы увидеть, что его руки все время чем-нибудь заняты.
При разговоре с китайцами, когда нужно было наблюдать за впечатлением, которое будет производить на них разговор (а разведчику это требовалось всегда), их нужно было усаживать так, чтобы можно было незаметно наблюдать за руками и пальцами собеседника. По их движениям можно было следить за реакцией китайца на содержание беседы. Было замечено, что во время важных разговоров китайцы старались сидеть так, чтобы скрыть свои руки от собеседника. Поэтому важные разговоры с китайцем следовало вести в непривычной для него обстановке.
В то время, когда китаец начинал нервничать, он проделывал пальцами самые невероятные движения. Медленное поглаживание колен служило признаком довольства и уверенности китайца. Но если это поглаживание делалось быстрым и при этом приходили в движение пальцы, то это означало, что китаец или растерялся, или был чем-то недоволен. Большой палец у китайцев особо подвижен и больше других служил выразителем их настроений. Следить за пальцами китайцев не так легко, потому что при разговоре они старались руки спрятать. Кроме того, нужно было и самому хорошо владеть собой, чтобы не обнаружить своего наблюдения за руками собеседника. У интеллигентных китайцев пальцы не выделывали различных движений, а лишь слегка вздрагивали, что было уловить очень и очень трудно.
Деловые разговоры с китайцами никогда не следовало вести за едой. Еда сама по себе считается у китайцев делом, и делом очень важным. Еда – главная радость китайцев. Китайцы живут для того, чтобы есть. После еды китаец, посидев 5–10 минут, уйдёт. Таким было требование этикета. Вот эти десять минут лучше всего было употребить на то, чтобы договориться о времени новой встречи, на сей раз уже для деловой беседы. Во время беседы необходимо было подавать чай, лучше китайский без сахара.
Следовало также помнить, что если китаец во время разговора откидывался на спинку стула или занимал весь стул (как правило, китайцы при деловых разговорах сидели на кончике стула; чем меньше занимал площадь сидения стула, значит, собеседник пользовался бóльшим уважением), это означало, что всякие дальнейшие разговоры с этим китайцем следовало прекратить, ибо подобный жест означал полное неуважение к собеседнику и даже презрение.
Всё сказанное разведчику необходимо было знать и учитывать в отношениях с китайцами как до вербовки, так и в процессе работы с ними, если они дали согласие на сотрудничество. В ходе работы с завербованными уже агентами нужно было следить за тем, чтобы не потерять своего авторитета в их глазах, а потерять его было очень легко.
Так, даже быстрое и аккуратное выполнение самых законных требований агентов неизбежно влекло за собой то, что агент начинал оценивать себя слишком высоко. И, как следствие, это приводило к переоценке агентом собственной личности; он начинал засыпать своего руководителя самыми нелепыми требованиями, и, когда они не выполнялись, агент-китаец начинал критиковать своего руководителя, что означало сильную угрозу его авторитету.
В состав агентурной сети пекинской резидентуры в 1926 г. был включён незадолго до этого завербованный агент, который только начинал работать. Его умышленно держали в отношении оплаты в «чёрном» теле, во-первых, потому что он только начал работать самостоятельно, а также и потому, что китайцам никогда нельзя было выплачивать деньги слишком аккуратно и ни в коем случае не выплачивать деньги авансом, а всегда только за выполненное задание. Случилось так, что с этим агентом в отсутствие его непосредственного руководителя перед отправкой его на задание инструктаж проводил один очень опытный разведчик, но совершенно не знавший психологию китайцев. Когда зашла речь о деньгах, то агенту было обещано, что впредь он будет получать деньги всегда аккуратно. Более того, ему было объяснено, что несвоевременная присылка денег вредна для работы, и было высказано удивление, почему до сего времени задерживалась выплата денег. Агент уехал на работу. На несчастье случилось так, что после этой беседы никак нельзя было выслать этому агенту денег вовремя. Не получив сразу денег, агент прислал письмо с резкой критикой не только задержки денег, но и постановки работы и даже самой работы.











