Читать онлайн Умнее всех? Как наш мозг думает и принимает решения
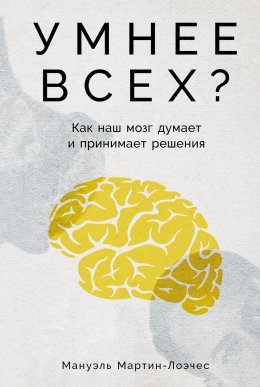
Знак информационной продукции (Федеральный закон № 436–ФЗ от 29.12.2010 г.)
Переводчик: Ольга Лукинская
Научный редактор: Ольга Ивашкина
Редактор: Лев Данилкин
Издатель: Павел Подкосов
Руководитель проекта: Анна Тарасова
Арт-директор: Юрий Буга
Дизайн обложки: Алина Лоскутова
Корректоры: Ольга Петрова, Елена Рудницкая
Верстка: Андрей Ларионов
Иллюстрации на обложке: Shutterstock.com
Все права защищены. Данная электронная книга предназначена исключительно для частного использования в личных (некоммерческих) целях. Электронная книга, ее части, фрагменты и элементы, включая текст, изображения и иное, не подлежат копированию и любому другому использованию без разрешения правообладателя. В частности, запрещено такое использование, в результате которого электронная книга, ее часть, фрагмент или элемент станут доступными ограниченному или неопределенному кругу лиц, в том числе посредством сети интернет, независимо от того, будет предоставляться доступ за плату или безвозмездно.
Копирование, воспроизведение и иное использование электронной книги, ее частей, фрагментов и элементов, выходящее за пределы частного использования в личных (некоммерческих) целях, без согласия правообладателя является незаконным и влечет уголовную, административную и гражданскую ответственность.
© Manuel Martín-Loeches, 2023
© Editorial Planeta, S. A., 2023
© Иллюстрации. Juan Francisco Rodríguez García, 2023
© Издание на русском языке, перевод, оформление. ООО «Альпина нон-фикшн», 2026
Светлой памяти моего отца,
чей великий ум, к сожалению, не нашел себе должного применения
Ум, весь состоящий из одной логики, подобен ножу из одного лезвия: он ранит в кровь руку, берущую его[1].
РАБИНДРАНАТ ТАГОР
Введение
В 1980-х гг. я учился на факультете психологии, и у подавляющего большинства, а то и у всех моих однокурсников, были схожие мечты: получить работу клинического психолога или открыть собственную клинику. Им хотелось посвятить свою жизнь решению поведенческих проблем, помогать людям с психическими расстройствами. Я был исключением. К психологии я относился лишь как к способу познать человеческое существо: понять, как устроены его чувства, желания, мысли и механизмы мышления. Мне хотелось разобраться в самом себе – в этом, пожалуй, я оригинален не был, такой мотив встречается среди студентов-психологов довольно часто. Но в любом случае я не хотел заниматься клинической деятельностью, собираясь посвятить себя исследованию человеческого разума.
Я быстро понял, что ответы на значительную часть волнующих меня вопросов можно найти в такой науке, как биология. В частности, на занятиях по психобиологии мы изучали биологию поведения. Преподаватели не без пафоса говорили о «биологическом фундаменте поведения», и сами были настолько влюблены в свой предмет, что и меня тоже увлекла эта тема. Гормональные, генетические и нейрональные механизмы поведения казались мне ужасно интересными; передо мной открывался целый мир, который предстояло познать и который объяснил бы столь многое. Казалось, это ключ ко всему – по крайней мере, всему, что меня занимало. Видя мою заинтересованность, на четвертом курсе (а учиться тогда нужно было пять лет[2]) меня взяли интерном в факультетскую лабораторию психофармакологии. Там я ставил эксперименты: делал предварительно подготовленным белым крысам внутрибрюшинные инъекции физостигмина и скополамина и наблюдал, какой эффект это оказывает на процессы обучения и памяти. Я научился скрупулезно собирать данные, вести лабораторные журналы, строить таблицы и графики, применять статистические методы к самостоятельно полученным данным. Щеголяя в чистом, наглаженном белом халате, я был крайне горд и доволен собой. Психобиологии предстояло стать моим будущим.
И я не ошибся. Вскоре после выпуска из университета я перестал работать с крысами; теперь моими пациентами были люди. Я начал писать диссертацию на кафедре физиологии медицинского факультета, где применяли передовую на тот момент технологию – картирование головного мозга. Этим методом я пользуюсь и тридцать лет спустя; он подразумевает составление разноцветной карты мозга пациента, где цвета зависят от напряжения, генерируемого нейронами разных отделов. По сути, это карта электрической активности головного мозга. В те времена мы только начинали использовать компьютеры для того, чтобы проводить точный анализ электроэнцефалографических сигналов и их статистическую обработку. Появление этой технологии означало, что моя детская мечта исполнилась. Представьте себе, в детстве я рисовал систему, которую хотел изобрести: металлический шлем с антеннами, который надевается на голову; провода, соединяющие концы антенн с некоей машиной; наконец, сама машина, загадочным образом способная в деталях видеть мысли испытуемого. Во многом это оказалось похоже на работу, которую я проделывал при написании диссертации!
То, что в качестве пути к познанию человеческого мозга я выбрал именно психобиологию, стало, пожалуй, одним из тех немногих случаев в моей жизни, когда мне по-настоящему повезло. Вскоре после моего поступления в аспирантуру (а это 1988–1989 гг.) девяностые были объявлены Декадой мозга[3], о чем и сообщил американский президент Джордж Буш 25 июля 1989 г. Изучение мозга вошло в моду, и в эти исследования принялись инвестировать серьезные суммы. Результатом стал существенный прогресс в сфере технологий, позволяющих изучать мозг здоровых людей, то есть тех, у кого не было показаний к трепанации черепа. Появились методы, позволяющие наблюдать за активностью головного мозга, пока сам человек занимается своими делами. Мы смогли глубже и лучше изучить язык, память, внимание и другие когнитивные процессы. Более того, доступность и разнообразие этих технологий привели к тому, что сразу началось изучение и других ментальных процессов, в том числе ранее мало известных и даже в какой-то степени пограничных, то есть тех, разговоры о которых не приветствовались. С точки зрения «биологического фундамента» стали изучаться такие чисто человеческие – и потому особенно любопытные – темы, как религиозные верования, искусство, эстетика, совесть, медитация, политические убеждения или моральные принципы. Появилась возможность исследовать, что именно происходит, когда мы испытываем эмоции, в том числе свойственные именно человеку – далеко за пределами базовых эмоций, которые мы делим со многими млекопитающими. Чувство вины, стыд, любовь, ревность, зависть, сочувствие – все это превратилось в объекты научных исследований. В ходе десятилетий, прошедших с тех пор, как я начал писать диссертацию, в психологической науке случилась целая революция, изменившая наше понимание природы человека и его интеллекта. И мне невероятно повезло быть свидетелем этого необратимого процесса.
Серьезные подвижки наметились не только в области технологий для изучения мозга. Стало появляться все больше экспериментальных исследований когнитивной и социальной психологии, посвященных тем самым пограничным вопросам. Знания человека о самом себе росли в геометрической прогрессии. В общем и целом понимание человеческого разума в последние десятилетия существенно изменилось по сравнению с прежней версией, принятой в те годы, когда я делал первые шаги в психологии. В те времена мозг человека воспринимался как некая застывшая субстанция, подобная машине, как у Спока в «Стартреке»; считалось, что решения всегда принимаются на основе расчета, а эмоции при этом вообще не участвуют – они не что иное, как атавизм, пережиток нашего животного прошлого, и без них можно прекрасно обойтись. Когнитивное и эмоциональное рассматривались как два отдельных друг от друга мира, причем второй практически никого не интересовал.
В 2002 г. психолог Даниэль Канеман, автор, которого невозможно не упомянуть в этой книге, получил Нобелевскую премию по экономике, доказав, что принятие человеком решений весьма далеко от математических расчетов, а подлинные основы этих решений порой неожиданны[4]. Он обнаружил, что люди совершают ошибки, множество ошибок, намного больше, чем должны были бы, учитывая потенциал их головного мозга. Однако похоже, что ошибочные решения – неотъемлемая часть человеческой природы. Прошу прощения за слишком громоздкую конструкцию, но мы не думаем так, как мы думали, что думаем, несколько десятилетий назад. Более того, сегодня на первый план вышли как раз эмоции. Стало ясно, что именно они – локомотив для всего остального, одна из подлинных причин, в силу которых мы принимаем какие-то решения и что-то делаем, и без эмоций, может статься, и смысла-то никакого жить нет. Интеллект же, благодаря которому мы так сильно отличаемся от животных, не более чем инструмент для того, чтобы формировать с его помощью положительные эмоции и избегать негативных. Ровно для этого нам и нужно быть такими умными. Не боясь ошибиться, скажу, что интеллект – это лишь слуга на подхвате у наших эмоций.
После того как 20 июля 1969 г. Нил Армстронг, командир миссии «Аполлон–11», ступил на поверхность Луны и произнес свою знаменитую фразу «Это маленький шаг для человека, но гигантский скачок для человечества», с лунного модуля спустился его коллега Базз Олдрин. Оказавшись на поверхности нашего спутника, он продолжил начатый ранее разговор с капитаном.
ОЛДРИН: Какой прекрасный вид!
АРМСТРОНГ: Правда же? Потрясающий вид… Здорово, да?
Таков был самый первый диалог людей, которые оказались на Луне.
Мне кажется, те реплики, которыми они обменялись, много говорят о человеке как о существе, для которого важнейшую роль играют эмоции. Армстронг и Олдрин находились за 400 000 километров от дома и семьи, они подвергали свою жизнь опасности, но разговаривали о красоте и впечатлениях. Центральная роль эмоций даже в первой лунной миссии становится еще заметнее в краткой беседе обоих пилотов с президентом Никсоном. Этот диалог состоялся буквально через несколько минут, когда космонавты завершили плановую работу – взяли образцы грунта, расставили датчики, поместили на Луне памятную табличку и флаг США.
ПРЕЗИДЕНТ НИКСОН: Уважаемые Нил и Базз, я нахожусь в Овальном кабинете Белого дома, и это, вероятно, самый важный с исторической точки зрения звонок, когда-либо сделанный отсюда. Я не могу даже выразить то, какую гордость мы все сейчас испытываем за вас. Для любого американца сегодняшний день – важнейший в жизни, да и для жителей других стран тоже. Я уверен, что сегодня американцы в едином порыве признают подвиг, который вы совершили! Благодаря вам с этого дня небо стало частью человеческого мира. Вы находитесь на территории, называемой Морем Спокойствия, и это еще больше вдохновляет нас добиваться спокойствия и мира на Земле. Это уникальный момент в истории человечества, и все народы на Земле сейчас едины. Едины в своей гордости за ваш поступок. И едины в молитвах за то, чтобы вы вернулись на Землю живыми и здоровыми.
АРМСТРОНГ: Благодарю вас, мистер президент. Это большая честь и привилегия представлять здесь не только Соединенные Штаты, но и народы всего мира. С интересом, любопытством, мечтами о будущем. Большая честь быть частью того, что происходит здесь и сейчас[5].
В этом диалоге можно найти ключевые ответы на вопрос, почему Армстронг и Олдрин вообще оказались на Луне. Программа «Аполлон» была одним из этапов ожесточенной гонки между двумя странами, двумя мировыми лидерами, вступившими в историческое соперничество друг с другом: Соединенными Штатами Америки и Советским Союзом. Чтобы осуществить космическую миссию, потребовалась работа сотен тысяч людей в разных местах планеты и миллиарды долларов. Это потрясающий пример того, что люди способны ставить невероятные цели и планировать настоящие одиссеи, выходящие далеко за пределы базовых потребностей (есть, спать, производить потомство). Программа «Аполлон» – это история об амбициях, соперничестве, гордости, чести, интересе, любопытстве, мечтах о будущем, восхищении, даже религии (президент Никсон упоминает молитвы). А еще мы наблюдаем за действием разума, огромного интеллекта, который поставлен на службу всему вышеупомянутому.
Такого рода доказательства важности эмоций всегда были у нас под самым носом, однако в академических кругах долго было принято отторгать ту концепцию человеческого разума, которую мы открываем для себя сейчас. Все наши новые знания об интеллекте появились благодаря подлинной революции.
В этой книге я хотел бы рассказать о сегодняшнем видении разума человека, обретенном нами в ходе десятилетий научной работы. Мне невероятно повезло, что и моя собственная деятельность была посвящена исследованию поведения людей и человеческого мозга. Наряду с тысячами других ученых со всего мира я смог сделать свой собственный, пусть скромный, вклад в современное понимание того, как устроен мозг нашего вида. И работа еще не окончена, так что на страницах этой книги я расскажу о том, что́ именно мы открываем практически сейчас. Думаю, что тогда нам станет понятнее, почему люди, будучи видом с несравненным интеллектом, подчас совершают совершенно поразительные ошибки.
Однако эта книга отражает и мою точку зрения. В науке всегда есть место дебатам, а многие темы не закрыты или закрыты не окончательно. И конечно, некоторые позиции и точки зрения мне ближе, чем другие, так что именно на них я и сфокусируюсь. Тем не менее в случаях, когда относительно какого-то вопроса существует альтернативное мнение, я постараюсь об этом упоминать. Отмечу, что в нашем деле по-прежнему много неизвестных, и в надежде дополнить имеющийся свод знаний я рассказываю о собственных идеях. В любом случае читатель может рассчитывать на то, что бо́льшая часть информации на этих страницах имеет под собой научную основу.
Я буду много и подробно рассказывать о разуме как таковом: что он такое, каким он бывает и как функционирует у разных видов. Мы поговорим об интеллекте рода Homo, и хотя других видов этого рода, кроме нашего, на Земле не осталось, есть данные, помогающие понять, как мыслили другие представители нашего рода. Мы будем задавать интересные вопросы: действительно ли мы умнее своих предков? Если да, то связано ли это с более развитым интеллектом или с накопленными знаниями и культурой? Разговор об интеллекте, особенно человеческом, неотделим от разговора о самых разных необычных проявлениях и последствиях, аномалиях и чудачествах. Их важно изучить, чтобы понять, почему и зачем мы такие умные. Помимо того, что такое наш разум и чем он отличается от разума других видов на планете – как современных, так и вымерших, мы поговорим и о том, что люди совершают ошибки (в том числе грубые) чаще, чем готовы признать. Мы обсудим факторы, которые мешают нам всегда использовать свой потенциал на полную мощность. Рассмотрим, что нами движет и как именно мы реагируем на разные воздействия. Это очень важно, чтобы составить полную картину нас как людей, ведь иногда мы действуем крайне странным или даже абсурдным образом. Памятуя о собственных возможностях и собственных ограничениях, мы сможем понять одно из важнейших для человечества явлений – то, как мы используем дар слова. Люди совершают те или иные поступки и под воздействием готовых нарративов, и с целью создания новых, то есть для нас крайне важно то, что мы слышим или говорим (в том числе сами себе). Мы живем в речевых рамках, и именно благодаря речи меняется наше поведение, совершаются великие подвиги и достижения. Космическая гонка и высадка на Луне лишь один из примеров того, к каким последствиям может привести тот или иной нарратив. Без речи мы бы не вышли из пещер; в книге показано, что именно речь, безусловно, является продуктом великого интеллекта человека, поставленного на службу эмоциям. Однако нарратив может также быть опасным или токсичным, и важно не забывать об этих рисках.
Надеюсь, что эта книга поможет вам приблизиться к пониманию человеческого разума. Это непросто, ведь мы – самый непредсказуемый вид на Земле. И все же те знания, которыми мы располагаем на сегодняшний день, отражены на этих страницах достаточно подробно.
I
А мы в самом деле такие умные? Что такое человеческий интеллект?
Прежде чем отвечать на вопрос, зачем нам быть такими умными, надо разобраться с двумя другими: что значит быть умным и действительно ли мы так уж умны. Поэтому начнем с того, насколько мы умны по сравнению с другими видами, предшествовавшими нам в ходе эволюции и расположенными на других ветвях нашего генеалогического древа. Мы высокоразвитые и социализированные приматы, способные изготавливать инструменты и контролировать огонь. И все? Возможно, один из факторов, способствовавших развитию нашего интеллекта, – это речь. Язык дает нам термины, с помощью которых можно мыслить, позволяет передавать кому-то еще наши идеи и выводы. И раз так, нам следует обговорить и осмыслить эту необыкновенную особенность нашего поведения: а разговаривали ли человеческие существа, жившие 2 млн лет назад? Если нет, то это подразумевает, что между нами – огромная разница, такая же, как между людьми и животными других видов. В этой книге мы обязательно рассмотрим тему речи. Однако интеллект, похоже, присущ не только человеку! Мы увидим, что интеллектом, помимо приматов, особенно крупных обезьян, обладают и другие млекопитающие (например, слоны или косатки), и даже животные, относящиеся к другим классам, например во́роны или осьминоги. А еще мы должны задуматься о том, что у обладания развитым интеллектом есть и своя темная сторона – так, человек способен осознавать факты, которые ему не нравятся, а еще он восприимчив к заболеваниям ментальной сферы. Быть может, это тоже плоды высокого интеллекта? Или нет? А сам по себе разум – он един для всех или существуют его разновидности? Это неоднозначная тема, которая тем не менее заслуживает того, чтобы как следует разобраться в ней, то есть в самих себе, и понять, почему все-таки мы полагаем себя такими умными. Умными и одновременно эмоциональными, и социальными тоже; а еще мы существа, обладающие выдающейся памятью, – более того, на самом деле мы те, кто мы есть, благодаря нашей памяти. Хотя, кстати, ошибок она совершает намного больше, чем мы думаем.
1
Единственные в своем роде
Люди считали себя особенными всегда, с самых давних, незапамятных времен. Мы отличались от всех остальных уникальным качеством – способностью к безграничному познанию других существ и умением давать им имена. И когда пришло время дать название и нашему собственному виду, ученые выбрали самую важную его характеристику. В 1758 г. Карл Линней назвал наш вид Homo sapiens. Мы принадлежим к роду Homo («человек» на латыни), причем с уточнением sapiens – «разумный». Мы очень многое знаем, потому что мы умны. Мы уникальны в том, насколько умны. А еще мы единственные представители рода Homo, оставшиеся на планете, единственные выжившие – и в животном мире это большая редкость. Нет других видов, которые остались бы совсем без родственников.
Конечно, чтобы понять, такие ли уж мы на самом деле умные, надо знать конец нашей истории. Возможно, впрочем, что даже и слишком умные – раз уж мы избавились от всех конкурентов.
В самом деле, о мире мы знаем больше, чем любой другой вид на планете, – особенно в последнее время, когда ко всему стали подходить с научных позиций. Но возможно, раньше наши знания не отличались так уж разительно от знаний других видов рода Homo, с которыми мы некоторое время делили Землю. Взять, к примеру, неандертальцев: полное название этого вида наших кузенов когда-то звучало как Homo sapiens neanderthalensis. Исследователям казалось, они настолько схожи с нами, что их можно считать то ли нашим подвидом, то ли одним из предков. Если бы такая классификация была принята окончательно, нас именовали бы Homo sapiens sapiens, то есть дважды «разумный», что, видимо, подразумевает, что мы в сколько-то раз умнее неандертальского подвида. На это указывали первые палеонтологические данные: есть два подвида Homo sapiens, один разумнее другого. Но по прошествии лет эта гипотеза так и не подтвердилась; более вероятно, что в древние времена разум людей и неандертальцев был примерно одинаков. Несмотря на принадлежность к двум разным видам, мы обладали схожей формой мышления и восприятия мира. Как, например, волки и койоты или львы и тигры. Понятно, что при обсуждении неандертальцев всегда рано или поздно будут всплывать вопросы об особенностях и отличиях нашего разума. Однако граница между умом неандертальца и человека представляется размытой, а значит, и отличительные характеристики выделить непросто. В тот момент, когда мы были похожи друг на друга, были ли мы и неандертальцы двумя самыми умными видами на планете, даже в сравнении с другими представителями рода Homo? А что произошло потом? В какой момент мы стали умнее и победили в гонке на выживание, в ходе которой неандертальцы прекратили свое существование?
Шаг за шагом
Эволюция – процесс постепенный, за редкими исключениями. Изменения, поначалу небольшие, накапливаются и шаг за шагом приводят к формированию новых характеристик – так это представлялось самому Дарвину, хотя сегодня с ним согласятся не все ученые, по крайней мере в отношении некоторых черт. Например, прямохождение могло возникнуть в результате одной-единственной важной генетической мутации. Согласно некоторым теориям, которые мы рассмотрим дальше, такая мутация могла лечь и в основу развития речи у человека. Тем не менее присущий нашему виду интеллект, скорее всего, стал результатом постепенных изменений.
При изучении уже несуществующего вида непросто понять, каковы были интеллектуальные возможности его мозга, но мы в состоянии ориентироваться на подсказки, свидетельствующие о способности изготавливать из камня разного рода орудия и посуду. Само их наличие и то, как они выглядят, – бесценные данные для расчета когнитивных навыков создавшего их вида. Тут важно разделять использование инструментов и их изготовление. Некоторые крупные приматы (шимпанзе, бонобо, орангутаны, гориллы) довольно часто применяют те или иные инструменты – например, раскалывают скорлупу орехов камнями или извлекают термитов из термитников ветками. При этом инструменты они сами не изготавливают, максимум слегка модифицируют природный объект (например, снимают листья с ветки, чтобы использовать ее в охоте на термитов). Создание же инструментов предполагает решение когнитивной задачи совершенно иного рода. Да, у нас есть полученные наблюдателями сведения о том, как шимпанзе в неволе изготавливали грубые режущие инструменты из камня, однако эти данные остаются казуистикой. Определенная способность изготавливать инструменты или хотя бы обрабатывать некие объекты с применением довольно точных и сложных техник фиксировалась и у других животных. Например, новокаледонские во́роны с помощью клюва и лап подбирают небольшие кусочки проволоки и изгибают их таким образом, что получаются тонкие острые крючки, которые затем они используют для охоты. Ворон – небольшая птица с крошечным объемом мозга, однако она способна создавать орудия, облегчающие процесс охоты; значит, эти птицы, во-первых, эффективно решают насущную задачу, а во-вторых, могут планировать наперед. Есть о чем задуматься.
Создавали ли древние люди инструменты, чтобы решать свои задачи? Начнем с очень далекого в нашей эволюции периода, с австралопитеков, которые появились в Африке примерно 4 млн лет назад. Они, в отличие от нас, были намного больше похожи на других (не человекообразных) приматов – и внешним видом, и поведением. Способность изготавливать инструменты не входила в число их отличительных особенностей, хотя отдельные индивидуумы могли практиковать такого рода деятельность. Однако австралопитеки ходили на двух ногах, как и мы, что позволяло им оставлять свободными руки (обратите внимание на эту деталь, мы к ней еще вернемся). Еще до австралопитеков существовали другие виды, тоже связанные с эволюцией человека и уже прямоходящие, хотя изготавливать что-либо они не могли. К сожалению, палеонтологическая летопись столь давних времен все еще очень разрозненная и скудная; она похожа на сложный пазл, в котором не хватает кучи деталей.
Немного продвинемся во времени. От 2,3 до 1,6 млн лет назад на территории Африки жили потомки австралопитеков, называемые Homo habilis (человек умелый). Этот вид, внешне еще напоминающий обезьян, уже официально относится к роду Homo (хотя есть авторы, которые не согласны с такой классификацией и относят данный вид к австралопитекам). Человек умелый уже часто и регулярно изготавливал каменные орудия, хотя и очень грубые; эти примитивные инструменты относят к так называемой олдувайской культуре. Создатель орудия откалывал кусочки камня, придавая одному краю острую форму, но не задумываясь об общем удобстве использования. Позже, около 1,9 млн лет назад, в нашей истории появляются Homo erectus (человек прямоходящий) и Homo ergaster (человек работающий); вероятно, оба названия относятся к одному и тому же виду, но с разным географическим распределением. Homo erectus / ergaster уже был довольно сильно похож на современных людей, как анатомически, так и некоторыми особенностями поведения. Палеонтологические находки указывают на его очень хорошие навыки в изготовлении аккуратных, симметричных инструментов, а также на способность предварительно планировать такого рода работу. Предметы ашельской культуры сохранялись в использовании очень много лет, а их изготовление переходило в процессе эволюции к следующим видам. Вероятно, постепенная и поступательная эволюция Homo erectus привела к появлению неандертальцев и Homo sapiens (человека разумного) около 300 000 лет назад. Homo sapiens унаследовал, усовершенствовал и развил ашельскую культуру.
Развитие производственных навыков у неандертальцев и Homo sapiens поначалу было параллельным, но вскоре у нашего вида произошел расцвет – появились инструменты разных типов, которые изготавливались из все более широкого спектра материалов (таких как кости или рога животных); все это привело к постепенному увеличению дистанции между нами и неандертальцами. Правда, стоит сказать, что еще более очевидным этот самый расцвет Homo sapiens стал, когда неандертальцы прекратили свое существование. Если смотреть в перспективе и отталкиваться от изучения ископаемых инструментов, кажется очевидным: интеллект, который характеризует нас как вид, развивался шаг за шагом на протяжении сотен тысяч лет. Ближе к концу этого пути Homo sapiens и неандерталец были похожи друг на друга, но в итоге мы все-таки превзошли последнего. Но за счет чего? Стало ли это результатом отличных когнитивных способностей или накопления культуры и знаний? Чтобы ответить на этот вопрос, нужно взглянуть на то, как устроен головной мозг других видов, ведь когнитивные и интеллектуальные способности во многом зависят от его формы и размера.
Головной мозг состоит из органической материи, которая разрушается после смерти, так что при изучении окаменелых останков удается найти лишь отпечатки мозга на внутренней поверхности черепа. Но сами по себе кости черепа дают множество подсказок относительно когнитивных способностей вида, особенно если сравнивать черепа существ, относящихся к одной линии эволюции (одному роду или биологической группе). Начнем с того, что по черепу ясно, насколько велик был мозг; мы можем рассчитать его объем. Имеется множество доказательств того, что чем больше объем мозга, тем более сложна когнитивная сфера вида и его интеллект. Некоторые авторы вообще считают, что по-настоящему важен лишь абсолютный объем мозга, без учета других факторов; многие другие, однако, настаивают, что важен скорее относительный объем, то есть размер мозга в пропорции к чему-то другому, обычно размеру тела. Если представить, что для контроля тела определенного размера нужен мозг соответствующего размера, то при превышении мозгом этого теоретического объема он будет лучше справляться с задачами интеллектуального характера.
Генеалогическое древо человека
Я уже говорил, что интеллект нашего вида с течением времени развивался. Важно сказать, что и размер головного мозга в ходе нашей эволюции заметно изменился, причем как абсолютный, так и относительный, особенно со времен Homo habilis и Homo ergaster / erectus. Удивительно, но причина этого связана с использованием огня для приготовления еды. Не существует ни одного другого биологического вида, который бы подвергал пищу термической обработке. При этом выяснилось, что именно приготовление позволяет в полной мере использовать калории, содержащиеся в продуктах; это означает, что мы стали тратить на еду меньше времени. Если бы мы продолжали питаться сырыми продуктами, нам нужно было бы есть намного больше, чтобы обеспечить пищей такой крупный головной мозг, как наш.
Что насчет размера? Объем мозга шимпанзе составлял около 330 см3, а у австралопитеков уже 450 см3 – заметная разница. У ранних видов нашего рода (Homo habilis) размер мозга достиг почти 700 см3 – это много для приматов такого размера. С появлением Homo ergaster / erectus произошел новый скачок роста, и мы говорим уже о 1000 см3. Наконец, у Homo neanderthalensis и Homo sapiens средний объем мозга достиг 1400 см3; при этом у неандертальцев в абсолютном измерении он был чуть больше, чем у нас, однако относительные размеры сопоставимы, учитывая крупные тела неандертальцев.
Параллельно с изучением объема мозга ученые рассматривают и палеонтологический след в виде каменных орудий, которые сохранились с самых древних времен нашей истории. Вывод тот же: наш интеллект по мере эволюции становился все более развитым, и процесс этот был не резким, но постепенным: небольшие шаги, которые привели нас к сегодняшнему состоянию. Но мы пока только начали.
В определении интеллектуальных способностей важную роль играет не только размер головного мозга, но и его внутренняя организация. Я имею в виду количество нейронов в определенных отделах мозга, а также количество и качество связей между различными его частями. К сожалению, мы не знаем, какими были эти характеристики у видов, прекративших свое существование, ведь, как я уже говорил, ткани мозга в окаменелостях не сохраняются. Некоторые исследователи не считают этот источник информации важным; по их мнению, если мы изучаем одну и ту же эволюционную группу, то важнейший фактор, по которому можно судить об интеллектуальном потенциале вида, – объем мозга каждого конкретного вида. При этом подразумевается, что устройство головного мозга, то есть то, как он организован внутри, не меняется в рамках группы видов, а разница в размерах мозга отражает лишь разное количество нейронов, и это определяет различия в уровне интеллекта. Дизайн нашего мозга, таким образом, схож с таковым у приматов, а вот размер намного больше. У других животных, например слонов или китов, мозг огромный, но его устройство не такое, как у приматов, а значит, и интеллект отличается. Безусловно, внутри группы приматов у нас, людей, самый крупный мозг (с большим отрывом) и самый выдающийся ум.
Тем не менее для других авторов связи между нейронами и их крупные или мелкие скопления в определенных отделах мозга не менее, а то и более важны, чем его размер. И я с ними согласен. К примеру, известно, что в мозге человека есть определенная группа волокон, которая отсутствует у других приматов, за исключением разве что шимпанзе. Это так называемый нижний лобно-затылочный пучок, который соединяет затылочные доли (где преимущественно обрабатывается зрительная информация) через височные доли с лобными, причем в их префронтальной части – области мозга, во многом отвечающей за такие высшие когнитивные процессы, как внимание, контроль и планирование. У приматов, лишенных этого пучка, то есть у подавляющего большинства, имеются различные связи между упомянутыми отделами мозга, но единый путь соединения отсутствует. Кроме того, в мозге человека – по сравнению с любыми другими приматами – очень хорошо развит дугообразный пучок и другие пути, соединяющие теменные и лобные доли и играющие важную роль для генерации речи. Как выглядели эти и другие нервные тракты у Homo habilis, Homo erectus или у неандертальцев – вопрос, пока остающийся без ответа.
Авторы, считающие, что для понимания интеллектуальных способностей вида нужно учитывать не только размер, но и устройство мозга, также обращают внимание и на некоторые особенности его формы. В этом плане можно отметить, что у других видов нашей эволюционной линии мозг, независимо от размера, был скорее узким и вытянутым, тогда как у нас он имеет округлую, шаровидную форму, то есть увеличен в теменных и височных областях. Однако пока неясно, связано ли это изменение формы мозга с его функциональным или организационным развитием, или же оно стало лишь реакцией на перестройку формы черепа – ведь одновременно уменьшился объем его лицевого отдела.
Нижний лобно-затылочный пучок, соединяющий затылочные и височные доли с лобными
Основные доли и борозды головного мозга
Мы и они
Итак, мы поняли, что наш интеллект развивался постепенно. Весьма вероятно также, что неандертальцы были не менее умны, ведь их мозг по размеру был схож с нашим (даже больше нашего, но практически такой же, если смотреть в соотношении с телом), да и каменные орудия, которые они создавали, похожи на ранние человеческие. Это позволяет предположить, что и внутреннее устройство головного мозга неандертальцев было сходно с нашим. Оба вида были способны изготавливать инструменты для охоты на опасных и крупных – намного больше, чем они сами, – животных, поддерживать огонь для приготовления пищи, использовать шкуры животных для выживания в холодном климате и многое другое. Вероятно, это были два самых умных вида на планете Земля. Кроме того, у обоих видов были удивительные по строению кисти рук – хоть и схожие со свойственными другим приматам, они значительно развились за тысячи лет практики изготовления инструментов. Все это позволяло им эксплуатировать естественные ресурсы так интенсивно, как не получалось ни у одного животного другого вида. Именно здесь находится зерно, которое, взойдя, должно было обеспечить полное доминирование одного вида над миром. Или двух, тут нет окончательной ясности. По мнению большинства ученых, неандертальцы и sapiens были двумя разными видами: первый возник в Европе в результате эволюции Homo erectus или какого-то промежуточного вида, населившего эти места намного раньше, а второй появился в Африке (хотя и этот пункт небесспорен). Между этими двумя видами произошло смешение генетического кода, то есть появились общие потомки. Факт этот – наряду с заметным ментальным и интеллектуальным сходством – навел, в ходе долгих дебатов, ученых на предположение, что речь может идти об одном и том же виде.
Любопытно, что чем больше мы узнаём о неандертальцах, тем очевиднее, что они походили на нас – в плане поведения, а значит, и устройства разума. Считается, что они занимались рудиментарными практиками, имеющими отношение к искусству, использовали нательные украшения, в том числе довольно сложные в изготовлении. Да, во всех этих аспектах мы в итоге превзошли неандертальцев, но это было бы невозможно, если бы наша эволюция не опиралась на весьма развитую биологию мозга в качестве основы. При этом наш мозг эволюционировал параллельно с упадком неандертальцев, которых становилось все меньше, пока около 40 000 лет назад они не вымерли полностью.
Однако многие авторы считают, что между нашим разумом и всеми остальными разумами – или мозгами – животного мира, включая представителей рода Homo, и даже самих неандертальцев, существует непреодолимая граница, настоящий Рубикон, – несмотря на все многочисленные сходства. Они полагают, что относительно слабые различия между неандертальцами и sapiens на заре времен связаны с тем, что люди на тот момент еще не приобрели такую отличительную черту, как способность мыслить символами. Наш вид насчитывает от 200 000 до 300 000 лет, а характерное для нас символическое мышление возникло не более чем 100 000 или даже 50 000 лет назад. С появлением способности мыслить символами мы приобрели все, чем отличаемся как вид: язык, религию, искусство. Этот тип мышления качественно отличается от всего, что существовало ранее, и именно он представляет собой тот высокий барьер, который отделяет нас от всех прочих существ.
Любопытно, однако ж, что и у неандертальцев были формы поведения, которые, похоже, были так или иначе связаны с символическим мышлением, по крайней мере рудиментарным. Кроме того, имеются палеонтологические находки, относящиеся к периоду 45-тысячелетней давности, то есть когда sapiens еще не населяли Европу; эти находки свидетельствуют, что неандертальцы либо смогли преодолеть ту самую границу между видами, либо этой границы и вовсе не существовало. Второй вариант кажется мне более вероятным. Важно, что дать точное определение символическому мышлению не удается: имеющиеся формулировки двойственны и размыты, а единого мнения по ним пока нет. Для одних авторов «символическое» – это синоним «не утилитарного», для других это слово означает скорее нечто духовное, и, наконец, третьи связывают термин прежде всего с коммуникацией и речью.
Такие аспекты, как язык, искусство и религия, вырастают не из одного и того же механизма мышления, а из разных комбинаций, в которых сливаются многочисленные формы взаимодействия с реальностью. Таким образом, символическое мышление, что бы оно на самом деле ни подразумевало, само по себе не причина того, что люди могут верить в богов, рисовать на стенах или разговаривать. С когнитивной точки зрения несомненно одно: символическое мышление – это способность работать с символами, то есть некими изображениями или знаками, не связанными с реальной жизнью. Далее в этой книге я объясню, что наши знания, возможно, формируются иначе. Тем не менее можно объяснить, что такое символ, и по-другому. Символ – это некая репрезентация, отражающая реальное явление. Например, флаг – это символ страны. Слово «лодка» отражает то, что известно нам в качестве лодки. В этом смысле наш мозг действительно использует символы, в том числе языковые (то есть слова в качестве символов). Нет однозначной уверенности в том, что у неандертальцев не было языка, похожего на наш; более того, вполне вероятно, что он был. Есть и другие виды, которые используют символы или способны обучиться их употреблению. Однако в мышлении используются не совсем эти символы; мы думаем не звуками слов или изображениями флагов, а значениями этих символов. В общем, едва ли правильно считать символическое мышление нашей отличительной и уникальной чертой. Возможно, это еще одна ложная граница между нами и остальными видами – та воображаемая линия, которая на самом деле ничего не разделяет. Я еще вернусь к этой теме, а пока давайте поищем другие варианты ответа.
Мы остались одни
Кратко подытожим: в истории был момент, когда существовали (и даже сосуществовали) два вида, обладающие повышенным интеллектом: неандертальцы и Homo sapiens. Это были, вероятно, два самых умных и обладавших наивысшим потенциалом вида на планете Земля. Однако со временем один из них исчез. Причины исчезновения остаются тайной, и их пытаются объяснить самыми разными способами.
Сначала была предложена гипотеза о том, что наш вид победил в агрессивной борьбе за природные ресурсы. Если исходить из презумпции интеллектуального превосходства Homo sapiens (которое, как мы уже видели, не доказано, но и не исключается), мы могли оказаться более способными в физических столкновениях с неандертальцами. Но в таком случае сохранились бы какие-то следы подобных битв, которые, однако ж, пока не обнаружены. Поэтому гипотеза эта устарела и вышла из употребления.
Высказывалась и идея, согласно которой наш вид мог быть носителем инфекционных и паразитарных заболеваний, с которыми иммунная система неандертальцев не справлялась, и они вымерли по нашей вине, непреднамеренно с нашей стороны. Схожие феномены в истории уже отмечались: например, при завоевании американского континента испанцами местное население значительно уменьшилось в размере, хотя и не до грани исчезновения. Однако неандертальцы и люди сосуществовали на территории Европы на протяжении не менее 5000 лет; и похоже, это все же многовато, чтобы заподозрить нас в их уничтожении с помощью занесенных из других регионов патогенов.
Может быть, у неандертальцев отсутствовали какие-то имевшиеся у нас преимущества, помогающие использовать природные ресурсы? Речь может идти не о физическом противостоянии – не на жизнь, а на смерть – между двумя видами, а о лучших способностях одного вида добывать те или иные природные ресурсы, объем которых обычно ограничен. В силу этого более слабой группе оставалось бы все меньше разного рода ресурсов, и группа постепенно вымирала. Такого рода слабость или недостаток необязательно связаны с интеллектом, хотя и этого исключать нельзя. Не стоит забывать, что в истории были случаи, когда одни группы людей уничтожались другими, обладавшими преимуществом в плане технологий или организованности, но это уже продукт культуры и образования, не связанный с врожденными ограничениями головного мозга. Каменные технологии неандертальцев не были столь разнообразными и продвинутыми, как наши; кроме того, они жили менее крупными и более изолированными группами, что ограничивало возможности культурных обменов. Предполагается также, что неандертальцы обладали более низкой выносливостью при беге, а это сказывалось на результатах охоты, одного из основных источников питания в те времена (наряду со сбором фруктов и других растений). В сравнении с более худыми, легкими людьми неандертальцы были крупнее, а значит, их тела расходовали больше энергии.
Можно предположить, что причин было сразу несколько. Так или иначе, они исчезли, а мы остались. Или нет? Ведь имеются и признаки смешения двух видов. При изучении ископаемой ДНК стало ясно, что между неандертальцами и sapiens были отношения, в результате которых рождалось фертильное потомство. Это значит, что многие современные люди частично происходят от неандертальцев! Однако нельзя утверждать, что мы смешанный неандертальско-человеческий вид, происходящий из гармоничного сосуществования на обширной территории на протяжении тысяч лет. Фрагменты ДНК неандертальцев, которые находят у современного человека, крайне незначительны; они обнаруживаются только у людей неафриканского происхождения. Другими словами, у множества людей нет ни следа неандертальской генетики. Поэтому мы можем сделать вывод, что на планете выжил лишь наш вид, хотя у некоторых его представителей и можно найти следы другого вида, с которым мы сосуществовали и который более не присутствует. Если только мы не придем к заключению, что sapiens и неандертальцы вообще никогда не были двумя разными видами…
Самые важные периоды жизни
Размышляя о том, действительно ли мы умнее всех на планете, мы порой преувеличиваем роль генов, отвечающих за структуру и организацию мозга. Но ведь это не единственный важный фактор. Опыт, накопление культуры, передача информации, ее обсуждение и дебаты, дискуссии и коллективная выработка знаний – все это тоже существенно. И более того, играет важную роль.
Несомненно, то, как именно устроен мозг у конкретного вида, определяет границы, в которых может развиваться его интеллект. В группе приматов, к которым относимся мы, существует, как мы уже знаем, корреляция между интеллектуальным потенциалом и объемом головного мозга. За все время эволюции только человек достиг высочайшего технологического уровня, и при сравнении размера мозга людей и всех прочих присутствующих на планете видов все довольно очевидно. Но есть и еще кое-что. Невозможно использовать весь потенциал головного мозга, если лишить его доступа к опыту и информации – адекватным и достаточным в каждый момент времени. А уж если информация и опыт будут высокого качества, то мозг в состоянии достичь впечатляющих вершин.
Спор о происхождении наших интеллектуальных способностей продолжался не одно десятилетие. Ум – это продукт воздействия среды, то есть образования и опыта, полученных после рождения? Или же мы приобретаем его в ходе генетического наследования и умные дети рождаются у умных родителей? Это спор об интеллектуальных различиях между индивидуумами одного и того же (нашего) вида, но отчасти подразумевались и различия между видами нашей эволюционной линии; эти различия обнаруживаются в палеонтологической летописи. К счастью, на сегодня дискуссия считается практически завершенной. Она основывалась на крайне упрощенном подходе к проблеме взаимодействия генетики и среды, в рамках которого предполагалось, что определенная доля интеллекта определяется генами, а другая – образованием и опытом. Сначала утверждали, будто это соотношение составляет 80:20, потом говорили об обратном (20:80), а в дальнейшем и о равных долях (50:50). Но в действительности, как это часто бывает, все несколько сложнее.
Во-первых, со временем научным образом было доказано, что не существует отдельного гена интеллекта, который определял бы, насколько человек будет умен (при наличии соответствующего образования). За коэффициент интеллекта конкретного человека в большей или меньшей степени отвечают сотни генов. Каждый из них оказывает свое небольшое влияние на какой-то конкретный, специфичный процесс в головном мозге. Скажем, одни гены определяют качество тех или иных нейронных связей, другие – количество нейронов в разных отделах мозга, третьи – число связей между определенными нейронами и так далее. Таким образом, одни гены могут благоприятствовать развитию интеллекта своего носителя, а другие – уменьшать или нейтрализовать этот благоприятный эффект.
Во-вторых, важно понимать, что оценивать вклад генов не имеет смысла без учета влияния среды. И среда это далеко не только образование; она включает в себя множество разных факторов. К примеру, фундаментальное, а порой и определяющее значение для интеллекта конкретного человека имеет адекватное питание, особенно на этапе развития. Для построения сложной нейронной системы, каковой и является мозг, необходимы, кроме прочих веществ, белки и аминокислоты. Нейроны и связи между ними – это физические объекты, для построения которых требуется сырье; если этого сырья не хватает, оптимального результата не будет. Учитывая этот факт, можно понять, что на развитие мозга влияют и другие факторы, которые могут быть далеки от образования или опыта, но крайне важны; в качестве примеров можно назвать воздействие токсических веществ или загрязненного воздуха. К тому же мозг постоянно трансформируется, даже когда период его развития уже завершен (а у человека он может составить более 20 лет); это означает, что интеллектуальные способности могут варьировать под влиянием всех этих факторов на протяжении взрослой жизни.
То, насколько умен будет конкретный человек, во многом зависит от того, насколько вовремя он подвергнется воздействию тех или иных факторов среды. В период развития головного мозга он нуждается в определенном опыте и воздействии стимулов в конкретные моменты; если такого воздействия не произошло, окно возможностей закрывается, а последствия могут быть в той или иной мере необратимы. Если взять новорожденного котенка и на первые несколько недель жизни завязать ему глаза, то животное останется слепым навсегда. Если сделать то же самое со взрослой кошкой, она вновь будет отлично видеть, когда повязку снимут. Это пример того, что такое критически значимый период – жизненный этап, на котором тот или иной опыт имеет критическое значение. Логично, что в эти моменты фундаментальную роль играет и то самое сырье для строительства мозга, о котором мы уже упоминали, – питательные вещества. Именно поэтому неполноценное питание в детском возрасте – гораздо более серьезная проблема, чем недоедание у взрослых. Кроме того, на физическое формирование головного мозга влияют и разные заболевания, в том числе стресс, который может сыграть важную роль. Именно стресс опасен для мозга, ведь он, помимо прочего, сопровождается повышением уровня гормона кортизола; кортизол же способен буквально разрушать нейроны.
Другие периоды, связанные с приобретением определенного опыта, важны, но не критически, поэтому их называют сенситивными периодами; если в такой промежуток времени не будет приобретен нужный опыт, последствия возможны, но не такие заметные, как при нарушениях в критические периоды. В целом можно сказать, что критически значимые периоды наблюдаются в раннем детстве, а сенcитивные – позже. Развитие мозга – кумулятивный (накопительный) процесс; качество и результат созревания отдельных его областей зависят от того, как созревали и развивались другие зоны, которые уже преодолели критический или сенситивный период. Итак, интеллектуальные способности человека зависят от множества факторов, сложно переплетенных между собой. Процесс должен идти гармонично, а его элементы – превышать определенный минимум в плане качества; и чем значительнее мы сможем улучшить качество всех этих элементов, тем лучшего результата мы добьемся.
Сила знаний
Образование в современном человеческом обществе организовано таким образом, что человек получает его прежде всего во время наиболее важных критических и сенситивных периодов развития мозга нашего вида. Мозг, который в годы своего созревания обеспечен разного рода стимулами, информацией, опытом, предлагаемым системой образования, будет отличаться от мозга, который всего этого лишен, даже если речь идет не просто о представителях одного и того же вида, но и людях со схожей или идентичной генетикой. Опыт влияет на морфологию мозга и нейронные связи в нем. Знания и опыт дают мозгу большее количество нейронов и связей между ними; такой мозг более эффективен – другими словами, более умен.
Более того, похоже, у каждого следующего поколения, благодаря как раз образованию, уровень интеллекта повышается. Некоторое время назад психолог Джеймс Флинн заметил, что средний коэффициент интеллекта в популяции со временем увеличивается – примерно на три пункта за десять лет (вернее, сам по себе этот средний коэффициент относителен и принимается за сто, а вот то, как он подсчитывается, приходится регулярно корректировать). Это называется эффектом Флинна. В основе эффекта – тот факт, что число грамотных людей постоянно растет, а информация, которую каждое поколение получает в период обучения, меняется. За несколько последних десятилетий интеллект населения Земли стал выше, по крайней мере согласно данным традиционных тестов, которые позволяют измерить ментальные навыки, развивающиеся в процессе обучения. Другими словами, возникает повторяющийся цикл: с каждым разом все больше людей способны получить высокий результат теста и его средний результат повышается. Интересно, что в наиболее экономически развитых странах эффект Флинна достигает, похоже, в какой-то момент определенного потолка, а вот в развивающихся странах он очень заметен. Так или иначе, сомневаться не приходится: чем шире и качественнее образование, тем выше становится и интеллект человечества.
Я часто задаюсь вопросом: какие вершины могли бы покорить неандертальцы, имей они доступ к современной системе образования? Не исключаю, что некоторые из них – весьма значительные, и они добивались бы хорошего результата даже в таких областях, как физика или инженерия, – требующих развитого абстрактного мышления, на которое способен наш мозг. Собственно, с людьми то же самое: не каждый достигает предельных высот возможного для нашего вида интеллекта. Если бы неандерталец, обладающий таким же крупным мозгом, как человек, в критически значимые периоды своего развития получил достаточное питание, медицинскую поддержку, а также знания и опыт, которые получают современные люди, вполне возможно, что он бы существенно не отличался от представителя вида sapiens. То есть мы можем предположить, что в доисторические времена неандертальцы и sapiens были двумя самыми умными видами на планете, однако в сравнении с тем – базовым – уровнем наш вид развился гораздо сильнее. Возможно, это результат того, что мы лучше овладевали природными ресурсами, обеспечивая своему мозгу более благоприятные условия для развития. Параллельно происходило постепенное накопление опыта и идей, которые передавались из поколения в поколение; все это улучшало интеллект sapiens, и особенно явным это улучшение стало ближе к моменту исчезновения неандертальцев и после него.
Скорее всего, наш мозг особо не изменился в сравнении с тем, каким он был на раннем этапе существования нашего вида (от 200 000 до 300 000 лет назад). По сути, именно с тех времен мы обладаем достаточно способным мозгом, отличающим нас от любых других видов на планете, в том числе от представителей нашей линии эволюции, за исключением неандертальцев. А вот что существенно изменилось – так это наши достижения, знания, возможности. Несмотря на точно такой же мозг, сейчас мы намного умнее людей, живших 200 000 лет назад. Накопление идей, опыта, знаний, усиленное огромным любопытством (общей характеристикой всех приматов, но особенно выраженной у нашего вида благодаря крупному мозгу), сыграло фундаментальную роль. Важным вкладом оказалось и наблюдение за природой – теми видами, на которых люди охотились и которыми питались, а также теми, которых человек одомашнивал, начиная с неолитического периода на протяжении 10 000 лет. Письменность, первые следы которой датируются периодом около 5000 лет назад, поспособствовала развитию интеллекта людей, и особенно в период после изобретения печати. Современные технологии, цифровой мир, возможность обмена огромными объемами позволили совершить еще один колоссальный рывок, и я считаю, что его последствия будут крайне положительными и дадут много ценных плодов в будущем. Однако сам по себе головной мозг Homo sapiens остается таким же, как во времена появления нашего вида; за его организацию отвечают все те же гены, которые не успели претерпеть сколько-нибудь заметные изменения. Есть такой популярный современный миф: упрощенный доступ к информации (письменность, печать, оцифровка) якобы нанес урон мозгу человека. На самом деле ровно наоборот: ресурсы памяти и внимания нашего мозга вовсе не уменьшаются из-за новых технологий.
Если когда-то мы, наравне с неандертальцами, были видом, потенциально способным исследовать планету и добиться доминирования на ней, то сейчас мы этого достигли. Правда, стоит быть реалистами и честно, с должной скромностью, признать, что это доминирование не полное, а некоторые вещи неподвластны нам. Например, довольно очевидно, что мы не в состоянии контролировать климат, нам не удается остановить вред, нами же и наносимый окружающему миру, в котором живем вместе с другими видами.
2
Большая разница: Человеческая речь
Я уже говорил, что слова – это, по сути, символы. Звучание слова, чаще всего произвольное, но принятое в определенном сообществе (людьми, говорящими на одном языке), соотносится с той или иной вещью или идеей. Это и есть символ. Слово «роза» означает цветок растения, стебель которого покрыт шипами, при этом сам цветок – очень красивый объект. Способность людей создавать, запоминать и использовать символы – это резко выделяющая наш вид черта и, несомненно, одна из главных причин того, что мы такие умные.
Чтобы понять, как работает язык (и речь), мы должны рассмотреть это явление в трех аспектах. Первый – это фонетика, то есть звучание. Звуковой язык человека первичен в сравнении с визуальным (письменным) или жестовым (который используют люди с нарушениями слуха). Письмо и язык жестов во многом параллельны языку фонетическому и могут заменить его, когда это необходимо. Говоря о звуках языка, мы подразумеваем несколько разных аспектов. С одной стороны, это фонемы (гласные и согласные звуки), которые формируют слоги, составляющие, в свою очередь, слова. С другой стороны, в речи есть паузы, эмфазы, интонации, которые помогают определить, слышим ли мы, например, вопрос или утверждение; «музыка», свойственная языку, его мелодика, помогает нам лучше понимать услышанное.
Второй аспект языка – семантика, то есть значения его элементов. Значениями обладают слова или даже части слов, так называемые морфемы, например приставка экс-. Кроме того, определенным значением обладают и целые фразы, и это значение меняется в зависимости от того, как именно в ней комбинируются различные слова. Например, «Хуан помогает Педро» не то же самое, что «Хуан толкает Педро».
Наконец, третий важнейший элемент языка – это синтаксис, или грамматика, то есть правила комбинирования слов или морфем, позволяющие составить текст так, чтобы описать конкретную ситуацию в безошибочной и точной манере. Грамматика помогает мне избегать двусмысленности: если я говорю «Хуан помогает Педро», то помогает именно Хуан, а получает помощь именно Педро, а не наоборот.
Как важно хорошо слышать
Некоторые авторы считают, что изначально язык людей был жестовым, то есть для коммуникации использовались руки. Однако постепенно жесты отошли на второй план и были вымещены звуками, которые генерировались нашим речевым аппаратом. Дело в том, что слов становилось все больше, при этом руки, необходимые для выполнения множества задач, можно было освободить на время общения – раз уж существуют другие методы коммуникации. К тому же устная речь позволяет общаться, даже не видя друг друга, например на охоте, поджидая зверя в засаде. В целом весьма вероятно, что наш язык был звуковым с самого начала – я лично склоняюсь именно к этой гипотезе. Важнейшие области коры головного мозга, связанные с речью, зона Брока и зона Вернике, расположены так, что звуковой характер речи наиболее вероятен. Зона Брока находится вблизи моторных зон, контролирующих движения рта и речевого аппарата, а зона Вернике является частью слуховых областей мозга. Интересно, что даже люди, с рождения лишенные слуха, при использовании языка жестов задействуют эти области, хотя на основе их анатомической локализации можно было предположить, что они работают исключительно для произведения и восприятия звуков. Это пример высокого уровня специализации в нашем головном мозге, и задача, которая при этом выполняется, – поддержка языка и речи.
Итак, язык людей изначально имеет звуковую природу. В речи используется крайне искусно организованная система, позволяющая создавать слова, вновь и вновь конструируя их из базовых элементов; это экономично с точки зрения запоминания звуков, а еще позволяет нам выражать мысли с высокой точностью. Например, все те десятки тысяч слов, из которых состоит испанский язык, построены из пары десятков согласных и пяти гласных звуков.
Конечно, для использования речи нам нужен тонкий слух, который позволял бы довольно точно и недвусмысленно различать звуки, похожие друг на друга, например [т] и [д], ведь «том» и «дом» не одно и то же. Итак, человек должен различать звуки на слух с высокой точностью. Это особенно актуально, если учесть, что звуки человеческого языка не задействуют весь спектр частот, воспринимаемый нашим ухом. В принципе мы можем слышать звуки в диапазоне от 20 до 20 000 Герц (Гц), или колебаний в секунду (чем выше частота, тем более высокий мы слышим тон), но в речи используется очень узкий фрагмент этого диапазона, примерно от 2000 до 5000 Гц. Более того, наш орган слуха (от ушной раковины до коры головного мозга) специфически наиболее хорошо приспособлен именно к восприятию этих частот. Посмотрите, как устроено ухо: все эти удивительные завитки и изгибы хряща ушной раковины нужны не для красоты, а для усиления частот данного диапазона. Весьма вероятно, что предпочтение именно этим частотам выработалось в силу того, что они лучше распространялись в среде, где разворачивалась наша эволюция, – а это была, скорее всего, африканская саванна, в отличие от более похожей на джунгли среды, где обитали, например, шимпанзе. Однако, несмотря на столь совершенный слух, мы нередко можем перепутать или не расслышать слова своего языка. Это та цена, которую мы платим за систему, в целом позволяющую сэкономить пространство для запоминания. К счастью, обычно эта проблема компенсируется пониманием контекста, а также некоторой избыточностью речи.
Несмотря на все вышесказанное, именно звуковой аспект речи, пожалуй, менее всего важен с точки зрения развития нашего интеллекта. Как уже обсуждалось, у нас есть другие версии языка, которые обладают не меньшей емкостью и в целом столь же эффективны, как звуковая. Например, жестовый язык глухонемых – такой же полноценный и комплексный, как звуковой, а с помощью письменности мы можем передавать информацию так же надежно и качественно, как если бы произносили слова голосом. Хотя по своей природе язык человека является звуковым, можно сказать, что этот аспект связан лишь с тем, как речь «входит» в мозг и «выходит» из него. Гораздо важнее то, что происходит внутри. Уникальность человеческого языка – в его семантическом и синтаксическом аспектах. Именно изучая их, мы целиком и полностью погружаемся в тему интеллекта человека.
Ментальный словарь
Каждое слово – это символ, и у каждого слова есть две четко разграниченные составляющие. Первая – звучание (или визуальный образ или жест); это называется означающее. Вторая – означаемое, то есть собственно содержание, смысл слова, и в контексте данной книги этот компонент, пожалуй, важнее. Означаемое представляет собой понятие, идею, образ, которые в целом не связаны с лингвистикой и часто (хотя и не всегда) основаны на нашем реальном, прямом взаимодействии с окружающим миром. Мы создаем эти понятия на основе того, что видим, слышим, пробуем на вкус или ощущаем обонянием, к чему прикасаемся, – на основе того, что мы делаем в окружающем мире











