Читать онлайн Как чувствовать современный театр
- Автор: Георгий Цицишвили
- Жанр: Кинематограф, Театр, Культурология
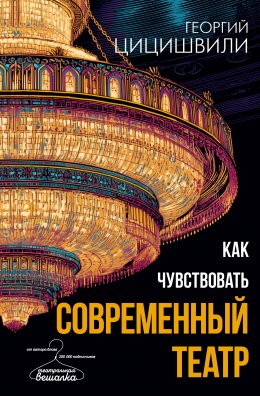
Спасибо за помощь в подготовке книги Александре Гаевой.
Я посвящаю эту книгу своей дочери Алисе – все важное, что я делаю в жизни – в твою честь. Я надеюсь, что в разные периоды жизни ты всегда сможешь открыть этот разворот, и прочитать одну простую фразу, в которой вся правда – папа всегда будет с тобой.
© Цицишвили, Г. Т., текст, фотографии, 2025
© ООО «Издательство АСТ», 2025
Когда я думаю о том, зачем нужна книга о современном театре, то мне приходит в голову только один ответ. Современный театр является сейчас местом дискуссий, обмена мнениями, живого процесса. Можно резонно сказать, что он всегда был ареной для этого, но на мой взгляд это очень давно не так. Театр последних 30–40 лет был в России местом получения удовольствия, культурного наполнения, пробы новых форм, но не местом, где на сцене могла бы разворачиваться политическая дискуссия между постановками и зрительным залом. Сейчас же – это пространство для обмена мнениями между публикой и создателями до, после и во время постановок. Театр вернулся к своим истокам, греческий и римский театры, театр времен У. Шекспира. Тогда публика могла прямо во время представлений высказаться из зала. Сейчас мы стали более воспитанными, но не замечать, что именно театр становится главным местом культурного дискурса невозможно, поэтому вокруг современного театра в настоящее время так много споров, обсуждений, а на хорошие постановки вновь не достать билет. Это разительное отличие от конца девяностых и начала нулевых, когда даже такие театры, как БДТ и МХТ стояли полупустыми, но и от уже сытых десятых годов, когда ходить в театр стало просто модно, однако ни в интернете, ни в публичных пространствах не было бурного обсуждения.
Теперь же даже появилось направление – театральный туризм. Самолеты и поезда между Санкт-Петербургом и Москвой постоянно заполнены теми, кто едет смотреть спектакли, а многие уже едут и в регионы нашей страны, чтобы изучать местную театральную фактуру.
Основной тезис моей книги заключается в том, что современный театр нужно чувствовать, а не понимать. Нет никакого запрета на понимание, есть театралы, театроведы, критики, которые хорошо в этом разбираются, однако большинству зрителей невозможно понять и львиную долю современных спектаклей, так как они просто не считывают авторских «пасхалок», не знают истории театра, не освоили такой объем литературы, как режиссеры спектаклей, не так часто видели западные спектакли или вообще не видели, не знают внутренней кухни – традиций, юмора. Многое ли могли понимать первые зрители БДТ, когда им показывали Ф. Шиллера? Или те самые зрители Шекспировского театра, не имеющие образования. Что тогда оставалось и остается зрителю? ЧУВСТВОВАТЬ.
Театр – искусство, которое живет здесь и сейчас. Никогда не будет двух одинаковых спектаклей, одинаково сыгранных ролей, спектакль дышит в унисон со зрителем, и существует только в моменте. Театр – это отражение, зеркало, он отзеркаливает чувства, эмоции и мысли человека в зале, которые тот может увидеть в объеме и проекции на сцене. Это такая аутопсихотерапия. А внутри психотерапии, конечно же, важно выйти за пределы сугубо рациональные и погрузиться в интуитивное, неочевидное и скрытое, театр работает на уровне подсознания. На этом уровне ключом становятся чувства. В этой книге я постараюсь дать ответ, как же найти эти ключи к чувствованию театра, поделюсь опытом, приведу свои рецензии, которые чаще всего строятся не на понимании, расскажу о сложности современного театра, а главное, постараюсь говорить с вами не на уровне рацио.
Начало нулевых, консерватория Римского-Корсакова, мне 14 лет, отец берет меня с собой в театр. Большие гастроли Театра Роберта Стуруа, дают «Кавказский меловой круг». Отец говорит все дни до похода, что это культовый спектакль. Как сейчас помню – зал ломится от людей, смотрят стоя, сидя на полу, как угодно. Спектакль идет на грузинском языке, я знаю его уже очень плохо (с двух до шести лет я жил в Тбилиси, пока мы с родителями не вернулись в Петербург), в наушниках ужасный переводческий рассинхрон. Я пытался понять хоть что-то. Разумеется, в 13–14 лет я не читал Брехта и не понимал ничего, лишь зафиксировал мощнейшую по громкости овацию.
Тогда мне показалось, что вряд ли я еще пойду в театр. Но практически сразу моя классная руководительница Елена Евгеньевна на уроке физики спрашивает: «В пятницу идем в театр, поднимите руки, кто идет». Ни одной руки. Я, памятуя о недавнем походе с отцом, опускаю голову и пытаюсь спрятаться. «Цицишвили – ты идешь точно», – говорит учитель, и у меня не остается выбора. Дело в том, что я считался сильнейшим учеником школы по литературе, ярко выраженным гуманитарием, и меня использовали как лидера мнений. Вслед за этим насильственным занесением меня в список идущих появились и первые поднятые руки одноклассников. Тот поход в театр навсегда сохранился в моей памяти. Нам по 13–14 лет, мы оказываемся в теперь уже главном театре моей жизни – МДТ – Театре Европы, на спектакле «Клаустрофобия». Чем руководствовалась в выборе Елена Евгеньевна – загадка, но факт остается фактом. Один из самых скандальных спектаклей в карьере великого Льва Абрамовича Додина, который так и не был принят в России и был снят невероятно быстро для постановок мэтра, и это несмотря на огромный успех в Европе.
Он вышел в 1994 году и был поставлен по текстам Владимира Сорокина, Венедикта Ерофеева, Михаила Харитонова и других, мягко говоря, провокационных авторов. Никогда не забуду картину. Мне 14 лет, я на первом ряду балкона МДТ, 2 или 3 раз в театре, идет отрывок спектакля «Клаустрофобия» – кусок из текста Сорокина – «Пельмени». Острохарактерный артист Олег Гаянов истошно орет, из его переполненного рта летят пельмени прямо в партер. А до этого Игорь Черневич в телесном костюме, эротичные танцы, громкие хоры и духовые. Понимал ли я что происходит? Вообще ничего, ряд моих одноклассников были в шоке, я же просто смотрел на происходящее, как на поток действий, звука, смены декораций, игру света. Приехав домой, я толком не смог даже описать родителям свои впечатления и лег спать. Однако, спектакль не отпускал меня неделю. Он приходил во снах, отдельными фразами, всплывал картинками, а главное пульсировал на уровне ощущений, причем не самых приятных, словно подобие не самого приятного похмелья, но отчего-то хочешь это повторить. Через некоторое время классная руководительница вновь спросила:
– Кто хочет пойти в театр?
– А в какой? – спросил я.
– В тот же.
И моя рука тут же взметнулась вверх. Мы снова отправились в МДТ, на этот раз смотрели премьеру «Чайки», первая версия этого спектакля (в 2023 году вышла новая версия в МДТ) была летящей, трагикомичной, артисты рассекали на велосипедах по сцене и мосткам, сооруженным на ней, а в главной роли была потрясающе красивая и обаятельная актриса. Она была так хороша, что я побежал за цветком, решив потратить деньги, которые мама дала мне на обед. И в конце спектакля я тянул руку с одной белой розой, уже на финальном поклоне совсем юная Ксения Раппопорт заметила меня и с улыбкой забрала цветок. Приехав домой – я горел.
– Как тебе спектакль, сынок? – спросила мама
Как сейчас помню, что я ответил:
– Все мы в чем-то такие «чайки» – летим и разбиваемся.
Понял ли я спектакль или прочувствовал? Конечно, второе.
С этого момента началась моя любовь к театру, регулярные походы туда, и на основе этой любви в 2012 году я запустил теперь уже крупнейший в России блог о театре – «Театральная вешалка» и массу проектов вокруг него.
Довольно долго я думал можно ли одним словом сформулировать – что есть современный театр? И никак не мог сформулировать. Затем вспомнил свой вышеописанный поход на «Клаустрофобию», и в памяти всплыл еще один зрительский опыт. На Первом канале выходила программа «Закрытый показ». В ней показывались главные арт-хаус фильмы нашей страны, а потом шло обсуждение с гостями студии, которые были поделены на тех, кому фильм понравился и тех, кому нет. Самым горячим обсуждением в истории программы стало обсуждение картины Алексея Октябриновича Балабанова – «Груз 200». Во время обсуждения один из гостей, которому фильм очень понравился, знаменитый режиссер – Андрей Смирнов, сказал после просмотра фильма:
– Я пришел на этот фильм, со мной моя жена, сын подросток, мы все были в шоке. Дня два еще мне во сне приходила эта картина, я мучался, как-будто выпил отраву. Но шок – это законное оружие автора.
И два этих зрительских воспоминания вдруг слились в понимание слова, которым бы я описал современный театр – это слово ВИБРАЦИЯ. Современный театр словно источает излучение или вибрацию, нечто невидимое, неочевидное, что может оказывать воздействие на зрителя и долгое время не отпускать, при этом не кристаллизуясь в области понимания – Что же так сильно проникло в существо человека? О чем наши переживания, что конкретно с нами происходит? Очень часто ощущения неприятные, часто приятные. Но главное, все эти ощущения находятся в эмоциональном спектре, а не рациональном.
Любопытно, что если бы мы сейчас увидели античные спектакли, то они могли бы показаться нам очень похожими на самые современные постановки театра наших дней. Они были довольно провокативны. Тогда у зрителей был дефицит эмоций. Далеко не все имели доступ к образованию, книгам, тем более путешествиям и даже хорошей еде. Зритель требовал хлеба и зрелищ. Зрелище было возможностью проживать новое. Трагедия, которая показывалась на сцене во многом учила народ ощущениям и чувствам. Не запрещая их проявлять даже со зрительских мест – кричать, плакать, вступать в споры. В те времена очень сильно был развит жанр комедии, в котором, кстати, сейчас наметился огромный кризис. Комедия тоже давала возможность публике высказываться, даже на самые острые темы. Тут мы можем вспомнить театр времен. У. Шекспира, когда в комедиях и трагедиях довольно остро показывалась несовершенность системы власти. И народ понимал, о ком речь на сцене, и живо реагировал.
С развитием общества – стал развиваться и театр, разделяясь на жанры – опера, балет, драматический театр, танцевальное драматическое искусство. Стали появляться системы. Системы К. Станиславского и А. Чехова в театре, С. Дягилева в балете. На рубеже XIX–XX веков начал появляться элемент контроля театров со стороны власти, это была еще не цензура, но власть уже следила, что и где ставят. О чем говорит публика после спектаклей. Если рассуждать о нашей стране, о развитии современного театра, то я бы назвал символистов одними из тех, кто стоял у истоков. Салоны З. Гиппиус и Д. Мережковского, выступление А. Белого и А. Блока очень походили на то, что бы сейчас назвали перформансом или моноспектаклем, на вечерах поэзии и читках всегда была своя драматургия, режиссура и концепция. Классический же театр начал получать форму после встречи К. Станиславского и В. Немировича-Данченко и создания их театра, который вырастит и главного оппозиционера этому театру впоследствии – В. Мейерхольда.
Как создается спектакль?
Чтобы разобраться, как чувствовать современный театр, можно обратиться к тому, как он создается, чтобы знать, откуда рождается замысел. Это сложный и многоступенчатый процесс, который требует слаженной работы всех цехов театра – режиссера, драматурга, художников, артистов, режиссера по пластике, музыкального оформителя, режиссера видеоряда, помощника режиссера, художника по гриму, костюмеров, реквизиторов, монтировщиков сцены. Всех!
Начнем с самого основного, что не меняется вот уже много лет. Если сухо, с математическим подходом, то поэтапное создание спектакля выглядит так.
1. Выбор и адаптация материала.
После выбора пьесы, или ее написания, важно проанализировать текст: какие сцены необходимы, а какие можно убрать, как адаптировать текст.
Можно ли пожертвовать какими-то фрагментами, а есть достаточно распространенный формат дописывания пьес, либо микширование разных пьес в одну. Может быть написано собственное сочинение по мотивам других пьес.
2. Идея и концепция.
Любой спектакль начинается с идеи, с режиссерского замысла. Важно определить: основную тему и идею постановки, стиль, жанр спектакля, главное послание зрителю. На этом этапе режиссер и драматург могут работать вместе, обсуждая, как донести мысль до публики. Режиссерский замысел должен привести к художественному единству все стороны создаваемого спектакля. Тандем режиссера и драматурга сейчас редко встретишь, по причине того, что очень многие режиссеры являются драматургами спектакля, в последние годы идет и обратный рост, когда драматурги стали ставить постановки.
3. Формирование творческой команды.
Важная часть. Многие режиссеры работают с одними и теми же профессионалами. В любом случае, в постановочную группу должны входить: режиссер, художник-постановщик, художник по костюмам, композитор, звукорежиссер, художник по свету. После подбора команды режиссер рассказывает участникам свою идею, они в свою очередь начинают приносить свои идеи, эскизы, музыку.
4. Застольный период.
Режиссер с артистами встречаются на первые читки. Здесь происходит читка материала по ролям, обсуждение, понимание идеи и замысла, разбор сцен. Потом, еще до выхода на сцену, артисты пробуют своих персонажей ногами, начинается поиск героя: его пластики, характера, мотивации.
Это важнейший период в постановке. Что будет, если халатно отнестись к этому периоду, можно было наблюдать на премьере спектакля «Чайка» в Александринском театре в 1896 году, при А.С. Суворине и А.П. Чехове, они оба не находились ни на показе костюмов, ни на встрече режиссера с артистами, в итоге это обернулось одним из самых громких провалов в истории. Интересно, что, например, в МДТ – Театре Европы, застольный период может длится год и даже больше. Там это называется – изучение романа. Аналогов такому долгому процессу обсуждения исходного материала, читкам по ролям, по фрагментам, друг другу, филологических материалов и исторической хроники о времени написания романа – нет.
5. Сценография.
Параллельно с репетициями создаются декорации, костюмы, реквизит. Все это создается и ищется по рисункам художников и отвечает общей концепции спектакля, замыслу режиссера и художника-постановщика.
Так как мы говорим о современном театре, то должны зафиксировать, что частично современный театр идет к абсолютному минимализму, и довольно часто мы наблюдаем постановки вообще без декораций, костюмов и с минимальным реквизитом.
6. Выпуск спектакля на сцене.
После застольных репетиций, начинается выпуск спектакля на сцене. После шеф-монтажа (это первая монтировка декораций спектакля на сцене) вся постановочная команда начинает собирать спектакль на сцене. Артисты осваивают декорационное пространство, приспосабливаются к нему. Параллельно проходят технически репетиции, написание света, звуковой партитуры. По итогу выпуска состоится предпоказ на «своего» зрителя. Обычно это художественный руководитель, руководство театра, коллеги и близкие. Это, по сути, финальный момент, когда можно собрать обратную связь, на флажке внести последние возможные корректировки в спектакль. Далее, наступает день премьеры.
Параллельно со всем выпуском, начиная с самого первого этапа, режиссер, художник и артисты вдохновляются всеми возможными материалами, которые могут быть около темы спектакля. Это мировое искусство, собственный жизненный и профессиональный опыт, документальные материалы. Отсюда и возникают метафоры, отсылки, цитаты на другие постановки, кино, картины, все что угодно, что вплетается в рисунок постановки. Размышляя о современном театре, возникает вопрос – а что может сделать сам театр, чтобы помочь зрителю понять спектакль. Например, на странице спектакля можно разместить материалы, которые вдохновляли режиссера и артистов: фильмы, музыка, события. Так же могут быть придуманы письма и дневники персонажей, через которые зритель может узнать многие детали. Можно придумать много подсказок, но, на мой взгляд, они тоже должны быть в концепции и стиле спектакля, а если такие вещи в концепцию и замысел режиссера не вписываются, то это лишнее. Еще надо понимать, что спектакль, как и современный театр в целом, – не просто искусство, а живой организм, реагирующий на вызовы времени.
Е. Вахтангов спрашивал: «Почему ˝Турандот˝ принимается?» И отвечал: «Потому что найдена гармония: Третья студия в 1922 году ставит сказку Гоцци». Евгений Багратионович говорил, что, если бы в том же 1922 году ему пришлось ставить «Турандот» не в Третьей студии МХТ, а, например, в Малом театре, он «поставил бы эту сказку иначе. Точно так же если ему придется ставить «Турандот» еще раз в Третьей студии, но через 20 лет, то замысел и форма спектакля окажутся совсем иными. «Режиссер, – говорил Е. Вахтангов, – обязан обладать чувством пьесы, чувством современности и чувством коллектива». Создание спектакля в сегодняшних реалиях требует не только знания традиционных основ, но и гибкости в использовании новых технологий, взаимодействия с аудиторией и понимания современных тенденций. В основе всегда стоит замысел, без которого ничего не родится, так было всегда и есть до сих пор. Из замысла будущего спектакля вырастают все его элементы. Конечно, было бы интересно узнать все этапы определения замысла режиссером, его мысли, придумки, отсылки, весь внутренний процесс, но с другой стороны, тогда мы бы сразу все знали и нечего было бы разгадывать и прочувствовать на спектакле.
В. Немирович-Данченко называл замысел «зерном» спектакля. В своих спектаклях он определял «зерно» так: во «Врагах» М. Горького словами: «Ни перед чем не останавливающаяся ненависть», в «Трех сестрах» – «тоска по лучшей жизни», в «Анне Карениной» – «всесокрушающая страсть», а в «Воскресении» – «воскресение падшей женщины». Рассказывая о работе над «Тремя сестрами», В. Немирович-Данченко говорил: «Приходилось все время повторять актерам: Давайте поговорим, что это такое – тоска по лучшей жизни? А когда поговорим и накопим подходящие мысли, то нужно потом каждый день, думать, думать, вдумываться в найденное. И только этим путем можно воспитать свое актерское восприятие зерна спектакля, диктующего зерно роли».
Специально для этой книги я решил поговорить с актрисой Санкт-Петербургского театра «Мастерская», Ариной Лыковой, о создании роли в целом и более подробно о внутренних моментах в процессе работы над спектаклем «Превращение», режиссера Романа Габриа.
– Арина, расскажи поэтапно свой метод работы над ролью, вообще в целом?
– Всегда все по-разному, в зависимости от режиссера, от спектакля и от персонажа, над которым мне предстоит работать. Но что я делаю всегда – читаю сама материал, текст, я знаю, что не все актеры это делают. Если это инсценировка по произведению, я стараюсь прочитать и то, и другое, читаю около информацию, историческую, про автора, эту работу я подробно проделываю. Смотрю и слушаю все, что меня может вдохновить, иногда просто интуитивно. Внимательно прислушиваюсь к режиссеру. Если это режиссер, с которым мы уже много раз выпускали, то я уже примерно представляю, как будет проходить работа, но если это новый человек, то я и прислушиваюсь и присматриваюсь к нему, чтобы понять, что от меня требуется, какова мера свободы, которая мне предоставляется. Понимаю, как мыслит человек, чтобы с ним соединиться, чтобы то, что я предлагаю не шло вразрез с общим замыслом режиссера. Если меня приглашают как артистку в спектакль, я все равно воспринимаю это как творческое волеизъявление режиссера, а себя воспринимаю как человека, который занимается сотворчеством, то есть я себя считаю автором своей роли, но не автором всего спектакля. Для меня это процесс сотворчества, я стараюсь не идти в разрез, а понять высказывания режиссера, соединиться с ним и, основываясь на этом, делать свое собственное. Это что касается работы в общем, над всеми ролями.
– Что ты делаешь в начале спектакля «Превращение»? Некоторые зрители просто будут чувствовать музыку и тебя, у них не возникнет вопросов, кто-то найдет отсылку, а кто-то не прочитает и не поймет. Как ты объясняешь для себя танец во время запуска зрителя? И какие в этой сцене есть отсылки и «пасхалки»?
– Вообще, режиссером был задан закон существования – перформанс. Рома Габриа всегда скидывает много сопутствующих материалов – теоретических, практических, чем вдохновляться, что изучать и читать. И тут мы многое изучали вокруг перформанса, литературу, которая посвящена ему, критику и смотрели много. В этом законе создавался спектакль. Вначале, во время запуска зрителей, я танцую на подиуме, выходящем в зрительный зал. Музыку из «Твин Пикса» принес Рома, он включил ее вначале просто для вдохновения, по-моему, уже на выпуске, за день до предпремьерного показа. Я просто вышла на подиум и стала танцевать, ничего специального не вкладывая. Танцевала в костюме, стала импровизировать, соединяясь с музыкой, потому что мне она нравится, и «Твин Пикс» и Линч. Это тогда привлекло внимание и Ромы и всех, но потом был показ на зрителя и Рома сказал: «Давай мы это уберем, потому что это будет людей сразу настраивать на то, что будет происходить абсурд, сразу будет атмосферу задавать». А я сказала, что, во‐первых, это музыка сама по себе создает атмосферу, комната-декорация тоже, и что в данном случае я ее не нарушаю, а дополняю. И потом, мне это очень помогает переходить в состояние, другое, не бытовое, состояние исследования. И тогда Рома сказал, что да, я права, давай оставим. И еще я сказала – у меня такой крутой костюм, а я выхожу в нем два раза, пусть люди рассмотрят. И это сработало. Но это сложно, там двадцать пять минут, я танцую этими микродвижениями. Я еще придумала себе систему, чтобы пластика не повторялась. Еще я вкладываю, об этом никто не знает, пересказ сюжета и каждого персонажа, в этом танце. В общем, там у меня своя система, которую я каждый раз проверяю, и я очень рада, что у меня есть такая возможность.
– Что было в самом начале работы над ролью? Как возникала вся линия твоего персонажа и всех твоих появлений на сцене?
– В самом начале я работала над другой ролью, я была сестрой. Я создавала ее образ, пластику, настроение, сюжет, развитие героя, и потом мы поменялись ролями с Машей Русских, и мне досталась роль домработницы. Времени до премьеры было уже меньше, поэтому, можно сказать, что домработница – сплошной перформанс, я фактически впрыгнула в нее. Но кроме домработницы, вся моя линия – кусок экскурсовода, потом сцена, где я медитирую, и потом моя линия во втором акте, это без специальной подготовки перформанс. Когда ты ставишь себе задачу и проверяешь ее собой. Например, экскурсовода в принципе не должно было быть, как-то на репетиции возник музей Грегора Замзы, Рома попросил меня написать текст к этому музею. Так возник сопроводительный аудио гид-манифест. А потом кто-то сказал, что людям будет непонятно, и я предложила рассказывать и пояснять. В первый показ на зрителя придумали, что я буду приглашать зрителей на сцену. Кто-то даже сказал, что никто не выйдет, но мы проверили, и на сцену вышел почти весь зал. Потом мы уже разделили людей по группам. Так родился экскурсовод. А что касается сцены омовения во втором акте, которая для меня очень важна. Это интересно, потому что уже за какое-то небольшое время до премьеры, Рома предложил мне в прямом смысле слова помыть Илью, как беспомощного человека, у которого уже не работают руки и ноги. Сделать это не торопясь, просто реально помыть человека. И мы сделали эту пробу, и Рома сказал, что так и оставим. Наверное, это одно из самых интересных актерских исследований. Потому что когда у тебя много разных работ, жанров, персонажей, все равно есть уже навык, свои способы воздействия на зрителя. А здесь я каждый раз прямо проверяю. Ведь я не понимала, как это будет воспринимать зритель, возможно, он будет злиться, это будет вызывать гнев, кто-то будет уходить, что-то комментировать. И я поняла, что мне нужно будет в этот момент концентрироваться и просто выполнять свою задачу. И я ничего специально не играю, то есть, я остаюсь максимально нейтральным человеком, который выполняет необходимую задачу, не добавляя ничего, не используя какие-то средства, которые у меня наработаны. И это интересно исследовать – ничего не играть на сцене. И каждый раз, когда приходят мысли: «А вдруг, кому-то, как-то, целый же зал», – эти мысли растворять. Это своеобразная актерская медитация. И для этого я специально придумала сцену с медитацией в первом акте. Я готовлюсь ко второму акту, я выхожу и сажусь, в течении долгой сцены, по-настоящему проверять медитацию, когда ты сидишь на сцене, на виду у людей, хотя я там сижу в сторонке, мы договорились меня не подсвечивать. И вот ты полностью останавливаешь движение мыслей и погружаешься в себя. Это интересный способ и, опять же, для меня оказалось интересным исследованием. А перформанс, когда люди выходят ко мне на сцену и помогают убираться, это вообще случайность. Был предпоказ на своего зрителя, а сцена ко времени антракта очень грязная, и я одна убирала ее около сорока минут, потом еще в течении часа намывала Илью. И когда я вышла уже на премьере, мне в голову просто пришла мысль сократить эту часть с уборкой, и мне в перчатках действительно было не открыть мусорный пакет, сначала я попросила женщину помочь, и когда она отозвалась, я подумала – а почему бы не попросить людей в принципе мне помогать. Ведь тогда мы значительно сократим эту часть уборки и у зрителя будет возможность более подробно погрузиться в часть с омовением во втором акте. И оно сработало. Я знаю, что некоторые зрители думают, что это подсадные люди, но это не так. И я им очень благодарна, потому что это тяжелый физический труд. А потом еще так тяжело таскать и омывать Илью, а люди мне так помогают и поддерживают перед этим. И вообще так приятно объединяться с людьми, они что-то спрашивают, я им отвечаю, мы наводим порядок на сцене, и действие при этом не останавливается.
– Что было самым сложным в работе над этим спектаклем?
– Что было сложным, я не могу ответить, потому что я настолько люблю театр и все, что с ним связано, что у меня язык не повернется сказать, что мне сложно. И потом, я знаю, что так принято говорить – творческие муки и это считается ценным, что человек мучается при создании чего-либо. Но я не буду набивать себе цену, я не испытываю творческих мук никогда, я вообще к себе отношусь очень хорошо и ценю то, что делаю. Даже когда, возможно, что-то не получается, если критикует большое количество людей, для меня все равно все это имеет ценность. У меня, видимо, какая-то другая движущая сила, она не от критики. Поэтому, мне не было сложно, для меня всегда это любознательный, непредсказуемый и интересный процесс. Я получаю удовольствие. Иногда, правда, мне бывает лень, но это связано больше с загруженностью, нежели с тем, что мне просто не хочется репетировать. А так, репетиция – это любовь моя! И создание образа, и работа над новым спектаклем, последние две недели перед выпуском – один из самых кайфовых периодов жизни. Я прямо перестраиваюсь в другое совершенно ощущение. Для меня это действо, таинство.
– Как зрителю чувствовать современный театр?
– Я уж за зрителя не могу сказать, и я не тот человек, который будет устанавливать правила, относительного этого. Но я думаю, что это ответственность каждого человека, а теоретически это более обученные люди объяснят, как воспринимать театр, как смотреть театр. Я, кстати, люблю читать или смотреть какую-то теорию, критиков, и я тоже это воспринимаю как произведение искусства, о том, как слушать сложную музыку, или как воспринимать какую-то непонятную живопись. И часто для меня это становится ключом к пониманию. Но вот сама я не знаю, как это делать. Могу сказать, как это делаю я – с большим любопытством. Но все равно ориентируюсь на свой вкус, бывает что-то современное мне не понятное, но мне нравится, бывает что-то мне понятное, но что мне не нравится. Я думаю, что в целом искусство надо воспринимать собой, а дальше кто и что оттуда берет и выносит, зависит от того, как человек в принципе воспринимает мир. Нет такого отдельного восприятия для искусства, мол, мир я чувствую так, а театр и искусство я воспринимаю так. И это желание каждого человека – чем больше хочется понять, извлечь и постигнуть суть вещей, тем шире, спокойнее и любознательнее мы всматриваемся в окружающую действительность, наблюдая за собой, почему то или иное явление искусства вызывает у нас определенные чувства, эмоции и размышления. Это же интересно, не обязательно обвинять искусство в том, что оно нам не угодило. Можно понаблюдать за собой. Но кому-то важно и поругать, и позапрещать, и поотрицать, но таков путь, видимо так, но это не мой путь. Я думаю, что все надо с любопытством, с любознательностью и любовью познавать и воспринимать, а чувствовать уж тем более.
Мне показалось, что Арина дала очень классную формулировку про любовь и любознательность. Но на самом деле, мы встречаемся, наоборот с довольно дотошным, недоверчивым, требовательным, часто не комплиментарным отношением к современному театру. К нему существует огромное число претензий со стороны зрителей, все мы рассмотреть не сможем, но основные выделим. Во многом часть этих претензий искусственно спровоцированы самими зрителями, которые идут в театр сразу с предубеждениями. И находятся сугубо в рациональном поле.











