Читать онлайн Безумные воскресные дни
- Автор: Валерий Лонской
- Жанр: Современная русская литература, Юмор
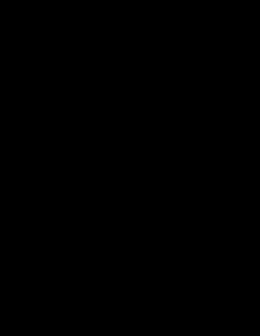
© Лонской В. Я., 2017
© ООО «БОСЛЕН», издание на русском языке, оформление, 2017
Девушка, которую я придумал, и другие лица
(Записки Андрея П.)
История «ретро»
Эти записки я нашел возле мусорного контейнера во дворе, когда выгуливал собаку, и мой пес, привлеченный каким-то лакомым запахом, в очередной раз застрял на одном месте, обнюхивая траву поблизости.
Это были две толстые тетради в коленкоровом переплете, перевязанные бечевкой. На обложке верхней тетради была наклеена бумажка с надписью «Нужно. Не выбрасывать». И тем не менее тетради выбросили. «Может быть, там изложено действительно нечто нужное, – подумал я, и в куче мусора они оказались в силу чьей-то небрежности…» Я взял тетради, развязал бечевку, заглянул в первую, надеясь найти там какие-либо сведения о хозяине; прочитал страницу, другую и, не в силах оторваться, отправился домой и прочел всё до конца.
Судя по всему, записки были написаны давно – лет пять-десять назад, а может, и более того. С какой целью автор писал их – неизвестно. Та, другая жизнь, без мобильников, айпедов, айфонов, без цветного телевидения с сотнями программ, без роботов, дронов, коллайдеров и прочих подарков прогресса, вставала со страниц, уже далекая, в чем-то непонятная, и то, о чем рассказывал автор, было, несомненно, интересно. Надеюсь, и читатель найдет в этих записках нечто привлекательное, созвучное своим мыслям и чувствам, ведь люди так похожи – что мы, что те, которые жили до нас.
Издатель
Запись первая
Передо мной лист бумаги. Я рисую, сидя за письменным столом. Перо авторучки скользит по белой простыне листа, фиксируя то, что подсказывает воображение… Некий образ, который пока еще смутно мерцает в сознании… Вот появляется тонкий девичий профиль, завиток волос поверх лба… Затем линия устремляется вниз, образуя изгиб спины, и переходит в тонкую талию… Завершают всё это стройные девичьи ножки в туфлях на шпильках… Неплохо получилось, хотя, признаюсь, художник я не ахти какой!
Я смотрю на рисунок… Постепенно пространство внутри линий сгущается, наподобие тумана; фигура обретает форму, цвет, плоть, и девушка, став реальностью, начинает двигаться.
Вот она забегает в подъезд. Легко перескакивая со ступеньки на ступеньку, поднимается на свой этаж. Останавливается у своей квартиры и, напевая модную песенку, долго ищет в сумочке ключ.
Стоит мне только пожелать, и эта девушка исчезнет, словно ее и не было вовсе… Я могу запереть ее в темнице, сделать узницей или поселить в рыбацкой хижине на берегу моря, где она будет плавать по утрам. Могу отправить ее в изнуренную зноем степь – туда, где наперегонки с ветром, поднимая пыль, носятся конские табуны, а по вечерам возле юрт сидят на земле, посасывая свои трубки, раскосые киргизы-чабаны в мохнатых шапках… Я могу сделать ее юной красавицей, типа Бэлы из «Записок Печорина», или превратить в Софью, сестру царя Петра Первого, желчную ослушницу, с болезненно оплывшим лицом и маленькими пронзительными глазками, в которых темными кругами ходит неутоленная жажда власти. Одно мое желание – и эта девушка выбежит на эстрадные подмостки развязной ресторанной певичкой… или превратится в застенчивую лаборантку из какого-нибудь НИИ, которая любит классическую музыку и читает перед сном толстые романы, повествующие о большой и сильной любви… Я могу оборвать ее жизнь в самом расцвете молодых сил, обратить в горсть пыли наподобие той, что остается в ладони от размятого кома земли… Или, взяв за руку, довести ее до зрелых лет, действуя подобно опытному, расчетливому капитану, который, одолев все трудности долгого и мучительного плавания, приводит в родную гавань свой потрепанный, но устоявший под натиском многочисленных бурь корабль. Да-да, не удивляйтесь! С этой девушкой я могу поступить так, как пожелаю, потому что я ее придумал.
Каждое мгновение на Земле люди сливаются в поцелуях (только не спешите обвинять меня в сентиментальности!) – планета огромна, и в разных ее уголках проживают влюбленные. Их бесчисленное множество. Целое многоязычное племя, оккупирующее по вечерам улицы, тихие парки и укромные места по берегам рек и озёр. Ах, влюбленные! Они теряют головы и замечают это слишком поздно; летают счастливые во сне без каких бы то ни было летательных аппаратов; совершают необдуманные поступки, которые порою могут стоить им жизни; от избытка чувств часто грызут травинки, поглощая их в таком количестве, что последних с избытком хватило бы на несколько отар овец; а расставшись под утро, добираются до дома на попутных поливочных машинах или фургонах, развозящих по магазинам свежий теплый хлеб, – по крайней мере, подобное происходит в нашем городе.
А вот я, признаюсь вам, один. У меня нет той, с кем бы я мог бродить по улицам и любоваться звездами в ночном небе. При этом я не Квазимодо какой-нибудь, не калека… Просто так складываются обстоятельства. Девчонки, которые мне нравятся, почему-то предпочитают других. Если они и «теряют» головы, пораженные любовным недугом, то где-то на стороне, при мне же их очаровательные головки сидят на плечах так крепко, что даже автоматическая пила не поможет…
В моем подъезде на одном этаже со мной живет Настя, взбалмошная девица с карими глазами и торжественной, как у именинницы, улыбкой. Когда нам было около пяти лет, мы дружили и даже целовались, отчего она радостно попискивала, ощущая себя взрослой. Она и теперь целуется, но уже по-настоящему. И не со мной! А с высоким плечистым парнем, у которого мощный, как у быка, загривок и глаза человека, читающего всякую детективную муть вместо книжек, написанных серьезными парнями вроде Хемингуэя или Ремарка, от которых кайфует всякий московский чувак, имеющий больше трех извилин в голове…
Так вот об этой паре. Когда поздно вечером я возвращаюсь домой, то часто встречаю их на лестнице. Они стоят в обнимку между этажами у стрельчатого, с высокими сводами окна, уходящего тоннелем в темноту двора. Их головы и плечи покрыты тусклой позолотой, струящейся с потолка, где в наворотах паутины прижилась, словно экзотический звереныш, покрытая многолетней пылью лампочка мощностью в шестьдесят свечей.
Раньше при моем появлении Настя и ее парень резко отстранялись друг от друга и так сосредоточенно глядели вниз, словно пол у них под ногами был выложен не стертой от времени керамической плиткой, а состоял из живописной мозаики, наподобие той, что была обнаружена при раскопках древних Помпей. Теперь они перестали меня стесняться и, не прерывая объятий, бросают мне короткое «Привет!», что означает: ничего нового ты здесь не увидишь, следовательно, не тормози, а топай своим путем.
Меня, признаюсь, это нисколько не обижает. Соединенные узами любви, в минуты расставания они не желают тратить время на постороннюю ерунду. В эти мгновения Настин верзила мне уже не кажется беспросветным тупицей. Счастливые черти! Я им завидую. Как завидовал и тем другим, кто обнимался здесь до них. Ведь на этой площадке, у окна, уходящего тоннелем в звездное небо, перецеловалась в разное время вся молодежь из нашего дома…
Кстати, об этом стрельчатом окне между этажей. Если подойти к нему в дневное время и выглянуть во двор, то можно увидеть старый трехэтажный дом из почерневшего от времени кирпича, возвышающийся за деревьями в конце двора. Он вплывает в узкий переулок, точно древняя, иссеченная ветрами баржа. В этом доме живет Анюта – легкомысленное существо семнадцати лет, в котором удивительным образом сочетаются девичья наивность и умение хитрить, присущее зрелым женщинам… Я уже несколько месяцев влюблен в нее, а она мне лишь морочит голову. Возле нее крутится Мишка Водолазов, мой ровесник, по прозвищу Водолаз, сын вдовой школьной уборщицы, приземистый мускулистый обормот с маленькими, как у змеи, глубоко посаженными глазами. Ходит он вечно в сопровождении двух дружков, таких же болванов, как и он. Про эту троицу можно сказать, что у них один ум на троих. Анюта и Мишку водит за нос. Для своих интриг против Мишки она старается использовать меня: то вдруг предложит мне сходить с нею в кино на вечерний сеанс, то позовет прогуляться до Покровки и обратно – и всё это в присутствии Водолаза, ему назло.
А вчера на глазах у Мишки велела взять себя под руку – у того только зубы клацнули, словно створки портсигара! – и нарочито громко заявила нежным обволакивающим голоском, что желает, чтобы я сводил ее вечером в кафе-мороженое. Я, конечно, не возражал, рад был выше крыши, и мы пошли туда, куда она хотела.
Водолаз мужественно снес эту сцену, но на лице его появилась гримаса, словно ему сунули за шиворот мертвую мышь…
Уже потом в кафе, склонившись над вазочкой с мороженым и слизывая розовым язычком с ложечки пломбир, Анюта заявила с невинным выражением, что ни я, ни Водолаз не герои ее романа, и что мы оба ужасно смешные. Обидно было слышать это.
Ночью я долго не мог уснуть, ворочался с боку на бок. Из окна, в щель между штор, прямо в глаза мне назойливо светила луна, будоража мое сознание неясной тревогой. А мне было лень подняться и задернуть штору…
Передо мной лист бумаги, а на нем девушка, которую я нарисовал. Она идет в пространстве листа справа налево.
На улице монотонно шуршит дождь. Он шелестит с самого утра то усиливаясь, то ослабевая. Тренькают стёкла от ударов капель, бренчит железо карнизов, шуршит мокрая листва. Булькают водные потоки, летящие из водосточных труб.
Я распахиваю окно, ложусь грудью на подоконник. Лицо обдает свежестью, мелкие брызги долетают до щек и вонзаются в них острыми крупинками, когда вдруг ветер меняет направление.
Внизу под моим окном газетный киоск. Возле него топчется щуплая девчушка, похожая сверху на сжавшегося от дождя воробья. У нее нет зонта, и она вся во власти стихии. Дождь потрепал ее, промочил одежду, но она не ушла, не скрылась в парадном. Ежась от холода, она пританцовывает возле киоска и кого-то ждет. В руках у нее букет цветов. Букет этот весьма необычный: из множества крупных темно-красных гвоздик выстреливает одинокий стебель гладиолуса, утыканный иссиня-черными цветами. Он словно Отелло в толпе венецианцев. Девчушка утирает мокрое личико ладонью и в который уже раз оглядывается по сторонам, все еще надеясь, что тот, кого она ждет, вот-вот появится перед ней. Но, увы, вокруг только потоки дождя (ей кажется, он никогда не кончится) и зыбкие фигуры прохожих, летящие мимо с разноцветными зонтами в руках.
А вдруг эта вымокшая под дождем девчонка ждет меня? А я сижу тут, у себя в комнате, и не догадываюсь об этом… Чепуха! На кой ляд я ей сдался? Разве что она попросит у меня монету для телефона-автомата… А если всё же спуститься вниз и заговорить с нею?.. У меня как-то не ладятся разговоры с незнакомками. Когда они смотрят мне в глаза, я превращаюсь в заику… Вероятно, эта девчонка ждет своего чувака, в которого влюблена по уши, и не захочет болтать со мною. В лучшем случае отделается вежливыми фразами: спасибо, мол, за интерес к моей персоне, но… но…
Но где-то же должна быть девушка, созданная для меня? Которой нужен я и никто другой… Интересно, в каком городе она живет? В Москве? В Риге? А может, в Буэнос-Айресе? Забралась в такую даль!
Возможно, она ещё не родилась? Или, что еще печальнее, умерла задолго до моего рождения? Бывает же так, что люди всю жизнь ищут свою половинку, но так и не находят ее… Хочется верить, что та, которая предназначена мне, живет сегодня, сейчас… Интересно, как она выглядит? Какие у нее волосы? Длинные светло-золотистого цвета, словно ковыль по осени, или темные-темные, будто отголоски ночи, с искорками блеска в них?.. А глаза? Жадные зеленые, вобравшие в себя цвет малахита, или печально-серые, как тени на морской воде?..
А что если… Я сам создам эту девушку! Сотворю ее из слов и фантазии… Сочиню ее внутренний мир и всё прочее… Почему бы нет? Сотворил же Пигмалион для себя Галатею… Быть может, его мучила та же проблема… И пусть она всякий раз будет разной, эта девушка – мое творение. Да, да! Если мне перестанут нравиться ее карие глаза, пусть в одночасье они станут зелеными… А если начнут раздражать ее темные волосы, пусть они обретут каштановый цвет!
Это все, конечно, мило, но вот вопрос: как эта девушка сама будет относиться к метаморфозам? Они могут ей не понравиться. Вероятнее всего, так и будет. Впрочем, это неважно! Она выдумка, существо, порожденное фантазией, и ей придется повиноваться. Итак…
…перво-наперво я останавливаю дождь, убираю тучи, сбрасываю их, подобно одеялу с постели… Выхожу на улицу, ставшую в лучах солнца многолюдной. Свет озаряет ее, точно театральные подмостки. Засияли вывески магазинов, кафе. Стали ярче наряды женщин, зелень цветущих лип.
И вот Она – мое творение! – идет мне навстречу. С озабоченным видом проходит мимо меня.
– Девушка! – окликаю я ее. – Скажите, как пройти к бульвару?
– Это в другую сторону…
– Бог мой! – восклицаю я. – Это Вы?! Как поживаете?
Девушка устремляет на меня взгляд, полный непонимания.
– Спасибо, нормально… Но вы меня с кем-то спутали…
– Нет-нет! У вас такая приметная внешность, и вас невозможно с кем-либо спутать! – отвечаю я бойко, как заправский покоритель женских сердец. – Помните, мы сидели рядом в кино, а потом вы куда-то спешили…
– Разве?
– Еще фильм был такой интересный, «Утраченные грёзы». Моряк бросает девушку, и та страдает…
– Я не видела эту картину… – Девушка растеряна.
– Значит, это был другой фильм!
Наконец, девушка сообразила, что я валяю дурака, и цель моя – познакомиться с нею. Лицо ее принимает строгое выражение.
– Извините, но я не знакомлюсь на улице…
– И это правильно! – соглашаюсь я. – Но мы-то с вами познакомились в кинотеатре!
Девушка обходит меня и решительно направляется дальше по своему маршруту. Еще немного и она исчезнет в толпе.
Я бросаюсь за нею. Отталкиваю прохожих, возникающих на пути, не обращая внимания на ругань и рассерженные слова, летящие мне вслед.
И вот я догнал ее и иду, пристроившись рядом, несу всякий вздор, который приходит в голову. Но все мои попытки разговорить ее не имеют успеха.
День постепенно вянет, будто цветок, долго стоявший в вазе, жизнь скоро кончится. Еще немного, и со стебля отлетят последние лепестки, падение которых знаменует конец. Тут же обороты наберут сумерки, сминая последние пятна закатных красок… Город, потемнев лицом, как несчастный, потерявший умершего родственника, замедлит на некоторое время свой ход. Но потом оправится, зашумит, засверкает множеством вечерних огней, хранящих в себе частицу дневного света, и огни эти будут светиться в окнах и снаружи на фонарях и рекламах, напоминая нам об ушедшем дне, наполнявшем нас энергией и силой.
А девушка идет по улице, стараясь не смотреть в мою сторону. Мне надоела собственная болтовня, не имеющая успеха, но я не в силах остановиться. Мне нужна победа.
– Послушайте, как там вас… Света? Лена? Вы, когда убегали от меня, потеряли дар речи?
Девушка замедляет шаг.
– Как остроумно! – На лице ее появляется брезгливая гримаса. – Если у вас недержание речи, позвоните одному из своих приятелей и развлекайте его своими унылыми шутками!
– Увы, это будет непросто! – заявляю я. – Во-первых, минут через пять меня попросят из телефонной будки – всегда найдется тот, кому срочно нужно куда-то позвонить… Во-вторых, никто из моих приятелей не знает вашего имени, а без этого разговор будет хромать!
– Если дело только в этом… Меня зовут Марина, можете сообщить это своим приятелям!
– С превеликой радостью!.. Марина – чудесное имя! Большие поэты посвятили Маринам немало вдохновенных строк. Но сегодня, мне кажется, оно не в моде…
– Я рада. Быть может, это остановит вас, и вы не будете меня преследовать…
– Буду!
Я решительно встаю у нее на пути.
– Если я вас отпущу, то никогда себе этого не прощу! Дайте мне номер вашего телефона, и вы свободны!
Какой я решительный, жуть! Учитесь, нерешительные чуваки, как надо кадрить девчонок!
– Я живу без телефона! – заявляет Марина. Она явно хитрит.
– А как же вы общаетесь с подругами?
– С помощью телепатии!
Отлично! Все идет как по нотам. Можно, конечно, сделать так, чтобы она сразу пошла на контакт. Но это слишком просто. Сопротивление более привлекательно, чем быстрое и тупое согласие. По крайней мере, так я думаю.
– Боже мой, как вы мне надоели! – восклицает Марина. Голос её дрожит, а сама она напоминает рассерженную учительницу, которую достал нерадивый ученик. – Отстаньте от меня, наконец!
Стоп, стоп, стоп! Это перебор. Лошади потянули не в ту сторону. Так мы никогда не познакомимся. Разойдемся в разные стороны, и – привет!
– Послушайте… – Марина несколько смягчается. – Мне кажется, вам следует поискать другую девушку. Посмотрите, сколько их вокруг…
– Мне нужны именно вы! Мне кажется, мы с вами созданы друг для друга!
– А это уже пошло!
– Ну вот… С каких это пор желание Тристана быть вместе с Изольдой стало пошлым?
– С тех самых, как вы решили объявить себя Тристаном!
– О! А вы профессионально огрызаетесь!
– А вы профессионально загрызаете!
– Ну что вы! Я человек мирный. В некотором смысле даже застенчивый…
– Тогда дайте мне пройти…
– Не уходите, прошу вас!
– Всё, разговор окончен. До свидания!
– Отлично! «До свидания» – значит до нового свидания. Где же оно состоится, наше новое свидание?.. Вы знаете, здесь поблизости есть чудесное место – на Чистопрудном бульваре, возле памятника Грибоедову.
– Вы устанете ждать.
– Я? Никогда!
– Тем лучше. Прощайте.
Стоп, стоп, дорогая моя! Мы опять идем не туда. Оставим препирательства. Всё равно последнее слово будет за мной. В противном случае я разорву все написанное выше, и мы больше никогда не встретимся. И наша история не состоится. А мне бы этого не хотелось.
На моем столе лежит несколько чистых тетрадей, на страницах которых можно построить улицы, города; прорыть каналы, соединяющие реки; решительным движением руки распахнуть занавес в театре, поднять в небо воздушный шар, выстрелить на охоте в летящую утку, забить в футбольном матче гол в ворота под радостный гул трибун, совершить путешествие на яхте по океану, накормить голодающих детей в центральной Африке, примирить протестантов и католиков в Белфасте, воскресить Чехова и Хемингуэя, поцеловать руку живой Джоконде, открыть залежи нефти под фонтаном в центре ГУМа, овладеть скоростью света и… сочинить наши с тобою отношения, милая Марина.
Я хотел бы о многом тебе рассказать, и, надеюсь, ты сумеешь понять меня… Ты же не Анюта, которой все по барабану, кроме собственных глупостей. Ты мне нужна, понимаешь?
Марина поглядывает на меня с некоторым напряжением, затем выражение ее лица смягчается, и на смену отчуждению приходит нерешительная улыбка. Эта улыбка преображает ее. Сейчас в ее лице есть что-то, напоминающее Анюту… К чёрту Анюту!
– Если не возражаешь, я мог бы проводить тебя до дома… – предлагаю я ей, довольный тем, что она сменила гнев на милость. – Время позднее… Где ты живешь?
– На Покровке…
– Как интересно! И я живу там же.
Мне хочется взять ее под руку, как это иногда бывает, когда мы гуляем с Анютой, но я сдерживаю себя.
Ветер лениво перекатывает по асфальту облетевшие до срока листья – эти первенцы увядания природы, которым не суждено дожить до осеннего буйства красок и первых морозов.
Окна домов, вобравшие в свои прямоугольники зажженные люстры, отдельные части мебели, видимые снаружи, живописные картины и семейные фотографии в рамочках на стенах, фигуры людей по пояс – всё это громоздиться в замысловатых композициях снизу вверх, повествуя об освоении человеком пространства и его желании подняться как можно выше.
Если посмотреть на город из самолета, пролетающего на большой высоте, пейзаж значительно меняется: огни уменьшаются до размера золотых песчинок, и глядящему из иллюминатора вниз кажется, что кто-то рассыпал по земле несметные сокровища…
В переулках, по которым мы идем, малолюдно и тихо. С наступлением темноты городские жители, оставив привычные места, слетаются, подобно мотылькам, на яркие огни центра, где бурлит развеселая вечерняя жизнь.
У подъезда старого кирпичного дома стоят трое парней. Они навеселе – выпили, вероятно, ни одну бутылку портвейна (одна стоит у них под ногами), но настроены мирно: дышат вечерним воздухом, внимая звукам гитары, на которой играет один из них, сопровождая свое хрипловатое в блатной манере пение:
- Громко лаяли собаки
- В затухающую даль,
- Я явился к вам во фраке —
- Элегантный, как рояль…
Гитарист, судя по всему, в этой компании главный. У него жилистая шея и голова, напоминающая по форме дыню. Руки в наколках. На нем свитер, надетый на голое тело. С затуманенным взором он покачивается в такт музыки – вверх-вниз, вверх-вниз, будто восседает на козлах скачущей повозки. Приятели подпевают ему:
- Вы лежали на диване
- Двадцати неполных лет,
- Молча, я сжимал в кармане
- Ах, леденящий пистолет!..
Когда звучат слова о той, что лежит на диване, один из парней делает выразительный жест, указывая куда-то в сторону большим пальцем, словно там, за углом дома, где-то поблизости и возлежит среди диванных подушек воспеваемая ими особа женского пола.
Мы проходим мимо парней. Их взоры устремлены на нас. Гитарист, переполненный чувствами, которые вызвала в нем песня и особенно её роковой финал, где герой, застрелившись, «лежал к дверям ногами» (но по-прежнему «элегантный, как рояль»!), скорбно вздохнул, обнажив кривые, украшенные золотой коронкой зубы. Один из его дружков, с рыжей челкой и недобрым прищуром, какой обычно бывает у хоккейного хулигана, когда он караулит у борта чересчур шустрого соперника, чтобы врезать тому кулаком в лицо, подкинул вверх спичечный коробок и с хрустом сжал его в ладони.
Марина хватается за мой локоть. Ее напряжение передается и мне.
– Клёвая чувиха, скажи, Колян? – изрекает парняга с рыжей челкой, оглядев Марину и обращаясь к гитаристу, будто желая спросить: что будем делать? попугаем голубков или как?
Гитарист настроен благодушно. К тому же образ особы, из-за которой застрелился герой песни, всё ещё маячит у него перед глазами.
– Ноги не того… – заявляет он, снижая оценку, данную Марине его приятелем.
– Точно, – соглашается с ним третий. – Лягушачьи ноги!
«Ноги лягушачьи?! – возмутился я про себя. – Это у кого! У моей-то девушки?! Понимали бы что! У вас от портвейна мозги совсем переклинило! Ладно… Если вам не нравятся ее ноги, пусть они станут такими, какие вам больше по душе!»
После этого моего заклинания Марина вдруг покачнулась, точно пьяная, и остановилась, нелепо расставив ступни. Тело ее раздулось, словно надувная резиновая игрушка, икры на ногах увеличились до размеров среднего арбуза, а зад стал шире раза в два… О, Боже! Ну и вкус у этих болванов!
Я оглянулся, желая увидеть реакцию парней. Лица у всех троих вытянулись от потрясения. А парняга с рыжей челкой так разинул свой рот, что, казалось, еще немного и оттуда, как из дупла, высунется не менее удивленный дятел.
В следующую минуту потрясение сменилось общим восторгом. Все трое застонали, зацокали языками.
Вот и радуйтесь, алкаши!.. А мы пойдем дальше. Я взял Марину за руку – она стала прежней, изящной и тонконогой, и мы продолжили свой путь.
– Ни хрена себе! – выдохнула хором обалдевшая троица, а гитарист даже выронил инструмент из рук. Гитара упала на асфальт, струнами вниз, брызнув при ударе о землю коротким высоким звуком.
Я, не в силах сдержать себя, громко засмеялся. На лице Марины недоумение. Еще бы, она и не догадывается о метаморфозах!
– Колян! – парняга с рыжей челкой повернул голову к гитаристу. – Ты что-нибудь понял?
Гитарист некоторое время пребывал в задумчивости, пытаясь связать в своей нетрезвой голове концы с концами.
– Может, Зойка нам какой-либо гадости в портвейн подмешала? – высказал предположение он.
– В это пойло? Куда уж больше! – отозвался третий, вспомнив мерзостный вкус портвейна, который им пришлось сегодня пить за неимением денег на водку.
– Братва! – дернулся парняга с рыжей челкой. – Не нравится мне этот гвоздь! – заявил он, имея в виду меня. – Может, погнём его малость? – И крикнул, обращаясь ко мне: – Эй, ты, Кио сраный, стой! Дай закурить!
– А леденцов не хочешь? – вызывающе поинтересовался я в ответ, продолжая свой путь.
И тут они встрепенулись, словно три голубя, которых неожиданно вспугнула кошка, и двинулись за нами, быстро набирая ход. Затем сорвались с места и побежали – уж так им не терпелось вцепиться в меня!
Я решил остудить их воинственный пыл.
Из-под арки дома наперерез бегущим с грохотом выкатилась металлическая бочка из-под краски. Рыжий на полном ходу врезался в нее и, взмахнув руками, словно хотел отбить волейбольный мяч, полетел на мостовую. Гитарист споткнулся об него и упал на асфальт, смешно раскинув ноги в кедах. Третий хотел было перепрыгнуть через обоих, но зацепился ногой за рыжего, и рухнул, как подкошенный, с хрустом давя гитару.
А я потянул Марину за руку, и мы удалились в сторону бульвара.
– Надеюсь, теперь у них пропала охота бежать за нами!
– А этот с рыжей челкой, – сказала она, когда мы отошли далеко, – смешной… Он похож на циркового клоуна.
– Скорее, он похож на тупицу!
На бульваре в темном переплетении ветвей светились фонари, тускло серебря листву. Из темноты выплывали гуляющие пары и, рельефно обозначившись в свете фонаря, уплывали обратно в темноту. Звучал чей-то беззаботный смех. Мужской и женский. Так смеются только в молодости, когда верится, что впереди долгая и счастливая жизнь.
– Смех счастливых людей! – заметила Марина, словно догадавшись, о чем я подумал. – Эти двое убеждены, что мир принадлежит им, и уверенны, что они сделают то, чего не смогли сделать до них другие… – Она замедлила шаг и, повернувшись ко мне, вдруг спросила: – А ты?.. Чего бы ты хотел сделать в этой жизни? У тебя есть цель?
Я пожал плечами. Честно говоря, до этой минуты я не задумывался о таких вещах. Но выглядеть дебилом мне не хотелось, и я стал придумывать на ходу:
– Не знаю… Наверное, хотелось бы слетать в другую галактику, где есть похожая жизнь… Или написать книгу, которую прочтут миллионы… К примеру, как Библию!
– Написать книгу, которую прочтут миллионы людей?! Эк куда хватил!
– А чего мелочиться?
– Расскажи о себе, – сказала она. – Чем ты занимаешься? Работаешь или учишься?
– Работаю. Тружусь в одной конторе. Останавливаю мгновения. Превращаю обычных граждан в неподвижные реликты! По одному, парами или небольшими группами – кто как пожелает… Можно с улыбкой на лице или со строгим выражением. Как кому нравится.
Марина морщит лоб, мучительно соображая, что же у меня за работа такая.
– Ты рисуешь?.. – обрадовалась она своей догадке. – Ты художник?
– Тепло, тепло! Думай! – заявляю я. – Все гораздо проще. Я фотограф… Работаю в фотоателье на Сретенке. Фиксирую мгновения на фотопленку. Помнишь, у Гёте: «Остановись, мгновенье!..» Впрочем, оно не всегда прекрасно, как сказано у Гёте. Чаще наоборот. Персонажи по большей части приходят заурядные… В глазах – вечная тоска по ширпотребу! Но, с другой стороны, не всем же бегать в романтиках, кто-то должен им быть противовесом… Зло уравновешивает добро и наоборот… Одним словом, я сажаю человека перед аппаратом на стул. Гляжу в объектив… Щелк! Вылетает птичка, и лицо клиента готово украсить паспорт, служебное удостоверение или страницы семейного альбома…
Марина в задумчивости остановилась. Свет, падающий сверху из окна, освещает часть ее лица, другая слилась с темнотой, словно её затушевал черной краской недовольный своей работой художник.
– Нет, нет, всё не так… – говорил она после некоторого раздумья. – Мне кажется, в твоей работе с фотоаппаратом совсем другой смысл.
– И какой же?
– Человек на снимке недвижим… Верно?
– Ну.
– Фиксируя человека на пленке, мне кажется, ты забираешь у него состояние ступора, апатии… А ему оставляешь движение, осталяешь энергию и ритм. Это же чудесно!
– Да? Ты так думаешь?..
Я в замешательстве от ее слов и чувствую, как на лице у меня появилось глупое выражение…
– Андрей, иди ужинать! – кричит мне из другой комнаты мать. – Поспеши, а то всё остынет!
Я недовольно поворачиваюсь на стуле.
– Подожди, мама, я занят… Дай договорить с человеком!
Через мгновение ее голова появляется в дверном проеме.
– С каким это еще человеком?.. – в ее голосе сквозит удивление. Убедившись, что я в комнате один, она с тревогой спрашивает: – Ты, часом, не заболел?
– Нет, мама, я здоров.
Ощупав мой лоб и убедившись, что он холодный, мать уходит обратно к накрытому столу.
Звеня посудой, она громким голосом учит меня уму-разуму:
– Я давно говорила, что тебе следует заняться спортом. Нельзя целый день сидеть в четырех стенах! Ты уже начал заговариваться… Умственные нагрузки необходимо сочетать с физическими – об этом везде пишут! С завтрашнего дня начнешь делать зарядку. А потом я куплю тебе абонемент в бассейн… Три раза в неделю будешь там плавать – это так прекрасно! А сейчас иди есть…
Вот видишь, Марина, мы даже расстаемся не так, как полагается – на полпути, на половине фразы. Происходящее, точно в фильме, оборвалось стоп-кадром… Итак, до следующей встречи. Я буду ждать тебя на той же улице, на том же самом месте. Мы продолжим путь, который пришлось прервать, и завершим наш разговор…
Я закрываю тетрадь, поднимаюсь со стула и иду ужинать.
Запись вторая
Я взглянул на часы. Стрелки показывали половину первого. Как медленно тянется сегодня день! Несмотря на то, что наше фотоателье находиться на бойком месте, в двух шагах от кинотеатра «Уран», посетителей с утра было немного: человек пять или шесть. Из них запомнился один – шестнадцатилетний акселерат, явившийся сделать фотографии для паспорта. Длинный как жердь, с большими оттопыренными ушами, в брюках, подпоясанных металлической цепью вместо ремня. Под мышкой у него был зажат черный том с прозой Хемингуэя. Судя по словечкам, которые проскальзывали в его речи, это был начитанный паренек. О том же говорил и его взгляд: в прищуре внимательных глаз угадывалось снисходительное отношение к каждому, кто не знает, к примеру, о существовании Бодлера или Альфреда де Виньи.
Пройдя из приемной в крохотный павильон, где я обычно тружусь и где стоит аппарат на треноге, а вокруг несколько осветительных приборов, он уселся на стул спиной к белому фону, висящему на стене, и рот его скривился в иронической усмешке. Так он и сидел минуту или две, пока я включал свет, вставлял кассету в аппарат, наводил резкость… Когда всё было готово для съемки и оставалось только нажать спуск, я попросил его быть серьезным и не улыбаться.
– Что же мне, с хмурой рожей сидеть? – спросил он снисходительно. – С веселым лицом как-то лучше.
– Это же фотография для паспорта, верно?
– Ну, и что? А мне хочется… Пусть все знают, что я человек жизнерадостный…
– Мне без разницы, – ответил я ему, – жизнерадостный ты или ушибленный мешком… Паспорт – это документ! И тебя прогонят из паспортного стола, если будет улыбка на фотографиях. И придешь к нам заново. Еще станешь права качать: почему не предупредили?!
– Ну вот! – акселерат резко шевельнулся на стуле и выразительно взмахнул рукой, словно подавал знак начинать играть сидящему за моей спиной симфоническому оркестру. – Везде одно и то же! Не высовывайся! Будь как другие! Общественный рубанок обстругивает индивидуальность! А где же свободное развитие личности, о котором пишут в газетах? Где индивидуальное своеобразие?
– Слушай, свободная личность, – рассердился я, – ты чего права качаешь? Здесь тебе не Верховный Совет! Пришел фотографироваться – давай, а нет – жми на педали!
– Ладно, – вздохнул акселерат. – Нивелируй меня, подгоняй под серую массу!..
И замер с тупым выражением на лице, словно проглотил испортившийся фрукт или другую дрянь…
Потом пришла Анюта. Улыбающаяся, игриво настроенная. Впорхнула легкая, как стрекоза. Поздоровалась в приемной с Игнатием Степановичем (это старик, который оформляет заказы и выписывает квитанции) и вошла ко мне, задернув за собой плотную черную штору, отделяющую приёмную от съемочного павильона. Уселась передо мной на стул, закинув ногу на ногу. У меня даже в груди заныло от близости ее коленей.
– Послушайте, месье фотограф! – воскликнула она, ослепляя меня своими плутоватыми васильковыми глазками. – Где вы были вчера? Почему забыли обо мне? Признаюсь, мне вас очень не хватало… – И прыснула.
– Значит так, – сказал я строго, – больше бегать за тобой я не буду. Хватит! Кончен бал, погасли свечи! Води за нос Водолаза, а меня оставь в покое…
Анюта сделала огорченное лицо и сказала плаксиво, сложив губы трубочкой:
– Андрюша, не бросай меня. Я не вынесу этого.
Я махнул рукой.
– Можешь кривляться сколько угодно… Только освободи место, мне работать нужно!
– А в приемной никого нет, я единственная… – сказала она. – И неповторимая!
– Всё равно освободи место.
– Ты меня гонишь?.. А я пришла фотографироваться… Да, да. Мне нужен большой портрет в профиль… Ты же сам сказал, что у меня красивый профиль… Я хочу подарить свой портрет одному человеку…
– Кому? – не удержался я. Мне показалось, что она говорит серьезно.
– Ишь, какой! Это секрет, – ответила она. И переменив позу, сказала, обнажая в улыбке красивые белые зубки: – Ладно, так и быть скажу… Я хочу подарить этот портрет… тебе! – И рассмеялась, весьма довольная собой.
– Мне твои портреты не нужны…
Я отдернул штору и вышел из павильона в приемную.
Анюта соскочила со стула и последовала за мной.
– Игнатий Степанович! – устремилась она к старику приемщику. – Выпишите мне квитанцию… Я хочу сделать два больших портрета.
Игнатий Степанович оторвался от газеты, которую внимательно читал, взглянул на девушку поверх очков, перевел взгляд на меня.
Я отвернулся к окну и стал смотреть на улицу, делая вид, что меня это не касается.
– Какого размера, дочка, тебе нужны фотографии? – спросил старик. – Восемнадцать на двадцать четыре… или больше?
– Восемнадцать на двадцать четыре! – бойко изрекла за моей спиной Анюта, но было ясно, что она и понятия не имеет, что это за размер.
За окном проехал троллейбус, рассыпая по сторонам ослепительно-белые искры. В одном из его окон мелькнуло женское лицо, обращенное к улице и привлекшее мое внимание. Женщина была немолода, но еще привлекательна. У нее был отрешенный вид, щеки мокрые от слез. Она вытирала их пальцами. Я даже отдаленно не мог представить, что явилось причиной ее слез: умер ли кто-то из близких, или же ей сообщили, что у нее обнаружили тяжелую болезнь. А может, от нее ушел муж? При виде этой страдающей женщины у меня защемило в груди.
Анюта кольнула меня пальчиком в спину, отвлекая от мыслей о женщине, и с победным видом протянула мне квитанцию. Я нехотя взял квитанцию и прошел обратно в павильон, где начал приготовления к съемке. Настроен я был самым решительным образом, и шутить не собирался. Хотя в глубине души был рад, что она не уходит, проявляет настойчивость, пытаясь, как мне думалось, сгладить впечатление от своих слов, сказанных позавчера в кафе, где мы пили шампанское. Я, конечно, еще на что-то надеялся. Мне хотелось верить, что я всё-таки ей небезразличен, и что там, в кафе, она хотела лишь позлить меня, не более того.
Но, увы, как часто мужчины бывают наивны в своем стремлении понять внутренний мир женщины, ее логику, напоминая тем самым индейца с первобытным сознанием, живущего в глухих джунглях, который вдруг обнаружил в своей хижине магнитофон и уверовал, что слышит звуки, потому что там, внутри, кто-то сидит…
Уже потом, некоторое время спустя, я понял, что Анюте просто было скучно, и она развлекалась, заигрывая поочередно то со мной, то с Водолазом; мы вносили некоторое разнообразие в ее монотонную жизнь, состоящую из незначительных событий, большая часть которой складывалась из занятий в педагогическом вузе, где учились в основном одни девчонки и где она, как породистая лошадь, запертая в конюшне, лишена была возможности покрасоваться и погарцевать перед знатоками.
– Ты глупый, – заявила она, усаживаясь в прежнюю, нога на ногу, позу. – Кто же так ведет себя с девушкой?
Я промолчал. Пусть себе болтает.
– С тобою и пошутить нельзя! Не следует всё понимать буквально. Слова – это одно, а смысл бывает разный… Как в театре!
– Но мы не в театре!
– А вдруг ты мне нравишься? – продолжала она. – Не могу же я открыто заявить об этом! – Анюта подалась вперед, устремив на меня свой невинный взгляд; от этого взгляда мне стало не по себе, он расслаблял мою волю, толкал к краю обрыва, призывая к необдуманным поступкам. – Эх ты, – добавила она со вздохом. – Соображать надо!..
И я ей поверил. У меня даже дух захватило от этого неожиданного признания. А она, наоборот, осеклась… Быть может, увидела в моих глазах нечто такое, что заставило её поначалу насторожиться, удивленно замереть, а потом опрокинуло в смех. Она смеялась надо мной открыто и беззастенчиво, и с каждым звуком, вылетающим из ее небольшого ротика, моя вера в искренность ее слов необратимо гасла, будто финальный кадр фильма, уносящий в затемнение последние улыбки героев или их отрезвляющую скорбь.
– Бог ты мой… – простонала она сквозь смех, так и не договорив.
Я готов был придушить ее в это мгновение – так она мне нравилась, и так одновременно с этим я ее ненавидел.
– Ну, что ты на меня смотришь, точно кот на канарейку? – воскликнула она, отсмеявшись. – Фотографируй!.. Профиль у меня красивый, верно?
– Профиль как профиль, ничего особенного…
– Вот и неправда!..
После ухода Анюты посетителей не было.
В ожидании клиентов мы с Игнатием Степановичем сидели по разным углам нашей маленькой приемной и бездельничали.
Игнатий Степанович, сухощавый, подтянутый, с белой головой и морщинистой шеей, просматривал газету. Это была уже четвертая. Его чуть выпуклые бесцветные глаза медленно двигались за стеклами очков, глотая газетные строчки. Большую часть своей жизни Игнатий Степанович проработал наборщиком в типографии. Считался мастером своего дела. Но прошло время, он состарился, стал хуже видеть, и вынужден был уйти на пенсию. Проведя год в безделье, простучав его в домино в сквере с такими же, как и он, пенсионерами, Игнатий Степанович решил покончить с пустой жизнью и с помощью зятя, исполкомовского начальника, подыскавшего ему место, устроился на работу в наше фотоателье, благо сидевшая до него на квитанциях женщина родила двойню и уволилась.
Каждое утро он приносит с собой несколько газет и в свободное от клиентов время изучает, по его собственному выражению, недуги «шарика» («шариком» он называет нашу планету); с пристальным интересом следит за событиями, от которых этот «шарик» лихорадит. Я считаю это старческой блажью – тратить время на газетное словоблудие. Ведь там по большей части одно вранье! Когда газеты прочитаны, он вынимает из ящика стола книгу. Как правило, это художественная проза. Читать он предпочитает классиков, так как убежден, что хороших писателей нынче нет: гиганты, по его мнению, выродились, а нынешние пишут слишком облегченно, подделываясь под вкусы обывателей. У нас с ним по этому поводу нередко возникают споры. Я считаю, что и сейчас есть немало достойных писателей. Аксенов, к примеру. Или Гладилин. Случается, что старик приносит с собой книжку явно не «классического образца». Чаще всего это печатная продукция небольшого формата, в мягкой, пожелтевшей от времени обложке. Обыкновенно, такая книжка была набрана им и отпечатана в типографии, где он когда-то трудился, и является памятью о каком-либо талантливом неудачнике, пробовавшем свои силы на литературном поприще в далекие годы его молодости, коих немало вынесло тогда на волне всеобщего литературного энтузиазма и большинство из которых сгинуло впоследствии без следа, разве что осталась вот такая небольшая книжонка в пожелтевшей обложке…
Когда газеты просмотрены и есть возможность выйти на воздух подышать, Игнатий Степанович снимает очки, поднимается со стула и, обмотав шею теплым шарфом неопределенного цвета, который он носит постоянно, устремляется за дверь. Путь его лежит в направлении Колхозной (Сухаревской) площади, на подходе к которой на левой стороне улицы, возле обветшавшего храма, стоит неказистое одноэтажное строение с завлекательной вывеской над входом «ВИНО-ВОДЫ». Вся процедура, исполняемая в стенах этого полутемного помещения с неприятным кислым запахом, занимает у старика несколько минут. Опрокинув в себя неполный стакан портвейна, который порциями за несколько монет выплескивает в стакан винный автомат, и закусив выпитое конфетой, Игнатий Степанович спешит обратно.
Передо мной он появляется уже навеселе, с ярко-пунцовыми, как у стыдливой девушки, щеками и тут же без предисловия, с ходу, начинает рассказывать что-либо из собственной жизни или из жизни людей, которых хорошо знал. Память его хранит множество интересных историй. Следует сказать, рассказчик Игнатий Степанович отменный. Глаза его загораются, старческое тело наполняется юношеской легкостью, и он, словно всемогущий Мефистофель, рассыпает передо мной истории человеческих судеб, нанизанные на гибкую рапиру его памяти. Здесь и знаменитый писатель, подаривший ему одну из своих книг; и прославленный оперный певец, скандалист в будничной жизни, с которым он жил в одном подъезде; и крупный военный начальник, репрессированный в тридцатые годы; и муж его сестры, работник угрозыска, погибший после войны в схватке с бандитами; и удачливый адвокат, с которым он познакомился, будучи народным заседателем; и неверная жена одного полковника-танкиста (женщина необыкновенной красоты, застреленная однажды своим ревнивым мужем); и капризная актриса кино, с братом которой он лежал в одной больничной палате; и много других, самых разных мужчин и женщин, с которыми судьба сплела его в один цветистый букет…
Минут через сорок Игнатий Степанович выдыхается и, утомившись от собственного устного творчества, привалившись к столу, начинает дремать.
В обеденный перерыв, съев пару бутербродов с колбасой, которые заворачивает ему с собой его жена (милая, благообразная старушенция с вздернутым носиком), и выпив чашку чая, он оживает, вновь наполняется энергией, и теперь достаточно любой мелочи, чтобы он затеял спор со мной. По любому поводу. А спорить он любит. Делает это азартно, въедливо, ловко оперируя аргументами, и напоминает фокусника, умеющего в нужный момент извлечь из рукава самые неожиданные предметы. Мне же в такие минуты ничего не остается, как хвататься за жалкие доспехи своего скромного опыта и отбиваться с резвостью хоккейного вратаря, чьи ворота находятся под постоянным обстрелом противника…
Пока старик был занят чтением газет, я в ожидании клиентов сидел у окна и смотрел на уличный поток, текущий мимо. Машины, троллейбусы, пешеходы – всё это катилось, двигалось, текло во времени по каким-то своим непостижимым законам, аккомпанируя движению моих мыслей, которые роились вокруг Анюты, жужжа обречено, словно мухи, попавшие на липучку. Наконец меня возмутило, что я продолжаю думать о ней, и я сказал себе: «Довольно! хватит! обойдусь без этой легкомысленной девчонки! Ведь у меня же есть Марина! Как я забыл о ней! Милая, прелестная Марина, которая не будет меня дурачить и не предаст меня!..»
Ход моих мыслей был прерван телефонным звонком. Аппарат стоял на столе у Игнатия Степановича, и я решил, что он и снимет трубку. Но, повернувшись, я увидел, что старик сидит в кресле в стороне от стола – я даже не заметил, когда он туда переместился.
Оторвавшись от газеты, он взглянул на меня.
– Подойди, это, вероятно, тебя…
– С чего это вы решили? – отозвался я, не двигаясь с места: уж больно хорошо я пригрелся у окна.
– Чаще всего сюда звонят тебе, дружок! Может быть, это Анюта…
Мне по-прежнему не хотелось покидать свое место.
– Анюта уже здесь отметилась… Возможно, это с фабрики насчет заказов? – я тянул время, надеясь, что тому, кто звонит, не хватит терпения, и он положит трубку, избавив меня тем самым от необходимости покидать своё место.
– С фабрики уже звонили, – вспомнил старик.
– Кстати, – не сдавался я, – чаще всего сюда звонит ваша жена!
– Вот гармонь-полынь! – рассердился старик. – Я в твои годы вьюном крутился, а тебе лень зад от стула оторвать! А еще журналистом собираешься стать… При такой профессии, если хочешь знать, бегать надо за троих!
Старик встал с кресла и пошел к телефону.
– Но учти, – заявил он, – если это Анюта, я скажу, что тебя нет… Что ты выпал в осадок… – Игнатий Степанович снял трубку. – Алле! Слушаю вас! – Он стрельнул глазами в мою сторону. – Это ты, деточка?.. Андрея нет, он вышел за сигаретами.
Смешной старик! Решил меня разыграть, но не знает, что у Анюты нет номера нашего телефона. К тому же мне слышны гудки, доносящиеся из трубки.
– Передайте ей, – заявил я, – что я жду ее через десять минут в центре ГУМа у фонтана… – И хохотнул, весьма довольный своей остротой.
– Она уже повесила трубку, – невозмутимо отозвался Игнатий Степанович и вернулся на прежнее место.
Стоило ему опуститься в кресло, как телефон вновь выдал звонкую трель. На этот раз, не желая обижать старика, я сам снимаю трубку.
– Слушаю вас…
– Мне нужен Игнатий Степанович, – проговорил в трубке негромкий мужской голос.
Надо сказать, голос этот показался мне знакомым, но в ту минуту я как-то не придал этому значения: мало ли похожих голосов! У меня и в мыслях не было, что этот звонок может явиться началом целого ряда неприятных событий, которые вскоре последуют.
Я с торжествующим видом посмотрел на старика, выглянувшего из-за газеты:
– Это вас, уважаемый Игнатий Степанович!
– Эх, Андрюха, артист из тебя никудышный! Я бы даже сказал: безобразно плохой артист! – Игнатий Степанович радостно потер руки, как детектив, разгадавший ход преступника.
– Хотите верьте, хотите нет, но это действительно вас.
– «Пой, ласточка, пой! Пой, не умолкай!..» – пропел старик довольный тем, что видит меня насквозь.
Я пожал плечами.
– Ладно, я кладу трубку… – И сделал движение рукой в сторону аппарата.
В последний момент старик не выдержал и выхватил у меня тубку.
– Алле!..
Убедившись, что позвонившему человеку нужен именно он, Игнатий Степанович взглянул на меня и сделал жест рукой, означавший: «один – ноль» в твою пользу! Потом выслушал то, что ему сказали, и изменился в лице. Побледнел, взгляд его стал напряженным.
– Да… Понимаю… Сейчас буду…
Опустив трубку на рычаг, Игнатий Степанович как-то поник, казалось, стал меньше ростом и опал в плечах, словно снеговик, подтаявший на весеннем солнце.
– Что случилось? – спросил я.
Он поднял на меня глаза, полные тревоги, и я понял, что произошло нечто серьезное.
– Звонили из института Склифосовского… – сказал он. – Елизавета моя, понимаешь, упала на улице… Шла, потеряла сознание… Когда очнулась в больнице, попросила сообщить мне… Кажется у неё перелом…
– Чего перелом? Руки, ноги?
– Не знаю, – признался старик с виноватым видом. – Не спросил… – Он решительно поднялся. – Я иду в Склиф. А ты уж управляйся без меня, ладно?..
– Конечно, о чем разговор! – успокоил я его. – К тому же скоро обед. Да и народу сегодня немного…
Старик потоптался у выхода, поправляя на шее свой неизменный шарф, и вышел за дверь.
Оставшись один, я прошелся по приемной, решая задачу: где мне сегодня обедать? Пойти ли в столовую напротив или устроить чай на рабочем месте, купив колбасы и хлеба в ближайшем магазине? Потом мысли мои покатились в ином направлении. Странное дело, подумал я, обычно в это время от желающих фотографироваться нет отбоя, а сегодня – никого… Можно подумать, что в документах отменили фотографии… Или в эти минуты происходит нечто неординарное, о чем мне неизвестно, и что отвлекает людей от посещения заведений, подобных нашему, например, телевидение транслирует высадку космонавтов на Луне или что-то в этом роде.
Дальнейшее движение моих мыслей было прервано неожиданным обстоятельством. Дверь в ателье распахнулась, и на пороге появился… Кто бы вы думали? Водолаз, а за ним его дружки. Неразлучная троица вошла энергично и деловито. В движениях каждого была осмысленность, словно все они действовали по заранее разработанному плану. Один из них, Федька, лохматый, сутулый, похожий на бабуина, расставив ноги, стал у дверей, перекрыв выход. Водолаз и третий, Эдик, или Эд, направились ко мне. Эд, губастый, стриженный под ноль, с глубоко посаженными маленькими глазками, взгляд которых красноречиво свидетельствовал о том, что у их хозяина отсутствуют некоторые, весьма необходимые при мыслительном процессе извилины, встал слева от меня, перекрыв проход к окну.
– Ну, что, поговорим? – обратился ко мне Водолаз, склонив голову набок. – Я просил тебя, фраер, не лезть к Анюте… А ты всё лезешь, лезешь, точно клоп из-под обоев!
– Совсем обнаглел, падла! – изрек стоявший у двери Федька.
– Ребята! – заговорил я, стараясь быть спокойным, думая, что они пришли лишь затем, чтобы припугнуть меня. – Между прочим, я на работе. Сюда каждую минуту могут войти люди, и вам лучше уйти…
– У тебя обед! – прервал меня Водолаз и сказал, обращаясь к Федьке, не поворачивая головы: – Федул, изобрази!
Федька знал, что ему следует делать, и тут же развернул табличку с надписью «Перерыв», висевшую на дверном стекле, лицевой стороной к улице.
– Всё равно я занят, – сказал я. – Мне нужно негативы для печати на фабрике подготовить. Поговорим, если хотите, вечером.
– Ах, он занят! – усмехнулся Водолаз. – Мозги деду своему будешь конопатить, когда он приползет из Склифа!
Слова Водолаза, надо сказать, озадачили меня. Откуда ему известно, что Игнатий Степанович отправился в Склиф?.. Быть может, эти неандертальцы встретили его по пути сюда? Если это и так, старик не станет объяснять каждому встречному урке, куда он спешит, да ещё в такую минуту… А что если эти кретины сами организовали его уход? Позвонили якобы из Склифа и спровадили старика в больницу, чтобы избавиться от свидетеля!.. У меня даже озноб прошел по телу от этой догадки. Ну конечно же, это они! И как я сразу не догадался! И звонил, по-моему, Федька… Точно, его голос! И время подходящее выбрали – в обед… Потому и ведут себя так нагло – знают, что в обед им никто не помешает…
– Значит, это вы звонили старику? – спросил я.
– И что? – заявил в ответ Водолаз наглым тоном, после чего всякие сомнения на этот счет у меня отпали.
– От подобных шуток может быть инфаркт!
– Ничего с твоим дедом не случится.
– А если и случится, тоже не беда, – добавил Эд. – Он уже пожил вдоволь, теперь пусть другие поживут!
– Подонки! – выругался я.
– Забываешься, фраер, – нахмурился Водолаз.
– Да чего с ним болтать?! – бросил от двери Федька. – Пару ударов в пятак – и все дела!
– Он был фотографом! – скорбно провозгласил Эд и шагнул в мою сторону.
Федька припёр стулом входную дверь и тоже направился ко мне.
И тут я понял, дело плохо: сейчас меня будут бить. Я отступил назад к стене и, подняв кулаки, встал в боксёрскую стойку; пару лет в школьные годы я занимался в секции бокса и кое-чему научился. Но если против одного я еще мог бы выстоять, то против троих – это был дохлый номер! Так оно и получилось. Они набросились на меня разом. Федька и Эд схватили за руки, а Водолаз, пользуясь этим, ударил меня, что было силы, кулаком в живот. Резкая боль обожгла солнечное сплетение, у меня перехватило дыхание, и на некоторое время я оглох: погрузился в звенящую тишину, словно меня бросили в снежный сугроб в глухом зимнем лесу… а затем в ушах зажужжала электродрель.
Когда боль немного отступила, взгляд мой неожиданно выхватил листок перекидного календаря, парусом взлетевший от движения воздуха на столе Игнатия Степановича, и в сознании чётко зафиксировалась цифра на нем – «21». И мне двадцать один, и родился я двадцать первого числа…
Но тут последовал ещё один удар – на этот раз в скулу. Комната поплыла перед глазами («Точно, нокдаун!» – подумал я), в голове ударил колокол, растекаясь густым звоном, рот обожгло солоноватым вкусом крови. На последнем усилии воли я рванулся вперед, в липкую темень, где по моему ощущению находился Водолаз, но тут же был отдернут назад – цепкие руки его дружков припечатали меня к полу…
Когда темнота перед глазами рассеялась, передо мной появилось лицо Водолаза, склонившегося надо мной.
– Надеюсь, ты понял, что цепляться к чужим чувихам – вредно для здоровья.
Я плюнул ему в лицо, но кровавый мой плевок пролетел мимо.
Меня всегда колотит от ненависти к таким вот подонкам, которые для расправы над неугодными им людьми применяют «групповой метод», то есть количественный перевес в живой силе. Что может быть подлее, когда двоё недоумков держат вас за руки, а третий бьет?!
– Ты урод… И даже хуже! – выдохнул я.
– Красиво говоришь! Я люблю, когда говорят красиво! – осклабился Водолаз. И снова вонзил кулак в мой живот. – Это для профилактики! Еще раз увижу с Анютой, кости переломаю.
Дружки Водолаза отпустили меня и направились к выходу, гордые собой и своим поступком.
Федька по ходу движения задержался у стола Игнатия Степановича, открыл верхний ящик, куда старик обычно складывает выручку, заглянул внутрь.
– Чуваки! – воскликнул он радостно. – Здесь башли!
Он запустил руку в ящик и извлек оттуда гость трёшек и пятёрок – нашу выручку за полдня.
– Брось! Не трогай! – остановил его Водолаз. – Мы же культурные люди… А то этот фраер подумает, что мы пришли его ограбить.
– Давай хотя бы трояк возьмем – на бутылку, – поддержал Федьку Эд. – Святое дело! Мы же его сфотографировали? Сфотографировали! Это будет плата за труды!
– Ладно, – согласился Водолаз. – Возьми трояк… за хлопоты!
Федька взял трехрублевую бумажку, остальные купюры с сожалением бросил обратно в ящик и задвинул его.
Затем все трое вышли на улицу, и Водолаз аккуратно, словно боясь выпустить пар из парной, прикрыл за собою дверь.
Прошло некоторое время, прежде чем я пришел в себя и поднялся с пола. Не без труда добрался я до стула, сел на него. Некоторое время тупо сидел, устремив невидящий взор в стену. Что-то там слепило мне глаза – вероятно, зеркало, висевшее на стене, отражало луч солнца, падающий в окно, – а мне подумалось, что это прожигает стену, пробиваясь с улицы, огонь электросварки.
Я поднялся со стула, подошел к зеркалу. Взглянул на своё лицо: одна щека опухла, в уголке губ запеклась струйка крови.
Боль в животе притупилась, но зато теперь сильно ныло правое плечо, ушибленное при падении на пол…
«Ладно, за двадцать минут, оставшихся до конца обеда, оклемаюсь», – успокоил я себя. Лицо не такое уж страшное: мало ли, может, у человека флюс! Я пригладил волосы, вытер носовым платком кровь. На душе было погано, обида душила меня. Я даже ударил кулаком по спинке стула, чтобы разрядиться. Водолазу этого прощать нельзя. Месть и только месть! Я ему такой аттракцион устрою, почище, чем в цирке! И я поклялся отомстить Водолазу, чего бы мне это не стоило.
«Если тебе дорога твоя честь, обиду прощать нельзя! Не давай себя прогнуть. Никогда!» – вдруг всплыли из глубин памяти и заплескались на поверхности слова дяди Коли, сказанные им когда-то много лет назад. И я сразу вспомнил его, брата моей матери, Николая Ивановича Смирнова, жившего в доме по соседству и учившего меня, тогда еще малолетнего пацана, уму-разуму. Хотя нет, это, пожалуй, неточное определение: поучать он не любил. Ему нравилось размышлять в моем присутствии о жизни, о её теневых сторонах, где, как в глухом лесу, надо уметь ориентироваться, дабы не заплутать, а то и не пропасть вовсе. Дядя Коля был человек немногословный, часто сосредоточенный на своих думах, которые, вероятно, занимали важное место в его жизни. Он с застенчивой улыбкой принимал чужую радость и успех. Болезненно переносил всякую несправедливость, сторонился тех, кто, не задумываясь, мог обидеть слабого. Старался с подобными людьми не иметь дела. Отмалчивался с угрюмым видом, если вдруг оказывался с такими персонажами в одной компании и, как я узнал позднее, приходил в тихое бешенство, когда попирали его достоинство – в такие минуты он мог даже убить.
Работал дядя Коля столяром на мебельной фабрике, где делали казенную мебель – канцелярские столы, шкафы и стулья для совслужащих, протиравших свои штаны и юбки в различных бюрократических учреждениях. Биография у дяди Коля была типичной для людей его поколения. В сорок втором, не доучившись в техникуме, ушел на фронт. Служил в полковой разведке. Воевал до конца войны, два раза был ранен, получил несколько боевых орденов и медалей. Демобилизовался в сорок пятом. Вернувшись из армии, устроился на мебельную фабрику, где освоил профессию столяра-краснодеревщика и, по мнению фабричного начальства, неплохо справлялся со своим делом. Водкой дядя Коля не увлекался, но выпить мог основательно. Особенно по военным праздникам. Слишком много друзей-товарищей осталось лежать в чужой земле, и не вспомнить о погибших, не поднять в их память стопку считал делом греховным…
Однажды дядя Коля попал в серьезную передрягу. Возле пивного ларька, где он, случалось, выпивал с приятелем после работы кружку-другую пива, к нему привязались два милиционера и, спровоцировав ссору, скрутили ему руки и поволокли в отделение. Соседские мужики, стоявшие рядом, только рты пораскрывали от удивления: за что? По дороге обидчики избили дядю Колю, а придя в отделение милиции составили протокол, где обвинили несчастного в том, что он отказался предъявить документы, оказал сотрудникам милиции сопротивление и, затеяв драку, пытался отнять у одного из них пистолет, чтобы в дальнейшем использовать его в преступных целях. После подобных обвинений дядя Коля загремел на два года в тюрьму за хулиганство (дали бы больше, но смягчению наказания в суде способствовало боевое прошлое разведчика). Одним из двух милиционеров, устроивших задержание дяди Коли, был Степка Колыванов, широколицый сытый мужик с колючим недобрым взглядом. Колыванов жил с дядей Колей в одном доме и невзлюбил последнего за независимый нрав, самостоятельность суждений и отсутствие почтения к его, колывановскому милицейскому положению. А главное, не мог простить бывшему фронтовику, что медсестра Маша, их соседка, в которую Колыванов был влюблен, предпочла в свое время дядю Колю, выбрав его, а не Степку в мужья. И вообще этот Колыванов был отвратительный тип, готовый отца родного придушить во имя своих корыстных интересов. Слава Богу, его потом поперли из милиции…
Дядя Коля отсидел положенный срок и вернулся. Но обиды не простил. Часто думал о случившемся и о том, как несправедливо с ним обошлись. Он утратил веселость, осунулся, отчего резче обозначились морщины на его и без того впалых щеках. Другой на его месте повздыхал бы некоторое время, попьянствовал на полную катушку, желая успокоить уязвленную гордость, покуражился бы, вымещая обиду на близких, и успокоился бы: всё равно на власть управы не найдешь! Но не таким был дядя Коля. «Человек я или кто? – рассуждал он, обращаясь к жене и своей сестре – моей матери. – А ежели человек, то будь любезен отнесись ко мне со всем пониманием! Душа моя – не плевательница, куда всякий желающий безнаказанно харкнуть может! Это вот столб фонарный, ему без разницы, когда об него окурки гасят. На то он и столб – без корней, без веток, без разумения… А мне ведь еще в школе объясняли, что я есть существо мыслящее! Приучали Пушкина и Чехова читать, про совесть свою думать. И что же выходит, теперь я всю свою прошлую жизнь перечеркнуть должен и стать червем безответным? Не будет этого!..» И дядя Коля решил, что должен отомстить своему обидчику. Долго думал он над тем, как это сделать, и наконец сочинил, можно сказать, целую «боевую операцию» – недаром на фронте он был разведчиком. Но для осуществления «операции» необходима была серьезная подготовка и, самое главное, требовалось выждать некоторое время. Хотя и чесались у бывшего разведчика руки, но он упорно ждал своего часа. Прошло не меньше года, прежде чем события, связанные с его заключением, утратили остроту, подзабылись, и Колыванов, пребывавший в некотором напряжении с момента возвращения дяди Коли из лагеря и опасавшийся его мести, полностью успокоился, поверив, что мести не будет. И вот наконец дядя Коля решил, что пришла пора действовать. Он усадил жену Машу за стол, дал ей в руки ручку и бумагу и сказал: «Пиши письмо…» «Кому?» – спросила та. «Степке Колыванову, кому ж еще!» – «Ох, не дело ты затеял…» – вздохнула Маша, не согласная с мужем, но села за стол и приготовилась писать, потому как любила своего Колю без памяти. Под диктовку мужа она написала небольшое, но складное письмецо. В нем она поблагодарила неудачливого ухажера за то, что тот дал острастку ее мужу, отправив его на два года в зону, от побоев которого она, несчастная, страдает всю семейную жизнь, и всегда в роковые минуты, когда Колька награждает ее тумаками, вспоминает его, Степу Колыванова, ладного лихого парня, который до сей поры ей люб и дорог, и она хотела бы, чтобы Колыванов простил ее за прошлый выбор в пользу Кольки, и уж если ничего теперь нельзя исправить, то желала бы, чтобы они впредь остались добрыми друзьями. Перечитав написанное женой и оставшись удовлетворенным, дядя Коля запечатал письмо в конверт и собственноручно опустил его в почтовый ящик Колыванова.
Подозрительный, но охочий до бабьих ласк, Степка съел наживку. Как-то встретив Машу на улице, поздоровался с нею, правда, сделал это довольно сдержанно, но всё же. Поинтересовался, как та живет, спросил о родне, о работе, об общих знакомых, на что Маша, скрывая свою неприязнь, была вынуждена отвечать, сопровождая свои слова вымученной улыбкой. Ощупывая ее глазами и проверяя искренность бывшей подруги, Колыванов коротко хохотнул, самодовольно и мерзко, и порекомендовал Маше, если Колька вновь «применит рукоприкладство», обращаться за помощью к нему, к Колыванову, а уж он-то обязательно обуздает его. Потом кивнул на прощанье и, довольный собой, удалился, ступая по асфальту твердой уверенной походкой. Стук его подбитых подковками милицейских сапог еще долго отдавался у Маши в ушах. Вечером, сгорая от нетерпения, она едва дождалась мужа с работы и подробно, в деталях, рассказала ему о состоявшейся встрече. Тот, выслушав ее, удовлетворенно кивнул и сказал: «Теперь, если встретишь его где-либо, первая с ним беседу не заводи, чтобы не подумал чего ненужного, а ежели сам к тебе с разговором подойдет – поговори. В разговоре будь с ним доброжелательна, но не более того. Если последуют намёки насчет любви и прочего, не отпугивай его, но впрямую ничего не обещай…» И умолк, не закончив фразы, задумавшись. Так больше ничего и не сказал. Жену он в свои планы до конца не посвящал – считал, так будет лучше…
После того первого разговора с Машей на улице Колыванов, старавшийся ранее ее не замечать, теперь при случайных встречах стал заговаривать с нею. Поначалу разговоры эти были о всяких пустяках, о погоде, о том, кто с кем живет, об ожидаемом снижении цен на отдельные виды продовольствия и промышленных товаров, что, конечно, не относилось к разряду пустяков и заботило в те годы каждого, вызывая в разной среде повышенный интерес. Потом, поверив в Машину искренность, Колыванов освоился, речи его утратили нейтральный характер, в них появились намеки на возможную их встречу наедине в ближайшем будущем. Разговоры на эту тему сопровождались ухмылочками, передергиванием плеч, словно у Колыванова под одеждой ползало по спине насекомое. Дальше – больше. Пошли прикосновения, поглаживания, легкие щипки за ягодицы. А затем в один прекрасный день последовало предложение встретиться где-либо в интимной обстановке за бутылкой вина. Маша всякий раз при этих разговорах, превозмогая брезгливость, кривлялась, изображая эдакую милую дурочку, которой по душе пошлые шутки Колыванова и его раскормленная рожа, за что сама себя начинала тихо ненавидеть. Но когда «ухажер» предложил «перейти к делу», она решила, что с неё хватит. И устроила вечером дома истерику, прокричав дяде Коле в лицо, что он потерял совесть, торгует своей женой, и что ей всё это надоело, и в следующий раз, когда эта скотина Колыванов приблизиться к ней, она пошлет его на известные три буквы. Дядя Коля, играя желваками, молча выслушал нервный монолог жены, и когда та, прокричав всё это, сникла, сказал ей: «Прости меня, девочка… Потерпи еще самую малость… Раз он предложил встретиться, значит, поверил тебе. Значит, настал подходящий момент…» И дядя Коля, утирая огрубевшими пальцами слезы на щеках жены, попросил ее сыграть свою роль еще один раз, последний, и сделать всё так, как он попросит…
На другой день, дождавшись возвращения Колыванова с дежурства, Маша, выглядывавшая его из окна, выскочила ему навстречу, сделав вид, что спешит в магазин. Поравнявшись со Степкой, сбавила ход и сообщила с жеманной улыбкой, что ее Колька, взяв отпуск, уезжает завтра на две недели в деревню к родне, куда они отправили на лето сына Павлика. И если Колыванов имеет желание, то он может заглянуть к ней, Маше, вечером на огонек – ключ от входа в их коммуналку она оставит под половиком у входной двери. Колыванов похотливо оскалился, но затем дымка недоверия накатила на его водянистые чуть навыкате глаза. «Уезжает, говоришь?.. Так-так… – произнес он после некоторого раздумья. – А на чем он поедет?» «Как на чем? На поезде…» – ответила Маша. «С какого вокзала? Номер поезда, номер вагона? Время отъезда?» – забросал ее вопросами продолжающий испытывать недоверие Колыванов. Маша, удивленная столь широким его интересом, сообщила всё, что знала – вплоть до места в плацкартном вагоне. Колыванов возбужденно стиснул ее руку на прощание и пообещал явиться на свидание…
На следующий день, в названное Машей время отъезда мужа, Колыванов, одетый в штатское, явился на Курский вокзал. Стараясь не бросаться в глаза, что с его крупной фигурой и раскормленной ряшкой было непросто, он затаился у фонарного столба, за спиной мороженщицы с деревянным ящиком через плечо, и стал наблюдать за входом в вагон, в котором должен был уехать дядя Коля. Колыванов хотел лично убедиться в том, что муж столь желаемой им крали отбыл на поезде из города. Шло время, а дядя Коля не появлялся. За десять минут до отхода поезда, когда Колыванов хотел уже уходить, довольный тем, что устроил проверку, на перроне появились дядя Коля и сопровождавшая его Маша. В одной руке дядя Коля держал обшарпанный фибровый чемодан, в другой – сумку-авоську, где лежали буханка черного хлеба и отварные полкурицы в промасленной бумаге. Он занес вещи в вагон и выбежал попрощаться с женой. Вплоть до отправления поезда стоял с ней в обнимку, о чем-то беседуя. Когда состав тронулся, дядя Коля поцеловал Машу в губы, запрыгнул на подножку вагона. Потом еще долго махал ей рукой. Колыванов видел все это и почувствовал, как радость переполняет его существо. Он не стал догонять Машу, выждал, когда та покинет перрон, и отправился восвояси, полный скабрезных возбуждающих мыслей…
Вечером он наново побрился, облачился в галифе и новую рубашку в полоску. Опрокинул в себя полстакана водки для куража и, сказав жене, что идет к приятелю играть в карты, отправился в соседний подъезд. Поднявшись на второй этаж и остановившись у двери, ведущей в коммунальную квартиру, где в одной из комнат жили Маша с дядей Колей, и где она сейчас ждала, Колыванов пригасил взволнованное дыхание. Прислушался, пытаясь уловить пунцовым ухом, что же там внутри – нет ли ненужных свидетелей в коридоре? В прихожей было тихо – жильцы в это вечернее время находились в своих комнатах, а кое-кто из припоздавших женщин топтался в другом конце коридора на общем кухне, дожаривая картошку и рыбу, запах которой дошел до Колыванова, заставив его слегка поморщиться. Но разве могла такая мелочь как запах жареной рыбы испортить настроение возбужденному любовнику. Колыванов пошарил рукой под ковриком, умиротворенно улыбнулся, нащупав под ним ключ. Всё шло по плану. Он вставил ключ в замочную скважину, открыл дверь. В коридоре было темно, как в подвале. Жильцы экономили свет и исправно выключали лампочку, покидая коридор. Лишь в конце коридора, где была кухня, горел свет. И опять в нос, теперь уже острее, ударил запах жареной рыбы. Но сейчас, увлеченный продвижением к Машиной двери – третьей по счету справа – Колыванов заставил себя не думать об этом запахе. Добравшись до двери, он услышал за нею звуки патефона – танго «Брызги шампанского» манило, точно сладость валерьянки манит кота, и Колыванов испытал прилив нежности к той, что ожидала его сейчас за дверью. Нажим – и дверь свободно открылась, ошеломив гостя запахами незнакомой ему жизни, где преобладал аромат полевых цветов. В комнате, показавшейся Колыванову весьма большой, был полумрак. Свет горел справа за ширмой, где вероятно находилась кровать. «Маш!» – негромко позвал Колыванов, плотно прикрыв за собою дверь. Ответа не последовало. «Ты где?..» – вопросил он и подумал: заснула, наверное, бедняжка, ожидая его, с книжкой в руках. Колыванов еще помнил, что Машу выгодно отличало от ее сверстниц – любовь к чтению. Те больше бегали по танцулькам или в клуб на трофейные фильмы. А Маша тянулась к книжке. И Колыванову, с трудом одолевшему в школе восемь классов, это нравилось, и хотелось эту умную девчонку заполучить себе в жены. В жены тогда не получилось, но зато теперь был шанс заполучить ее в любовницы – ладную, статную, с легкими красивыми ногами. И предвкушая жаркие объятия, близость Машиного тела, от запаха которого в прошлые времена его бросало в жар, Колыванов осторожно, стараясь ничего не свалить по пути, пошел на свет. Нашел проход между диваном и обеденным столом, разместившимся в первой трети комнаты в окружении четырех венских стульев. Легко преодолел это место, несмотря на свою крупность, и сам порадовался неожиданной собственной легкости: прямо, балерина! А днем, глядишь, стул бы свернул. Дальше также легко, ничего не задев, прошел между платяным шкафом с одной стороны, и буфетом, где стояла посуда, с другой – там на его шаги легким звоном отозвались рюмки и бокалы, толпившиеся на полке за рифленым стеклом дверцы, их короткий перезвон повеселил его сердце. Выглядывая лицом из-за ширмы и вползая плечами в выгороженное пространство спальни, где стояли кровать с металлическими спинками и тумбочка, поверх которой горела настольная лампа со стеклянным зеленым колпаком, Колыванов обнаружил на кровати тело спящего человека, накрытого с головой одеялом. И действительно, рядом лежала открытая книжка. «Умаялась, медсестренка!» – подумал с несвойственной ему теплотой Колыванов. И вновь позвал негромко: «Машуня! Проснись… Хватит дрыхнуть! Я пришел». Дыхание у него перехватило, пальцы, шевелясь в воздухе, поплыли в сторону спящей. И тут что-то остановило его, прервав движение рук к одеялу, кольнуло тревогой, отчего у него дернулось левое веко. Ему показалось, что спящая не дышит. Когда он понял это, у него не возникло мысли, что с Машей случилось что-то нехорошее и по этой причине она не подает признаков жизни. Маша была молодой женщиной в полном соку – еще сегодня на вокзале на проводах мужа она выглядела вполне здоровой. Додумать, в чем же дело и что там покоится под одеялом, Колыванов не успел. В следующее мгновение сильный удар обрушился ему на голову, заставив завопить от боли – так визжит свинья, получив удар палкой от живодера. За первым ударом последовал второй – еще более хлесткий, от которого у сластолюбца помутилось сознание. Но на ногах он устоял. И, закрывая голову ладонями, закружился волчком, пытаясь уклоняться от ударов, опрокидывая на пол всё, что попадалось на пути. И долго не мог понять, чем его бьют. А били его широким офицерским ремнем из крепкой кожи, с тяжелой металлической пряжкой на конце. Сквозь пелену перед глазами он сумел различить лицо человека, наносившего ему удары, и, потрясенный, осознал, что это – не кто иной, как отбывший сегодня на поезде в деревню Колька Смирнов, то есть муж Маши. «Как же так, – мелькнула недоуменная мысль, – ведь Колька же сел в вагон! И в нем уехал!.. Еще курицу в авоске взял в дорогу!..» А тот бил Колыванова и приговаривал: «Вот тебе, сука! Вот тебе, гад!.. Это за меня! Это за Машу!.. Это за меня! Это за Машу! Будешь знать, сволочь, как честным людям жизнь портить!..» Ослепнув от боли, с лицом, залитым кровью, с выбитым верхним зубом, пытаясь прорваться к выходу, Колыванов метался по комнате, опрокидывая стулья, хрустя битым стеклом, натыкаясь на шкафы и стены. Но дядя Коля не знал пощады. Разил наотмашь справа и слева, точно немца в окопе добивал. Много вещей порушил крепкий, как бык, Колыванов, но дядя Коля не думал об этом – плевать на потери, когда на кону честь стоит! Наконец Колыванову удалось прорваться в коридор. Там уже кто-то из жильцов зажег свет, на шум и вопли повылазили из своих углов любопытствующие соседи. Отталкивая собравшийся люд, опасаясь новых ударов сзади (а острые углы армейской пряжки разили почище кастета), Колыванов в два прыжка оказался у выхода. И вылетел за дверь, точно нырнул в люк самолета, прыгая с парашютом, взлохматив при этом потоком воздуха волосы у соседки, стоявшей ближе к выходу. Дядя Коля неспешно вышел в коридор. Выбежавшим на шум соседям объяснил, что это был вор, пытавшийся ограбить его жилье. Кого-то сказанное убедило, а кого-то нет. Колыванова многие знали и опознали его в бежавшем за дверь мужике. Не вступая в объяснения, соседи, молча, разошлись по своим комнатам. А дядя Коля вернулся к себе. Зажег свет, прибрал последствия разгрома в комнате, с веселым чувством оценивая потери. Потом умыл лицо, причесал волосы и отправился на Казанский вокзал. Там в зале ожидания, нервничая и кутаясь в платок, ждала его Маша, с которой он и уехал вечерним поездом к родне в деревню – на этот раз уже по-настоящему…
Так дядя Коля отомстил за поруганную честь и два года отсидки в местах заключения. История, к несчастью, на этом не закончилась. Не таков был человек Колыванов, чтобы признать свое поражение и простить обидчика. Но это уже другая история. История, закончившаяся для дяди Коли трагически. Но об этом как-нибудь потом.
Воспоминание о дяде Коле и его поступке еще больше укрепили меня в желании отомстить Водолазу и его приятелям. В голове моей стали возникать планы – один причудливее другого – как это сделать. И я уже отчетливо представил себе, как в финале Водолаз лежит, поверженный, у моих ног и, кривя испуганно рот, просит о пощаде. А я, решительный и непреклонный, придавив коленом его грудь, как гладиатор грудь поверженного противника, бью его наотмашь по лицу – раз, другой, третий!.. Эта воображаемая картина несколько улучшила мое настроение, и я решил сделать себе чай.
Достал из шкафа электрочайник, болтанул его, проверяя, есть ли в нем вода, и уже намеревался включить его в розетку… Но тут открылась дверь, и предо мной предстал запыхавшийся Игнатий Степанович.
– Ты представляешь! – воскликнул он, взмахнув рукой, входя в помещение.
И мне подумалось, что сейчас переволновавшийся старик станет возмущенно рассказывать о том, как его подло обманули, заставив переживать по поводу ложного несчастья с женой, отправили понапрасну в больницу, что это подло и мерзко, и я бы с чистым сердцем согласился с ним… но вместо этого он вдруг счастливо, по-детски улыбнулся, обнажив вставные зубы.
– Представляешь! – воскликнул он. – Она в порядке, старуха моя! Она не падала на улице, не ломала ногу! Произошло недоразумение, что-то напутали… Какое счастье, что всё оказалось ошибкой!
И мне ничего не оставалось, как порадоваться этому обстоятельству вместе с ним.
Запись третья
Сегодня, наконец, я вновь могу провести время с Мариной. Я ждал этой встречи несколько дней, и всё никак не получалось. Чудесные часы ожидают меня за письменным столом. Итак, в путь!
Жаркий день катился к вечеру. Город дымился, подобно кастрюле с варевом на плите. Дышать было нечем: воздуха просто не хватало! Люди с отупевшими от духоты лицами толпились у автоматов с газировкой, окружали тележки мороженщиц, поливали себя водой из бутылок. Кто-то хватался за сердце, которое вдруг не выдерживало, срывалось в обрыв, отказываясь продолжать свой многолетний танец. Чаще всего таблетка нитроглицерина под язык возвращала сердце в наезженную колею, но были и такие (речь о сердцах), которые, исчерпав себя в борьбе с тяготами жизни или разрушенные различными пороками, рвались, словно сгнившая холстина, опрокидывая своих владельцев в смертельную пропасть в разных точках города.
Мы с Мариной торопливо шли по улице. Временами принимались бежать, но когда у меня не хватало сил и сбивалось дыхание, вновь переходили на шаг.
Лица и фигуры прохожих, различные предметы у них в руках (портфели, сумки, цветочные букеты, хозяйственная утварь и прочее), коллажи из сигаретных пачек, призывно выглядывающие из-за стекол ларьков, торгующих табачными изделиями, журнальные и газетные развалы в киосках «Союзпечати» – всё это бежало мимо, едва успевая зафиксироваться в сознании, словно короткие кинокадры, смонтированные неумелой рукой.
– На «Новости дня» мы уже опоздали, а для меня киножурнал перед фильмом – главная вещь! – ворчу я. – Там иностранная кинохроника, где ты еще ее посмотришь? Убийство Кеннеди или бомбардировки американцев во Вьетнаме!
– Ты такой кровожадный? – шутит Марина.
– Я не кровожадный, а просто хочу знать, что происходит в мире!
– Ты сам виноват, – отвечает она. – Должен был предупредить меня заранее.
Она двигается легко, без видимых усилий, словно бег или быстрая ходьба ее привычное состояние. Я же бегу из последних сил. Сердце мое сильно бьется, и мне кажется, что еще немного, и я рухну на асфальт, рассыплюсь на части, как глиняный сосуд, а оно (сердце) выскочит наружу и полетит под колеса какой-нибудь несущейся мимо автомашины. К счастью, цель уже перед нами. Вот он, кинотеатр «Форум».
Я дергаю на себя ручку двери, и мы вбегаем внутрь.
В кинотеатре «Форум»
Миновав небольшой вестибюль, мы утыкаемся в билетершу, стоящую на входе в фойе. Это женщина среднего возраста, с большой грудью и недовольным лицом.
– Стоп! – осадила она нас. – Вы куда, молодые люди?
– Как – куда? В кино, куда ж еще!
– Да что вы! – билетерша так искренне удивилась, словно стояла не на входе в фойе кинотеатра, а на проходной завода. И добавила, уперев руки в бока: – Шел до девок Иван, а попал в балаган!..
Я заглянул через плечо билетерши, думая, что, может быть, мы в спешке и вправду не туда зашли, как тот Иван, которого она упомянула. Но приглушенная музыка и голоса актеров, доносившиеся из зала, цветные плакаты, полыхающие на стенах в фойе, и фотопортреты популярных киноартистов с жизнерадостными улыбками убедили меня в правильности нашей цели.
– Позвольте… вот у нас билеты, – сказал я, извлекая из кармана два билета.
Билетерша взглянула на обратную сторону билетов и вернула их мне.
– Вы явились слишком рано… – заметила она язвительно и, делано зевнув, выпятила свою внушительную грудь.
– Как рано? – Я тоже взглянул на обратную сторону билетов, где было указано время сеанса. – Ну, вот же: начало в восемнадцать десять, мамаша!
– Я тебе не мамаша! – оборвала она меня резко. И добавила с простецкой грубоватостью: – Если б у меня был такой сынок, я бы, наверно, повесилась! – И продолжила, поменяв позу: – В общем, люди вы грамотные, правила знаете. А в них сказано, что вход в зал после третьего звонка запрещается. Киножурнал давно прошел, вот уже двадцать минут катиться картина.
– Жаль! – огорчилась Марина.
– Вход, конечно, согласно правилам, после третьего звонка запрещен… – признал я существующее положение вещей. И добавил многозначительно: – Но не всем! Есть исключения.
Билетерша скептически оглядела меня.
– А ты кто такой будешь, ежели правила не для тебя? Маршал? Или начальник киносети?.. – И крикнула кому-то в глубину фойе: – Зинаида! Глянь: маршал объявился… Еще вчера мамкину сиську сосал, а теперь – маршал!
– Зачем же, маршал… – ответил я, продолжая играть роль. – Я из другого ведомства.
– Из какого же?
– Из отряда подготовки космонавтов, слышали о таком? – пояснил я, стараясь придать себе соответствующее выражение. А что еще оставалось делать? Либо уходить, либо что-то врать.
Марина хмыкнула, что не осталось незамеченным билетершей.
И та приняла игру: скучно стоять на дверях полдня, а тут что-то новенькое.
– Значит, ты космонавт?
– Из отряда подготовки…
– А чего же хлипкий такой?
– В нашем деле чем меньше вес и рост, тем лучше… На Луну мужику весом в сто килограммов добраться труднее, чем такому хлипкому, как я.
Билетерша покачала головой.
– Что-то я твоих портретов в газетах не встречала…
– А их не было. Меня еще в космос не запускали. Вот полечу – тогда и портреты будут.
Женщина сощурила глаза:
– А документ у тебя имеется, что ты в отряде космонавтов?
– Имеется.
– Покажь.
Я пошлепал себя по карманам.
– Ах, черт!.. Дома забыл.
Билетерша понимающе кивнула.
– Ты его, наверно, в ракете забыл…
– Вот-вот, на тренировке!
– Это когда ты врать тренировался?
И она расхохоталась, радуясь своей шутке. Хохотала от души, покачиваясь всем своим большим телом. Хохот ее гулко растекся по фойе, качнул с порывом ветра шторы на окнах, добрался до стен, где уютно прижились фотографии киноартистов, и те поддержали ее веселье своими деланными улыбками.
Марина грустно взглянула на меня, давая понять, что пока я болтаю с билетершей, фильм летит вперед, и если не остановить эту дурную тетку, она прохохочет до конца сеанса.
– Послушай, бабка! – рассердился я. – Довольно шуток! У нас билеты и мы пройдем в зал!..
– Это я-то бабка?! – Билетерша покрылась красными пятнами. – Ах, ты, кролик драный! Пошел вон, пока я милицию не позвала!
Теперь уже совершенно ясно, что в зал она нас не пустит, и не следует понапрасну тратить на нее время. Конечно, я могу заставить эту бабу поступить иначе (ведь я всесилен в своем придуманном мире), но не хочу тотально влиять на события. Пусть всё будет так, как это бывает в обыденной реальности.
Я взял Марину за руку, и мы вышли на улицу.
Улица текла, чадила, мучилась от шума. Одновременно издавали звуки десятки ползущих машин, и в устах людей рождалось бесчисленное множество слов, нужных и ненужных, обреченных на мгновенную смерть.
В центре уличной круговерти стоял мокрый от пота регулировщик и обреченно махал своим жезлом, будто устал жить, разладился наподобие часового механизма; казалось, еще немного и он вовсе остановится.
Мысли мои вязли в уличном шуме, путались, и я никак не мог сообразить, что же теперь делать и куда пойти. Марина послушно ждала.
Решение пришло неожиданно. Я подхватил ее под руку и увлек в сторону Самотеки, где на углу Садового Кольца и Цветного бульвара находился небольшой (можно сказать, карманный), ресторанчик под названием «Нарва».
Через десять минут мы уже входили внутрь.
В ресторане «Нарва»
В вестибюле было прохладно – даже непонятно откуда туда притекал свежий воздух – и, что удивительно для этого времени года, пахло апельсинами.
В гардеробе под крючками для одежды дремал старик швейцар. Весь облик его был необычен, начиная от старомодной форменной тужурки с галунами и кончая большими седыми усами в стиле «а ля грозный полицмейстер». Казалось, по какой-то нелепой случайности его занесло сюда из дореволюционной России.
Вешалка была пуста. Только на одном крючке болтался чей-то светлый пиджак, то ли забытый здесь с незапамятных времен и ждущий своего хозяина, то ли кто-то из посетителей решил, что его пиджаку будет здесь удобнее, чем на спинке стула в зале. Как бы то ни было, но получалось, что старик швейцар охранял эту единственную вещь.
Уловив каким-то неясным образом легкий стук закрывшейся за нами двери, швейцар раскрыл веки, окинул нас мутным взором и опять замер, погрузившись в дрему.
Мы прошли в не очень большой и весьма уютный зал. Посетителей было полно. Почти все столики были заняты. В воздухе плавало сытое мурлыканье, нанизанное на сигаретный дым. Официантки в светлых блузках и передниках небесного цвета бегали по залу.
В углу, на крохотной эстраде, разместились четверо музыкантов. Одеты они были по разному, но имели одинаковое выражение скуки на лицах. Один из них, одутловатый, с хохолком волос на голове, перебирал клавиши пианино и негромко болтал с крупной накрашенной дамой лет сорока в сиреневом платье. Это была певица. Она стояла, положив декольтированную грудь на верхнюю крышку пианино. Второй и третий лабухи – один с кларнетом, другой с электрогитарой – стояли поодаль и играли какой-то неспешный вальсок. Четвертый, устроившись в углу и наклонив набок стриженую голову, бил палочками по двум барабанам, не пытаясь следовать за мелодией, а повинуясь каким-то своим, внутренним, одному ему понятным законам.
Еще при входе я обратил внимание на столик, расположенный в глубине зала, за которым спиной к окну сидел в одиночестве мужчина лет пятидесяти с крючковатым носом, бритой наголо головой, в очках в тонкой золоченой оправе. Оглядевшись и не найдя свободных мест, мы с Мариной направились к этому столику.
– У вас свободно?
Мужчина в очках окинул меня безразличным взглядом – так смотрит чиновник на неугодного посетителя – потом перевел взгляд на Марину. Тут глаза его заметно оживились, и он предложил нам сесть.
– Хочу вас предупредить, – произнес он доверительным тоном, когда мы уселись за столик, – долго будете ждать… Я минут тридцать мух считал, пока принесли мой заказ. – Его загорелый череп качнулся над столом сначала в одну, потом в другую сторону, словно маятник, отмеривающий время, и он сказал, обращаясь к Марине: – Извините, милая девушка, мою назойливость… но у меня такое чувство, словно мне знакомо ваше лицо.
«Он что же, решил за нею поволочиться?» – мелькнула у меня мысль.
– Нет-нет!.. – воскликнул мужчина, словно понял, о чем я подумал и хотел меня разубедить. – Ваша спутница напоминает мне одну знакомую давних лет. Можно сказать, одно лицо, представляете?! – Он хлопнул себя по нагрудному карману. – Жаль, у меня нету с собой ее фотографии…
– Неужели так похожа? – с недоверием поинтересовался я. Скажу честно, мне был неприятен его интерес к Марине.
– Поразительно! – бритоголовый вновь посмотрел на Марину. – Быть может, эта моя знакомая из прошлого – ваша мать… Скажите, как ее имя?
Я ухмыльнулся.
– Хочу вас огорчить, матери у нее нет… Только отец!
– Так не бывает. Когда-то все же была мать? – не сдавался наш собеседник. – Назовите ее имя. Ирина Велихова? Это было бы весьма любопытно!
– Нет, – ответила Марина.
Наш сосед явно разочарован – ему казалось, он ухватил ниточку, которая привела бы его к ответу, но это оказалось не так. Он удрученно хмыкнул, взял в руки нож, вилку и принялся раскраивать лоскут антрекота в своей тарелке.
Подошла официантка, краснощекая, с соломенными волосами, спросила, чего мы желаем. Предварительно оглядела нас, стараясь понять, каковы ее перспективы с точки зрения чаевых. Было видно, что мы пришлись ей не по вкусу. Особенно я. Я заказал бутылку красного сухого вина, порцию котлет для себя (Марина от горячего отказалась), два пирожных, яблоки и кофе. Официантка была из той дурной породы, которой клиент «до лампочки», если он не перспективен для ее кармана. Принимая заказ, она чиркала карандашом в своем блокноте, даже не глядя в него – ее внимание в эту минуту было приковано к столику у окна, где расположилась шумная компания во главе с летчиком майором, сидевшая в ресторане с самого обеда. Майор гулял по полной программе, сорил деньгами, при каждом подходе официантки, обслуживавшей его столик, засовывал в карман ее передника то трёшку, то пятерку. Наша официантка явно завидовала своей товарке, которой попался столь выгодный клиент. А уж если в постель такого затащить, то семь червонцев можно срубить – не меньше! Летчики – народ денежный, широкий, мелочиться не станут!
– Девушка! Записывая заказ, хотя бы в свой блокнот загляните! – не выдержала Марина, задетая наплевательским отношением официантки. – А то принесёте что-нибудь не то…
Официантка удивленно повернула к ней свое припудренное лицо – видимо, только что в паузе, где-нибудь на кухне, промокнула потную физиономию и навела лоск. Не совсем, правда, удачно – четкий след от пудры виднелся возле подбородка.
– Не бойся, милая, разберусь! – сказала она, скривив рот. – Такая молодая, а уже нерьвная!
Она сунула блокнот в карман передника и удалилась с гордым видом, словно жила не на зарплату официантки, а являлась состоятельной владелицей фамильного замка где-нибудь под Реймсом или в Саксонии.
Музыканты кончили играть и отправились на перерыв, утирая платками потные лица.
Марина с интересом оглядывала зал. Посмотрев на нее, я стал размышлять, о чем она думает в данную минуту? Каков ход ее мыслей? Придумать персонаж, его внешность не так уж сложно, намного труднее сочинить его внутренний мир, как это, к примеру, умели делать Толстой или Чехов. Если этого нет, перед нами будет не живой человек, а нечто вроде конфетной обертки. А в жизни и так хватает фантиков!
Тост
Официантка на удивление довольно быстро принесла бутылку вина, пирожные и вазу с яблоками. Открыла бутылку. Можно было начинать пировать.
– Ну, что же, выпьем? – предложил я. – Сегодня торжественный случай: мы впервые с тобой ужинаем. Нужно что-то сказать по этому поводу. Без тоста пить вино… все равно, что пить компот или воду.
– В чем же дело? – сказала Марина. – Я слушаю, говори.
– Скажу честно, я не мастак по этой части… Не умею красиво говорить. Вот грузины – настоящие мастера этого дела! Дай только повод!
Наш сосед, отодвинув тарелку, вмешался в наш разговор.
– Что, друзья мои, у вас затруднение?
– В некотором смысле, – согласился я.
– Могу кое-что вам предложить… Только из личных симпатий!
– Интересно! – мы оба внимательно уставились на него.
Наш сосед вынул спичку из коробка, отломил головку. Сунул спичку между губ, и она лихо прокатилась у него из одного уголка рта в другой. Он явно тянул время, выдерживая паузу, как хороший артист в театре.
– Ну… мы слушаем! – заинтригованно воскликнула Марина.
Бритоголовый молчал еще несколько мгновений, испытывая наше терпение, потом, прищурившись, наподобие сытого кота, заговорил:
– Поводов для тостов много… Можно выпить за все, что угодно… К примеру, за это милое заведение! Хотя в нем нет ничего милого. За музыкантов, которые здесь наяривают… При желании можно выпить за отсутствующих друзей… Но я вам предлагаю поднять тост… за меня!
Я чуть не поперхнулся от такого нахальства: мало того, что этот мужик влез в наш разговор, он еще предлагает выпить за него! Похоже, он не в своем уме.
– Интересно! – возбудился я. – С чего это нам пить за вас? Мы вас не знаем – кто вы, что вы? Пятнадцать минут по-соседски за одним столиком – это ровным счетом ничего…
– Это не повод, хотите вы сказать, – договорил за меня наш сосед и широко улыбнулся. – И всё же мое предложение остается в силе. Мы часто что-то неприемлем в нашей жизни, относимся к тому, что нам предлагают скептически, а потом выясняется – в том, отчего мы отказались, был смысл, и немалый!
– Это всё слова! – заметил я. – Нельзя ли яснее?
– Во всяком случае, должны быть хоть какие-то основания, чтобы возникло желание произнести тост за незнакомого человека, – заметила Марина.
– Основания есть… Отвага! Смелость человека, который надолго покидает родину.
– Любопытный поворот! – усмехнулась Марина, наш собеседник ее забавлял. – Значит, вы уезжаете из страны?
– Утром в воскресенье улетаю в США… На целый месяц.
– Туристом?
– Командировка.
– Месяц в Штатах – это классно! – оживился я, зная, что у нас даже в страны социалистического лагеря, с которыми мы задружились после войны, выпускают с трудом. И подумал: «Этот тип, вероятно, сотрудник Лубянки – чего, в таком случае, ему опасаться?» И спросил: – В чем же будет ваша смелость?
– Такие путешествия всегда непредсказуемы и опасны. Поэтому предлагаю выпить: за смелость и отвагу товарища N и всех прочих, кому предстоит работа за кордоном!
Я не стал выяснять у нашего собеседника, чем он занимается. По дипломатическому ли он ведомству или служит в разведке, всё равно не скажет правды. Тем более случайным людям в ресторане. И все же, переглянувшись с Мариной, я решил, смеха ради, принять его предложение.
– Ладно. Выпьем за отвагу товарища N!
Улыбаясь, мы отпили вино из бокалов.
– А теперь расскажите, – обратился я к нему, – что там, в Соединенных Штатах, для вас такого страшного? Если вы рядовой гражданин, а не по ведомству разведки?
– Как что?! – бритоголовый удивленно посмотрел в мою сторону: вроде, взрослый парень, а задает глупые вопросы. – Места там неспокойные… Повсюду гангстеры, наркоманы! Городская преступность зашкаливает! А я всё же не из Тмутаракани африканской, а из Советского Союза, считайте, опасно вдвойне. Утром выходишь из отеля и не знаешь, что ждет тебя в следующую минуту! Жизнь, можно сказать, постоянно на волоске!
Он сложил пальцы пистолетом и сделал выразительное движение, словно хотел выстрелить в нашу бутылку с вином.
Марина как-то странно усмехнулась, видимо, каким-то своим мыслям. А я подумал: «Этот мужик явно с приветом!» И скептически заметил:
– Местные урки только вас и ждут, чтобы в очередной раз насолить Советам!
О пользе порно кинотеатров
Товарищ N опять взглянул на меня, как на недоразвитого школьника.
– Не следует быть таким буквалистом! – ответил он. – Жизнь – непредсказуемое пространство… Поверьте мне, опытному человеку! – он навалился локтями на стол и, подавшись вперед, начал свой рассказ. – Однажды в Париже (я был там по делам) со мной приключилась скверная история. Иду я, значит, по бульвару Осман, мирно прогуливаюсь, разглядываю девиц… Изучаю поведение местной публики, ее, можно сказать, порочные нравы… На витрины поглядываю. И что возмутительно: легкомысленный народец, разложенцы, а на витринах всё есть! В отличие от наших магазинов. В общем, иду, размышляю с некоторой печалью про такую классовую несправедливость, и вдруг чувствую: у меня за спиной что-то не так! И это что-то мешает мне дышать полной грудью и наслаждаться жизнью. Внутри аж похолодело! Я обернулся якобы на прошедшую мимо девушку посмотреть и вижу: две отвратительные рожи, то ли мафиози, то ли агенты спецслужб за мною по пятам идут. Один высокий, на голове серая шляпа, подбородок с кулак, плечи метра полтора в ширину! Второй худой, точно жердь, и лицо такое гаденькое… На глаза кепка надвинута. В общем, те еще хмыри! Посмотрел я на их рожи и сразу понял: о моем некрологе в газете мечтают, сволочи, о моей, можно сказать, досрочной кончине! Или ограбить хотят – тоже веселого мало!.. А деньги, надо сказать, у меня были. Командировочные плюс еще кое-какая мелочь. Нет, думаю, тараканы запечные, меня на «фу-фу» не возьмешь, я вам не чиграш! – Бритоголовый достал из кармана носовой платок, снял очки, протер стекла. Веки у него были припухшие, и без очков он походил на заплаканного ребенка. – В общем, стал я петлять, туда-сюда, сбивать их со следа… В один бутик завернул, в другой. Потом в бистро, а оттуда через черный ход в переулок… Но эти двое не отстают, прилипли ко мне, точно мухи к сладкому. Наконец я всё же уловил момент, запрыгнул в такси! Ну, думаю, оторвался. Посмотрел назад – и привет от Фиделя Кастро! Они за мною следом едут – тоже на такси. Я, было, совсем сник: с валютой и с родиной попрощался… Но тут меня осенила блестящая идея. Я бы даже сказал не идея, а целый фейерверк! Заключалась она в следующем: надо подъехать к какому-либо порно кинотеатру, где всякую похабель крутят, и спрятаться в зале. Родина, авось, меня за это простит, раз я в беде оказался! Эти стервятники попрутся туда за мной, увидят голых – пардон! – шлюх и прочее и непременно застрянут внутри – похабель смотреть. Я – советский человек – тут же сбегу, даже на экран глядеть не буду, а они – обмылки капитализма – этого не смогут! В общем, объяснил шоферу такси, что мне требуется. Он ухмыльнулся, но довез куда надо, где эту самую порнуху крутят. Купил я билет и быстрым ходом в зал, а там, в темноте, меня не скоро отыщешь. Зашел, спрятался за шторой у двери, жду. Глянул из-за шторы на экран, а там: мама моя родная! У меня аж дух захватило… то есть, я хочу сказать, в глазах потемнело от ужаса! Тем временем, мои преследователи прошли мимо меня в зал. Сели в кресла и стали оглядывать зрителей – меня искать… Потом посмотрели на экран, раз, другой – и пошло, поехало! До того забористо там всё было – глаз не оторвешь! Одним словом, увлеклись агенты. А я тут же за дверь и был таков! Больше я этих лягушатников не видел.
Товарищ N умолк. Было неясно, то ли он шутил, излагая всё это, то ли говорил всерьез. Мы с Мариной стыдливо переглянулись.
– Забавно! – заметил я. – Железный вы мужчина, если устояли в таком деле…
Транзистор в подарок
– Да уж! – согласился он, не обращая внимания на мою иронию. И опять, навалившись на стол, заговорил: – Была история еще паршивее! Западная Германия. Мюнхен. В отеле, где я жил, мне подарили транзисторный приемник – сувенир, вроде. Белокурый такой парень это сделал, глаза синие – сама невинность! Чистый Зигфрид из «Нибелунгов»! Подставить, видимо, хотел: якобы я кражу совершил, завладев этим транзистором, или еще что, не знаю. А может, внутри приемника взрывное устройство находилось, и в номере бы у меня оно сработало… Нет, думаю, шалишь, друже Зигфрид! Стал бы ты, бережливый немец, такую дорогую вещь даром отдавать. Меня на мякине не проведешь, я не Полкан безродный! Одним словом, объяснил я Зигфриду больше на пальцах, чем на словах, что, мол, признателен ему за такой подарок, и в качестве благодарности приглашаю его в бар посидеть, обмыть дружбу и всё такое. Он, конечно, обрадовался, закивал головой: я, я! Немцы же, они все падкие до шнапса! Ну, пошли мы в бар, сели у стойки. «Родина, – подумал я, – простит меня за то, что я с недругом пить буду». Взяли мы с ним по «сто» русской водки. Потом еще четыре раза по «сто». После этого он головой в стойку, а я как новенький! В общем, вырубился красавец Зигфрид! А я расплатился за выпивку и тут же – за дверь! Перед уходом приемник этот дареный я Зигрфриду на колени положил. Мысль такая была: если там взрывное устройство, то пусть ему пузо разворотит, а не мне!
Эта история привела нас в смущение еще больше.
– Вы, видимо, крупный ученый, – иронически заметила Марина, – если повсюду за вами охотятся?
Товарищ N хмыкнул и сказал загадочным тоном парикмахера, скрывающим от клиентов, где он достает заграничный одеколон:
– Не в этом дело…
На эстраде опять появились музыканты. Вместе с ними вышла и пышногрудая певица, запела хриплым контральто:
- Друзья, купите папиросы!
- Подходи, пехота и матросы.
- Подходите, не робейте,
- Сироту меня согрейте,
- Посмотрите: ноги мои босы!..
Побег
Наш сосед, чувствуя приятную сытость после съеденного антрекота, охваченный вдохновением, подобно комику на эстраде, которого публика не хочет отпускать, развалившись удобно на стуле, продолжал:
– К счастью, мне всегда везло. Удавалось выбираться из самых, казалось, безвыходных ситуаций. – Он туманно взглянул на Марину. – Помните, я сказал, что вы мне очень напоминаете одну знакомую давних лет? Расскажу историю, с нею связанную. Это было давно. Был я тогда молод, красив, полон сил… Имел роскошную шевелюру, остатки которой сегодня приходиться брить! – бритоголовый усмехнулся, приложился к рюмке, где был коньяк, и продолжал. – В то время я встречался с девушкой, прелестной, умной, дочерью известного дипломата. Мы полюбили друг друга. Собирались пожениться. Я переехал в квартиру ее родителей. Будущее в радужных красках рисовалось в моем воображении. Европа, Америка, Азия – передо мной открывался весь мир! Благодаря отцу девушки я в те годы вращался среди известных людей искусства и науки. Владимир Иванович Немирович-Данченко, один из основателей Художественного театра, нередко обедал в доме моей невесты – или мы у него? Не помню! Алексей Толстой несколько глав романа «Петр Первый» написал, сидя с бутылкой водки у нас на кухне. Захаживал сыграть партию шахмат с моим будущим тестем сталинский сокол Валерий Павлович Чкалов… Михаил Булгаков читал нам главы из своих «Записок покойника», веселя гостей… Воспоминания эти приятно тешат мою душу.
«Врет безбожно!» – подумал я.
– Сколько же вам лет? – спросила удивленная Марина.
– Немало, – признался товарищ N, – но в старики меня записывать еще рано… Так слушайте продолжение этой истории! Всё было замечательно, даже слишком. Но в один прекрасный день я задумался над своим положением. И серьезно задумался. За что она меня любит, моя прелестная невеста? И любовь ли это? Кто я? – рядовой технолог, бывший рабфаковец, а она – дочь известного человека, способная журналистка, красавица! Что-то здесь не так, есть что-то неясное, – рассуждал я. Когда мы оставались с нею наедине, после бурных минут любовной страсти, лежа на тахте, она всякий раз терзала меня одной и той же просьбой: «Милый, расскажи что-нибудь… У тебя в запасе столько историй, и так занятно получается… Зощенко блекнет!» Признаюсь вам, она с какой-то болезненной, непонятной для меня страстью любила слушать мои истории, и это с определенного момента тоже стало мне казаться подозрительным. Я знал, что до меня у Иры был роман с одним из работников кино и расстались они при весьма неясных обстоятельствах – этот парень после того, как порвал с нею, исчез. С концами! И это тоже настраивало меня на подозрительный лад… Время, сами знаете, какое было. Аресты, судебные процессы, бесконечные поиски врагов… А может, она работает на НКВД, моя невеста? – думал я. И по заданию органов проверяет, насколько я лоялен к советской власти? Дядя у меня царский офицер, бежал после гражданской в Константинополь, мать тоже из дворянского сословия. Или, что не менее ужасно, я являюсь для нее подопытным кроликом, жизнь которого она исследует во всех подробностях, чтобы при случае сделать этого «кролика» героем погромного фельетона, клеймящего мещанство, или персонажем книги, бичующей буржуазные пережитки. У меня голова раскалывалась на части от этих мыслей… И вот однажды, когда было решено оформить наши отношения регистрацией в загсе, я не выдержал. «Так жить нельзя!» – сказал я себе. И, дождавшись удобного момента, когда Ира с подругой были на пляже (дело происходило в Ялте на отдыхе), я побросал свои нехитрые пожитки в чемодан, сел в поезд и уехал. Уехал на другой конец нашей необъятной страны – в славный город Хабаровск, расположенный на берегу Амура. Уехал подальше от Иры, ее родителей, их энкаведешных связей, и от всех этих Немировичей-Данченко с Алексеями Толстыми в придачу… Я знал: там меня никто искать не станет. Конечно, мне было трудно, я страдал, мучился от того, что расстался с любимой… Случалось, буквально лез на стену, оттого, что не могу ее увидеть. Но дело было сделано…
Товарищ N умолк. Некоторое время сидел неподвижно, глядя в одну точку. Возможно, перед ним в пространстве светилось лицо этой давно канувшей в лету прелестной девушки, которую он бросил, но так и не смог забыть.
Мы с Мариной молчали. Рассказ произвел на нас гнетущее впечатление. Мы собирались посмеяться над очередным приключением сверх бдительного обывателя, а вышло наоборот.
Певица же на эстраде продолжала свое:
- Подходите, не робейте,
- Сироту меня согрейте,
- Посмотрите: ноги мои босы!..
На этих словах певица протягивала руки к залу и, как мне показалось, обращала свое страдальческое лицо к сидящему напротив эстрады кавказцу с одутловатыми щеками и щеточкой черных усов, терзавшему маслеными глазками ее внушительную грудь, словно только он один мог согреть ее, босоногую сироту, приторговывающую сигаретами.
Наш бритоголовый собеседник подозвал официантку. Когда та подошла, расплатился, щедро дав на чай, отчего у той сразу слетело с лица сонное выражение, и она подобострастно изогнула спину. «Любит дензнаки, любит! – подумал я, наблюдая за официанткой. И сам же себе ответил: – А кто их не любит?..»
Товарищ N посмотрел на нас с торжествующим превосходством:
– Я вижу, вы в некотором замешательстве, молодые мои друзья! Кто этот человек, задаетесь вы вопросом, что наговорил вам здесь с три короба? Ведь так?
– Не без этого… – согласился я.
– Не терзайтесь, я открою свой секрет. Вы мне оба симпатичны, и поэтому буду с вами откровенен… Моя фамилия Воркулов. Я из рода тех Воркуловых, что упомянуты Грибоедовым в «Горе от ума». Мой предок был его приятелем. Оба были отважные люди. Смею надеяться, что и во мне есть частица моего предка!
Он стоял в гордой позе, вытянув шею, и как будто прислушивался к движениям собственного кадыка, перекатывавшегося под дряблой кожей.
Мы с Мариной переглянулись.
– Не будем об отважных предках… – заметил я сдержанно. – От ваших историй, честно говоря, приходишь в уныние…
Можно было бы сказать резче, что они (истории его и поступки), скорее, свидетельство его трусости или внутренней слабости, а может, и просто болезни и уж никак не отваги, но я не стал его обижать.
– Вы вообще-то доверяли кому-либо в вашей жизни? К примеру, своей матери? – спросил я. – Или друзьям? Наверняка, они у вас были.
– Мой молодой друг! Я доверял многим, и не раз потом жалел об этом. Такова суровая правда жизни… Теперь по поводу ваших мыслей… Относительно того, чем продиктовано мое поведение – слабостью или болезнью? Вы же так подумали?.. Признайтесь!
Меня удивила его проницательность, но я промолчал.
– Так вот, – продолжал он, – это не трусость, это способ сохранения себя. Белка ведь тоже залезает на дерево, чтобы ее не задрал волк. Неразумно было вести себя иначе. Время было слишком жестоким. Оно беспощадно выбрасывало каждого, кто не мог в него встроиться… Вам этого не понять! Вы тогда еще, в лучшем случае, числились в младенцах. Ведь вам сейчас двадцать или чуть больше. Верно? Никакие рассказы не дадут ощутить то время собственной кожей, как его ощущали мы! Не спешите выносить свой приговор… – на этом он завершил свой монолог.
Затем раскланялся и… пошел, прихрамывая, к выходу. И исчез из нашей жизни. По всей вероятности, навсегда.
Некоторое время мы сидели молча. Потом также молча выпили вина.
Обольститель
Неожиданно к нам подошла официантка, но не наша, а другая, обслуживавшая столики в углу зала. Это была рослая полноватая девица с потным от беготни лицом. Загадочно ухмыльнувшись, она протянула Марине сложенный вдвое листок бумаги, вырванный из записной книжки.
– Это вам!
Признаюсь, меня это в немалой степени удивило. Кто же в этом зале мог написать Марине записку? Прямо чудеса какие-то!
Марина прочла записку, протянула ее мне.
– Прочти… – И повернулась к официантке, желая выяснить детали, но та уже убежала.
Я взял записку. Наглые, чуть с наклоном строчки пронеслись перед глазами, точно конькобежцы. Лицо обдало жаром, словно я близко наклонился к огню костра. Вот текст записки: «Девушка! Хочу с вами поговорить. Жду вас через десять минут в вестибюле. Если ваш конюх спросит, куда вы, скажите, в туалет. Приходите, не пожалеете».
Я залпом осушил свой бокал с вином, оглядел зал. Кто этот «шутник», написавший записку? За каким сидит столиком? И что он себе воображает? Что я безмолвная статуя, от которой так запросто можно увести девушку?.. Но в следующую минуту я успокоил себя. А чего я, собственно, так разволновался? Это же смешно! Какой-то бойкий самец прислал записку Марине, не догадываясь, что она всего лишь выдумка, фантом! Он думает, что ее плоть реальна и рисует похотливые планы. Представляю, как вытянется его физиономия при открытии, что Марина – это не реальное существо, а плод фантазии и не более того. Хотя таких ушлых типов трудно удивить. Фантазия, говорите? Выдумка? А черт с ним! И фантазию можно отыметь!











