Читать онлайн Письма. Том второй
- Автор: Томас Вулф
- Жанр: Документальная литература, Биографии и мемуары, Литература 20 века
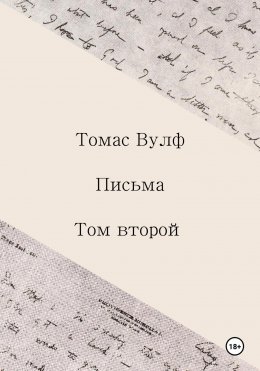
Введение Элизабет Ноуэлл из книги «Избранные письма Томаса Вулфа»
Самыми интересными письмами Томаса Вулфа были те, которые он никогда не отправлял. Среди его бумаг, хранящихся сейчас в Гарварде и Университете Северной Каролины, есть множество таких писем, написанных с характерной для него искренностью, красноречием и живостью, но просто не отправленных. Причины тому были самые разные. Во-первых, Вулф обычно был слишком погружен в свой творческий мир, чтобы совершать обычные жизненные действия, такие как покупка конвертов, марок, ручки и чернил, не говоря уже о том, чтобы не забыть отнести письмо в почтовый ящик. Кроме того, его жизнь была сплошной чередой увлечений и прерываний: если что-то мешало ему закончить письмо, у него редко находилось время или желание вернуться к тому, на чем он остановился. И еще одно: его абсолютная доверчивость и отсутствие сдержанности иногда сменялись приступами осторожности или даже подозрительности: он мог вдруг почувствовать, что написанное им слишком неосмотрительно, и прерваться на середине предложения. Потом он в нерешительности ходил по комнате, задумчиво втягивал верхнюю губу в нижнюю, потирал затылок или шею, засовывал руку в рубашку, потирал грудь и говорил: «Ну, я не знаю…» и переходит к другим делам. Иногда, если вопрос, о котором идет речь в письме, неоднократно приводил его в ярость или возмущение, он наконец брался за него, дописывал, отправлял по почте и завешал этим. А иногда он переписывал его снова и снова, пока версия, которую он отправлял по почте, не превращалась лишь в краткую и ни к чему не обязывающую записку. Но ему было хронически трудно принимать решения, так что по большей части он никогда не «доходил» до того, чтобы что-то еще сделать с письмом, а просто оставлял его лежать на письменном столе.
Кроме того, многие из его писем были написаны не столько для корреспондентов, сколько для него самого. Он утверждал, что «писатель пишет книгу, чтобы забыть ее», и то же самое он мог бы сказать о письме. С юности у него была привычка выплескивать на бумагу все свои мысли, эмоции и переживания, либо в черновых записях для возможной творческой работы, либо в дневниках, либо в письмах – и грань между этими разными формами письма часто была очень тонкой. Это излияние было психологической необходимостью: это было утешением для его одиночества, апологией ошибок, путаницы и трудностей его жизни, а также предохранительным клапаном для его сильных эмоциональных реакций. Выплеснувшись на бумагу, «для протокола», как он это называл, эмоция или переживание теряли свою первую навязчивую силу и могли быть отложены и полузабыты. В первую очередь оно воздействовало на самого Вулфа: передача его другим людям – дело другое, второстепенное.
Поэтому по одной или нескольким из этих причин его письма могли валяться на столе вместе с рукописями, счетами, расписаниями, пустыми конвертами, кулями и прочими бумагами, пока их не становилось так много, что не оставалось места для письма, и тогда он брал их и переносил на каминную полку, в книжный шкаф, бюро, кресла или, за неимением другого места, на пол. Там они оставались неделями, месяцами и даже годами, пачкаясь угольной пылью Нью-Йорка, Бруклина, Лондона или любого другого места, где бы он ни находился, пока не наступало время переехать в новую квартиру или отправиться в лихорадочные путешествия, которые были для него одновременно отдыхом и обновлением. В последний возможный момент он погружался в страшную работу по упаковке вещей и запихивал все бумаги в потрепанные чемоданы или большие сосновые упаковочные коробки, которые он специально для этого приобретал у Скрибнерса. С этого момента коробки становились частью огромного скопления рукописей и других бумаг, которые он бережно хранил, фактически единственной постоянной собственностью, которая у него была.
В книге «О времени и о реке» Вулф описывает вещи Юджина Ганта: «записные книжки, письма, книги, старая обувь, поношенная одежда и потрепанные шляпы, тысячи страниц рукописей, представлявших собой накопления… лет, – это огромное и не поддающееся описанию собрание прошлых событий, предрешенных свершений и потраченных целей, сам вид которых приводил его в уныние и ужас, но которые он, обладая огромной манией приобретательства, присущей ему по материнской крови, никогда не мог уничтожить». Сам Вулф не был таким экономным, как Элиза Гант, но у него было странное нежелание выбрасывать что-либо, и оно усиливалось до слепого собственничества, когда речь шла о листе бумаги – любом листе бумаги – с его письмом на нем. И вот, подобно тому как Элиза спала в комнате, «украшенной подвесками из шнуров и бечевок», Вулф жил и работал большую часть своей взрослой жизни в череде маленьких двухкомнатных квартир, обремененных его потрепанными чемоданами и огромными сосновыми упаковочными ящиками, полными рукописей и других бумаг. Более того, когда он путешествовал, ему приходилось либо брать это огромное скопление с собой, либо хранить у своего издателя или у какого-нибудь надежного друга. Он полушутливо жаловался на это: «Быть бродячим писателем с двумя тоннами рукописей – дело нелегкое», – говорил он. Однако если кто-нибудь из благонамеренных друзей, постоянно пытавшихся навести порядок в его жизни, предлагал ему избавиться от чего-нибудь, он становился таким же отчаянно упорным, как Элиза Гант. «Вот, дайте мне это!» – кричал он в возмущенной панике. «Мне это может понадобиться! Может быть, я когда-нибудь найду, где его применить!» – и бумага тут же отправлялась обратно в ящик. Дело в том, что он считал все свои огромные скопища бумаг, будь то рукописи, случайные заметки или письма, частью «ткани своей жизни», из которой создавались его книги. «Это, насколько я понимаю, самое ценное, что у меня есть», – писал он в 1937 году своему брату Фреду. «В ней моя жизнь – годы и годы работы и кровавого пота».
Это собрание бумаг Вулфа, хранящееся в настоящее время в коллекции Уильяма К. Уисдома в Хаутонской библиотеке Гарварда и в библиотеке Университета Северной Каролины, послужило основным источником материала для данного тома его писем. По большей части в сборник вошли неотправленные или черновые письма, разбросанные среди его рукописей, а когда существовали различные версии письма, была выбрана наиболее показательная, независимо от того, была ли она отправлена по почте или нет. В этих письмах Вулф редко указывал место и дату, а также приветствие. Эти данные были предположены после изучения дневников Вулфа и других источников информации о нем: когда они, вероятно, верны, они отмечены скобками, а когда сомнительны – скобками и вопросительными знаками. Те же обозначения использованы для слов, которые были неразборчивы либо из-за разрыва или разложения бумаги, либо из-за слишком корявого почерка Вулфа. Слова всегда кипели, лились из головы Вулфа слишком быстро, чтобы он успевал записывать их на бумаге, и поэтому его письмо было своего рода стенографией: основные буквы слова он выводил с некоторой степенью разборчивости, а менее важные обозначал серией поспешных начертаний или просто прямой линией. В результате его письма невозможно читать, расшифровывая их буква за буквой: нужно взглянуть на них с высоты птичьего полета через полузакрытые глаза, уловить общую суть, а затем руководствоваться интуицией, понимая, что он имел в виду, а не тем, что на самом деле могут сказать его торопливые курносые каракули.
В этот том также включены копии многих писем, набранных стенографистками, работавшими на Вулфа в последние восемь лет его жизни; письма из архива издательства Charles Scribner's Sons, а также письма его друзей и других корреспондентов, чьи имена с благодарностью перечислены в конце раздела «Благодарности». Письма Вулфа к матери опущены, поскольку они уже были опубликованы в отдельном томе, 1943 года: также его более личные письма к Алине Бернштейн были исключены из этого тома по ее просьбе, поскольку она намеревалась отредактировать их сама. Также опущены письма-анкеты, написанные в ответ на письма поклонников, юридические или обычные деловые письма, письма, в которых почти слово в слово повторяются материалы, написанные другим людям, или письма, которые касаются дел людей, которым Вулф писал, а не его самого. Другими словами, публикуемые здесь письма были отобраны из огромного массива корреспонденции Вулфа, чтобы рассказать историю его жизни с непосредственностью ее последовательных моментов.
Как и следовало ожидать, многие письма Вулфа посвящены личным отношениям, которые оказали на него сильное влияние, а также стали причиной горьких разочарований на протяжении большей части его жизни. Например, есть письма, выражающие его раннее обожание и последующее принуждение к разрыву, сначала с профессором Джорджем П. Бейкером, затем с Алиной Бернстайн и, наконец, с Максвеллом Перкинсом. Вулфа обвиняли в том, что он «отвернулся» от этих влиятельных в его жизни людей, и даже, по словам одного из авторов сенсации, «предал» их. Однако нет такого закона, который бы обязывал человека поступать на один и тот же курс в Гарварде более трех лет подряд, или вечно любить замужнюю женщину на девятнадцать лет старше его, или навсегда остаться с одним издателем, особенно если он чувствует, что от этого страдает его общая репутация и творческий талант. Более спокойным и рассудительным описанием произошедшего было бы сказать, что Вулф «отвернулся» от этих людей или перерос их и их доминирующее влияние на его жизнь. Но в отношении Вулфа трудно быть спокойным или рассудительным: его собственная эмоциональная интенсивность имеет тенденцию отражаться на всем и на всех, кто имеет к нему отношение.
Вулф постоянно оказывался вовлеченным в эти слишком жесткие личные отношения и последующую борьбу за освобождение от них в результате того, что он называл «поиском отца». «Самым глубоким поиском в жизни, как мне казалось, – писал он в «Истории одного романа», – тем, что так или иначе является центральным для всего живого, был поиск человеком отца, не просто отца своей плоти, не просто потерянного отца своей юности, но образа силы и мудрости, внешней по отношению к его нужде и превосходящей его голод, с которым можно было бы соединить веру и силу его собственной жизни». Эти его поиски объяснялись разными причинами: ностальгией по безопасности раннего детства, нарушенной частичным разрывом родителей; простым чувством утраты после смерти отца; желанием вырваться из-под власти матери; подсознательной тоской по ней; поиском Бога-Отца в религии, которую он интеллектуально не мог принять, но в которой все еще нуждался. Во всех этих интерпретациях есть что-то общее, но не следует забывать, что нормальный импульс всех подростков – привязываться к людям, которыми они восхищаются, и что Вулф сохранил многие подростковые черты до сравнительно позднего возраста.
Во всяком случае, и в письмах, и в романах он неоднократно описывал этот поиск и то разочарование, к которому он неизбежно приводил. «Почему это было так? Что это был за тягостный недостаток или потеря – если это был недостаток или потеря – в его собственной жизни?» – писал он в романе «О времени и о реке». «Почему при его яростном, горьком и ненасытном голоде жизни, при его неутолимой жажде тепла, радости, любви и общения, при его постоянном образе, который пылал в его сердце с детства, …он уставал от людей почти сразу же, как только встречал их? Почему ему казалось, что он выжимает из их жизни всю теплоту и интерес к нему, как выжимают апельсин, и тут же наполняется скукой, отвращением, тоскливой нудностью, нетерпеливой усталостью и желанием убежать, настолько мучительным, что его чувство превращалось почти в ненависть? Почему именно сейчас его дух был полон этого яростного волнения и отчаяния против людей, потому что никто из них не казался ему таким хорошим, каким должен быть? Откуда взялось это импровизированное и непоколебимое убеждение, которое крепло с каждым отказом и разочарованием, – что зачарованный мир находится здесь, вокруг нас, готовый протянуть нам руку в тот момент, когда мы решим взять его себе, и что невозможное волшебство жизни, о котором он мечтал, которого жаждал, было отторгнуто от нас не потому, что оно было призраком желания, а потому, что люди были слишком низменны и слабы, чтобы взять то, что им принадлежит?»
Иногда он находил мужчину или женщину, например профессора Бейкера, миссис Бернстайн или Максвелла Перкинса, которые были достаточно замечательны, чтобы выдержать этот первый натиск его пристального внимания, и казались подходящим «образом силы и мудрости… с которым можно было бы соединить веру и силу его собственной жизни». Тогда его охватит великий прилив сил, радости и уверенности: он будет буквально боготворить своего друга, провозгласит его или ее превосходство на весь мир и отдаст все ведение своей жизни в его или ее руки, повторяя, как заклинание: «Если ты будешь рядом со мной, все будет хорошо». Однако он никогда не мог успокоиться, пока глубоко не проникал в характер человека и не определял, в чем его суть: казалось, он всегда искал недостатки, хотя горячо надеялся, что не найдет их. Но мужчины и женщины, которым он поклонялся, в конце концов, были всего лишь людьми, и когда он наконец находил в них недостатки, то испытывал горькое разочарование и чувство, что его предали. «Я вижу на них все бородавки и болячки, – писал он в неопубликованном отрывке из романа «О времени и о реки», – все подлости, мелочности и пустяки… и ненавижу эти увечья в них в десять раз более жестоко и горько, чем если бы я видел их в людях, которых я не знаю или которые мне безразличны».
После этого начался период его попыток вырваться из общества, вызвавший столько ран. Из-за своей эмоциональной насыщенности Вулф не мог легкомысленно отстраниться от изжившей себя дружбы, как это делает обычный человек. Вместо этого он чувствовал моральную обязанность объяснить причины своего разочарования неполноценному другу. Иногда, как в случае с профессором Бейкером, он просто излагал свои претензии в письмах, которые никогда не отправлял по почте: иногда, как в случае с миссис Бернстайн, он высказывал их лицом к лицу в сценах яростного осуждения: иногда, как в случае с Максвеллом Перкинсом, он и писал, и говорил об этом, бесконечно, пока тот в отчаянии не воскликнул: «Если вам нужно уйти, уходите, но, ради всего святого, не говорите об этом больше!».
Однако, несмотря на все эти бесконечные объяснения и обвинения, друзья Вулфа, например, миссис Бернстайн и Максвелл Перкинс, были обычно повергнуты в состояние недоумения и шока его решением порвать с ними. Они все еще были преданы ему, и после постоянного общения с его жизненной силой, эмоциями, юмором, его огромным талантом и его основной добротой и благородством перспектива жизни без него казалась им невыносимо скудной и тонкой. Но если они пытались держаться за него, его одолевала своего рода клаустрофобия дружбы и «желание сбежать, настолько мучительное, что оно превращало его чувство почти в ненависть». Цитируя его любимые слова Мартина Лютера, он должен был покинуть их, он «не мог поступить иначе». Только после того, как он добился свободы от этих слишком тесных отношений, их можно было свести к какой-либо норме: первое чрезмерное поклонение герою и последующее слишком жестокое разочарование уравновешиваются друг другом, а заключительное высказывание состоит из отстраненной, ностальгической благодарности и любви.
Ибо сильнее «поисков отца» и полностью вытеснив их в последний год жизни, Вулф испытывал потребность расти, и расти в полной свободе. «Моя жизнь, более чем у кого-либо из моих знакомых, приняла форму роста», – писал он в своем «кредо» в конце книги «Домой возврата нет». И снова в письме Перкинсу от 15 декабря 1936 года: «Все мои усилия на протяжении многих лет можно описать как попытку постичь мой собственный замысел, исследовать мои собственные каналы, открыть мои собственные пути. В этих отношениях, в попытке помочь мне открыть, лучше использовать эти средства, которые я стремился постичь и сделать своими, вы оказали мне самую щедрую, самую кропотливую, самую ценную помощь. … Что касается помощи другого рода – помощи, которая пыталась бы сформировать мою цель или определить для меня мое собственное направление, – то я не только не нуждаюсь в такого рода помощи, но если бы я обнаружил, что она каким-либо образом вторгается в единство моей цели, или пытается каким-либо фундаментальным образом изменить направление моей творческой жизни – так, как, как мне кажется, она должна и обязана идти – я должен оттолкнуть ее как врага, я должен бороться с ней и противостоять ей всеми силами своей жизни, потому что я так сильно чувствую, что это окончательное и непростительное вторжение в единственную вещь в жизни художника, которая должна быть удержана и сохранена в неприкосновенности. … Я наконец-то открыл свою Америку, я верю, что нашел язык, я думаю, что знаю свой путь. И я буду воплощать в жизнь свое видение этой жизни, этого пути, этого мира и этой Америки, на пределе своих сил, на пределе своих возможностей, но с непоколебимой преданностью, целостностью и чистотой цели, которой никто не должен угрожать, изменять или ослаблять».
Этот сборник писем Вулфа рассказывает его собственными словами историю его взросления и открытий. Трагедия, конечно, в том, что эта история осталась незавершенной – его смерть в возрасте тридцати семи лет оставила нам возможность лишь строить догадки о том, к чему бы он мог прийти, будь он жив.
Письма
Маделейн Бойд
Гарвардский клуб
Нью-Йорк
8 января 1929 года
Дорогая миссис Бойд:
Сегодня вечером я получил ваше письмо из Парижа – оно было отправлено из Гарвардского клуба в Париж, Мюнхен, Вену и обратно. Я был готов написать вам в любом случае – я вернулся сюда в канун Нового года и уверен, что с тех пор звонил вам не менее десяти раз. В двух случаях я разговаривала с вашей горничной, оставил свое имя и попросил ее передать вам.
Миссис Бойд, я ужасно взволнован этой книгой. Я дважды виделся с мистером Перкинсом, и, если только я не сошлел с ума, они решили напечатать мою книгу. Впервые я увидел его на следующий день после Нового года – тогда мне показалось, что в этом мало сомнений, но вчера он подтвердил намерения. Я сказал ему, что хотел бы получить какие-то конкретные новости – что есть один друг, с которым я хотел бы поговорить. Он сказал, что я могу идти вперед; по его словам, они «практически договорились». Я сказал ему, что мне нужны деньги, и он ответил, что они дадут мне аванс. Не сердитесь на меня – я не говорил о деньгах; я попросил его дать для меня столько, сколько он сможет, и он сказал, что сможет дать 500 долларов, и что это необычно для первого романа.
В «Скрибнерс» прекрасно понимают, что вы – мой агент и что я ничего не буду делать, ничего не подпишу, пока не увижу вас. Я также хочу увидеться с адвокатом мистером Мелвиллом Кейном. [Для утверждения контракта перед его подписанием]. По вашей просьбе я посылаю вам письменное заявление, уполномочивающее вас быть моим агентом. Все, что было сказано в «Скрибнерс», я не могу изложить в коротком письме – я должен увидеть вас и поговорить с вами, – но они были удивительно щедры, как мне кажется, в том, что они готовы напечатать мою книгу. Конечно, я должен приступить к работе, и работать усердно, но у меня есть очень четкое представление о том, что мне нужно – они сделали очень подробные заметки, и мы их обсудили.
Мистер Перкинс велел мне немедленно приступить к работе, и я пообещал предоставить пересмотренную первую часть через десять дней. Он сказал, что через несколько дней я получу письмо от «Скрибнерс» – полагаю, дела должны вестись именно так. Мне кажется, миссис Бойд, в этом нет никаких сомнений.
Конечно, я прекрасно понимаю, какую огромную роль вы в этом сыграли, и если я разбогатею, ничто не доставит мне большего удовольствия, чем видеть ваше процветание. (Я полон энергии и надежды – я знаю, что мне предстоит большая работа, но с такой поддержкой я смогу сделать все. Хотя это деловой вопрос, я не могу не испытывать к вам теплых чувств, и я надеюсь, что мы оба будем процветать.
Это все на сегодня – уже за полночь, а я еще не ел. На другом листе бумаги я напишу заявление, в котором уполномочу вас быть моим агентом. Когда и где я могу с вами встретиться? Я уже почти потерял надежду застать вас дома.
Я снял квартиру на Западной 15-й улице, 27 (2-й этаж – телефона пока нет). Вы можете позвонить или написать сюда, в Гарвардский клуб, и оставить письмо. Я ничего не буду делать, пока не увижу вас.
Максвеллу Перкинсу
Гарвардский клуб
Нью-Йорк
9 января 1929 года
Дорогой мистер Перкинс:
Я получил ваше письмо сегодня утром и только что пришел с беседы с миссис Мадлен Бойд, моим литературным агентом.
Я очень рад принять условия, которые вы предлагаете мне для публикации моей книги «О потерянном» [Условия издания книги «О потерянном» («Взгляни на дом свой, Ангел»), предложенные в письме мистера Перкинса от 8 января 1929 года, заключались в авансе в размере 500 долларов и роялти в размере 10% с первых двух тысяч проданных экземпляров и 15% со всех последующих]. Миссис Бойд также полностью удовлетворена.
Я уже работаю над изменениями и правками, предложенными в книге, и передам вам новое начало приблизительно на следующей неделе.
Хотя это должно быть только деловое письмо, я хочу сказать вам, что с радостью и надеждой ожидаю своего сотрудничества со «Скрибнерс». Сегодняшний день – день вашего письма – очень важный день в моей жизни. Я вспоминаю о своих отношениях со «Скрибнерс» с любовью и преданностью, и надеюсь, что это начало долгого сотрудничества, о котором у нас не будет повода сожалеть. Мне предстоит еще многому научиться, но я верю, что справлюсь с этой задачей, и знаю, что во мне живёт гораздо лучшая книга, чем та, которую я написал.
Если у вас есть ко мне какие-то вопросы до нашей следующей встречи, вы можете обратиться ко мне по адресу: Западная 15-ая улица, 27 (2-й этаж, задняя дверь).
9 января 1929 года Вулф заключил контракт с издательством «Скрибнерс» на публикацию романа «О потерянном». Три дня спустя он написал письмо миссис Робертс на шестидесяти пяти страницах, в котором поблагодарил ее за жизнерадостное письмо в начале января. Вулф дал полный отчет о событиях, приведших к принятию и публикации «Взгляни на дом свой, Ангел», и рассказал о своих последних приключениях в Европе.
Маргарет Робертс
[Написано на конверте рукой миссис Робертс: «Мейбл, не вздумай потерять это письмо»]
Гарвардский клуб
Нью-Йорк
Суббота, 12 января 1929 года
[на верхней строчке]
Это ужасно длинное письмо – я хромой, и стал как тряпка, – мне жаль людей, которым придется читать это письмо, и жаль бедного дьявола, который его написал.
Дорогая миссис Робертс: Все, что вы пишете, способно тронуть и взволновать меня – мое сердце учащенно бьется, когда я вижу ваш почерк на листе бумаги, и я читаю то, что вы мне пишете, снова и снова, ликуя и радуясь каждому слову похвалы, которое вы мне возносите. Ничто из написанного вами так не взволновало меня, как ваше письмо, которое я получил сегодня, – за последнюю неделю после возвращения из Европы я переходил от одного счастья к другому, и осознание того, что Вы сейчас так щедро делите со мной мою радость и надежду, доводит термометр до точки кипения. Вот уже несколько дней я чувствую себя как человек из одного романа Ликока [Стивен Батлер Ликок (1869–1944), канадский экономист и юморист], который «вскочил на лошадь и бешено скачет во все стороны». Я буквально был таким человеком – временами я не знал, что с собой делать – я просто сидел в клубе, глядя на великолепное письмо издателя о принятии книги; я бросался на улицу и шел восемьдесят кварталов по Пятой Авеню через всю оживленную элегантную толпу позднего вечера. Постепенно я снова начинаю чувствовать себя на земле, и мне приходит в голову, что единственное, что нужно сделать, – это снова взяться за работу. Во внутреннем нагрудном кармане у меня лежит контракт, готовый к подписанию, а к нему прикреплен чек на 450 долларов, 50 долларов уже выплачены моему литературному агенту, миссис Эрнест Бойд [Нью-Йоркский литературный агент Мадлен Бойд (1885–1972). Изображена в роли Лулу Скаддер в романе «Домой возврата нет»] в качестве ее 10-процентной доли. Нет буквально никакой причины, по которой я должен ходить по Нью-Йорку с этими бумагами при себе, но в оживленной толпе я иногда достаю их, с нежностью смотрю на них и страстно целую. «Скрибнерс» уже составили контракт – я должен подписать его в понедельник, но, по своему обыкновению, они посоветовали мне показать его адвокату, прежде чем подписывать – поэтому в понедельник я иду с миссис Бойд к мистеру Мелвиллу Кейну, адвокату, поэту, сотруднику «Харкорт, Брейс и Ко» и лучшему адвокату по театральным и издательским контрактам в Америке. Я встречался с ним однажды, он прочитал часть моей книги, и с тех пор он мой друг и доброжелатель. Он сказал человеку, который послал меня к нему некоторое время назад [Алине Бернштейн], что я представляю собой то, чем он хотел быть в своей собственной жизни, что я один из самых замечательных людей, которых он когда-либо встречал. И когда вчера ему сообщили, что я продал свою рукопись, он был в восторге. Сейчас во мне столько нежности ко всему миру, что мой агент, миссис Бойд, беспокоится – она француженка, жесткая и практичная, и не хочет, чтобы я стал слишком мягким и доверчивым в деловых отношениях. Я написал в «Скрибнерс» письмо о согласии [Вулф написал Максвеллу Э. Перкинсу 9 января 1929 года: «Хотя это должно быть только деловое письмо, я должен сказать вам, что с радостью и надеждой ожидаю начала сотрудничества со «Скрибнерс». Сегодняшний день – день вашего письма – очень великий день в моей жизни. Я думаю о своих отношениях со «Скрибнерс» до сих пор с любовью и преданностью и надеюсь, что это начало долгого сотрудничества, о котором у них не будет причин сожалеть» (Wolfe and Perkins, To Loot My Life Clean, 8). Перкинс (1884–1947) – самый известный книжный редактор двадцатого века. Он начал работать в издательстве «Скрибнерс» в 1910 году в качестве менеджера по рекламе. В 1914 году он стал редактором, а в 1932 году – главным редактором и вице-президентом. Помимо писателей, которых Вулф упоминает в этом письме, среди авторов Перкинса были Марджори Киннан Роулингс, Зора Нил Херстон, Эрскин Колдуэлл и Кэролайн Гордон], в котором я не мог сдержать себя – я говорил о своей радости и надежде, о своей привязанности и преданности к издательству, которое так хорошо ко мне отнеслось, и о своей надежде, что это станет началом долгого и счастливого сотрудничества, о котором у них не будет причин жалеть. В ответ я получил очаровательное письмо, в котором они сообщали, что мне никогда не придется жаловаться на интерес и уважение, которые они испытывают к моей работе. Сама миссис Бойд была почти так же счастлива, как и я – хотя она является агентом почти всех значимых французских авторов в Америке, и публикации и акцепты для нее обычное дело – она сказала, что это большой триумф и для нее, поскольку «Скрибнерс» считают меня «находкой» и отдают ей должное за это. Все это очень смешно и трогательно – семь месяцев назад, когда она получила книгу и прочла некоторые ее части, она заинтересовалась – рукопись была слишком длинной (по ее словам), но в ней были прекрасные вещи, она подумала, что кому-то это может быть интересно, и так далее. Теперь я «гений» – ей уже жаль бедняг вроде Драйзера и Андерсона – она сказала издателям, что у этого мальчика есть все, что есть у них, помимо образования, биографии, (и т.д., и т.п.) «Конечно, они бедняги, – сказала она, – но это не их вина, у них не было возможности получить образования – и так далее, и так далее». Кроме того, она изобразила других издателей рвущими на себе волосы, скрежещущими зубами и стенающими из-за того, что они не издают эту книгу. Она дала ее почитать одному или двум издательствам – все они сказали, что в ней есть прекрасные вещи, но она слишком длинная, они должны подумать над ней и так далее, а тем временем (говорит она) «Скрибнерс» принял ее. Она сказала, что неделю назад разговаривала с одним из них (Джонатан Кейп, так его зовут) – он сразу спросил «Где ваш гений, и когда я смогу его увидеть?» Она сказала ему, что он у издательства «Скрибнерс», и (несомненно, стоная от горя) он умолял ее дать ему первый шанс на мою следующую книгу. Мы должны сгладить все это – ее галльскую стремительность, я имею в виду, – а я должен спуститься на землю и приступить к работе. Мне пришлось сказать об этом нескольким людям, и все почти так же рады, как и я, – университетские работники наперебой предлагают мне работу – я могу прекратить ее в июне, если захочу, говорят они. Это абсурд. Какая от меня польза в течение полугода – но они дадут мне больше денег, чем в прошлом году, меньше часов (8 или 10) и почти никакой бумажной работы. Теперь, когда все это случилось, я отношусь к преподаванию добрее, чем когда-либо – конечно, мои 450 долларов это лишь начало, и если книга пойдет хорошо, я должен ждать первого гонорара через 6 месяцев после ее публикации (так гласит обычный пункт моего контракта), а затем буду получать деньги каждые четыре месяца. Люди в университете искренне дружелюбны и желают мне добра – декан [Джеймс Бьюэлл Манн], богатый и прекрасный молодой человек (38 или 40 лет), в любой момент даст мне работу, но я думаю, что это скорее повышает мою ценность для них – это большое кишащее место, любящее рекламу. Люди из «Скрибнерс» хотят, чтобы я немедленно приступил к доработке романа, но они сказали мне, что думают, о том, чтомне придется искать работу позже – никто не знает, сколько экземпляров книги будет продано, конечно, и, кроме того, я должен ждать 8 или 10 месяцев после публикации романа, чтобы получить свои первые деньги (если они вообще будут). Но отбросьте эту мысль, миссис Бойд говорит, что контракт честный и щедрый – аванс в 500 долларов на первую книгу необычен – конечно, эти 500 долларов будут получены позже из моих первых гонораров. Контракт предлагает мне 10% от розничной цены книги до первых 2000 экземпляров; после этого – 15%. Поскольку книга очень длинная, она должна будет продаваться, я думаю, за $2,50 или $3,00. Вы можете прикинуть, сколько на этом можно заработать, но, ради Бога, не делайте этого.
Этой очаровательной слабости я поддался, и все слишком неопределенно. Есть также оговорки о переводе и публикации за рубежом, а также о публикации в любой другой форме, кроме книжной (это означает сериалы и фильмы, я полагаю, но со мной этого не случится), но если это произойдет, издатель и автор разделят прибыль. Миссис Эрнест Бойд также признана моим агентом и деловым представителем, и все чеки должны быть оплачены ей. Это может заставить моих экономных друзей скривиться – она также получает 10% от всех моих доходов (я надеюсь, естественно, что ее доля составит не менее 100 000 долларов), – но это лучшее соглашение. Сколько усилий она приложила, чтобы добиться этого, я не знаю – тем не менее, она это сделала, и я с радостью заплачу 10% – это обычная агентская ставка. Кроме того, я считаю, что это очень хорошо, что мной управляет практичный человек, который немного разбирается в бизнесе. Хотя это дело бизнеса, и мне не следует впадать в сентиментальность, я не могу не испытывать теплых чувств к старой даме, которая все это устроила. Рано или поздно я бы справился и сам, но сейчас она, конечно, очень мне помогла. Наконец, я хочу начать и продолжить свою жизнь, оставаясь порядочным и верным тем людям, которые поддерживали меня – по деловым или личным причинам. Если мы омрачаем и удешевляем качество нашей реальной повседневной жизни, то, как мне кажется, это рано или поздно проявится в том, что мы создаем. Миссис Бойд очень рада, что «Скрибнерс» взялся за это – она сказала, что я должен этим гордиться, что они самые осторожные и требовательные издатели в Америке – другие публикуют 50 или 100 романов в год, а «Скрибнерс» только 10 или 12, хотя они выпускают много других книг. Они также пытаются привлечь молодых писателей – сейчас у них есть Ринг Ларднер, Скотт Фицджеральд и Хемингуэй (не говоря уже о Вулфе). Они читали отрывки из моей книги Ларднеру и Хемингуэю за неделю до моего возвращения домой – боюсь, несколько грубоватые и вульгарные отрывки.
Наконец, я должен сказать вам, что десять дней, прошедшие с тех пор, как я вернулся домой на итальянском корабле, были самыми замечательными из всех, что я когда-либо знал. Они похожи на все фантазии о признании и успехе, которые были у меня в детстве, только еще более замечательные. Вот почему мое видение жизни становится более странным и прекрасным, чем я считал возможным несколько лет назад, – это фантазия, чудо, которое действительно происходит. Во всяком случае, для меня. Моя жизнь, с самого начала, была странной и чудесной – я был мальчиком с гор, я происходил из странной дикой семьи, я вышел за пределы гор и узнал штат, я вышел за пределы штата и узнал нацию и ее величайший университет, лишь волшебное название для моего детства, я отправился в величайший город и встретил странных и прекрасных людей, хороших, плохих и уродливых, я отправился за моря один и прошел по миллионам улиц жизни – когда я был голоден, без гроша в кармане, анемичные графини, вдовы разорившихся оперных певцов – всевозможные странные люди – пришли мне на помощь. В тысяче мест со мной происходило чудо. Так как я был без гроша в кармане и сел на один корабль, а не на другой, я встретил великую и прекрасную подругу [Алину Бернштейн], которая поддерживала меня во всех муках, борьбе и безумии моей натуры в течение более трех лет и которая была здесь, чтобы разделить мое счастье в последние десять дней. То, что другой человек, для которого успех и еще больший успех постоянны и привычны, должен получить такое счастье и радость от моего скромного начала, – еще одно из чудес жизни. Десять дней назад я вернулся домой без гроша в кармане, измученный ужасными и удивительными приключениями в Европе, всем, что я видел и узнал, и передо мной было только ненавистное преподавание – теперь ставшее странно приятным, – или работа в рекламе. На следующий день после Нового года – поистине Нового года для меня – все началось: требование издателя по телефону, чтобы я немедленно приехал к нему в офис, первая долгая встреча, на которой я сидел дикий, взволнованный и дрожащий, когда до меня наконец дошло, что кто-то наконец-то определенно заинтересован, указания уехать и обдумывать сказанное два или три дня, вторая встреча, когда мне сказали, что они точно решили взяться за это, официальное письмо с условиями контракта, наконец сам контракт и вид благословенного чека. Разве это не чудо? Что случилось с несчастным парнем без гроша в кармане за десять дней? Разве детские мечты могут быть лучше этого? Миссис Бойд, пытаясь немного успокоить меня, сказала, что скоро наступит время, когда все это мне надоест, когда даже заметки и вырезки из прессы будут значить для меня так мало, что я не стану на них смотреть – так, по ее словам, чувствует и действует ее муж, известный критик и писатель. Но разве не прекрасно, что это случилось со мной, когда я был еще молод и достаточно восхищен, чтобы быть в восторге от этого? Возможно, это никогда больше не повторится, но у меня было волшебство – то, что Еврипид называет «яблоня, пение и золото». О моем путешествии по Европе на этот раз, обо всем, что случилось со мной, и о том, как все это началось, я могу рассказать лишь вкратце: о моих приключениях на корабле, о моих скитаниях по Франции, Бельгии и Германии, обо всех книгах и картинах, которые я видел и покупал, о моей новой книге [После завершения работы над «О потерянном» в марте 1928 года Вулф начал работу над новым романом «Речной народ». Роман был задуман как более обычная, коммерческая книга, и был основан на впечатлениях Вулфа от жизни в Бостоне, Нью-Йорке и Райнбеке и его скитаниях по различным европейским городам. Вулф изображает себя писателем Оливером Уэстоном, а сюжет вращается вокруг круга общения богатого молодого художника (в основе – Олин Доус) и его любви к австрийской девушке (Грета Хильб, с которой Вулф познакомился на борту корабля, возвращавшегося домой из Европы). Надуманный сюжет не заинтересовал Вулфа, хотя он продолжал работать над ним на протяжении почти всего 1928 года. Его начальные попытки сохранились в Гарвардском университете]. В настоящее время написана треть книги о моем пребывании в Мюнхене и странном и ужасном приключении на Октоберфесте (со всеми его странными и прекрасными последствиями) – как, обезумев от задумчивости собственного нрава, разочарованный и больной душой из-за того, что мою книгу не приняли, потерянный для всех, кто заботился обо мне – даже не оставив адреса, – больной тысячью болезней духа, я подставился под удар четырех немцев на Октоберфесте и, уже не заботясь, убил я или был убит, в грязи, темноте и под проливным дождем затеял ужасную и кровавую драку, в которой, хотя мой скальп был рассечен ударом каменной пивной кружки, а нос сломан, я был слишком безумен и дик, чтобы знать или заботиться о том, ранен я или нет, – и пришел в себя только после того, как остальные потеряли сознание или убежали, а я был задушен до потери сознания, причем тот, кто остался, и его бедная жена, кричала, упала на мою спину и царапала мне лицо, чтобы заставить меня ослабить хватку на его горле. Только тогда я осознал крики и вопли окружающих меня людей, только тогда я понял, что то, что душило и слепило мне глаза и ноздри, было не дождем, а кровью; – тогда, пока я тупо искал в грязи свою потерянную шляпу, все люди кричали и вопили: «Хирурга! Хирурга! Хирурга! Хирурга!» Приехала полиция и взяла меня под стражу, сразу же отвезла к полицейским хирургам и перевязала мои раны. О прекрасных и трогательных последствиях этого ужасного и жестокого дела, в котором я впервые дошел до дна своей души и увидел, сколько в каждом из нас заложено силы для зла и безумия, плача внутри себя не из-за потери тела, а из-за растраты и потери души, и милых людей, которых я оставил так далеко позади себя, – обо всем этом я могу рассказать здесь немного. Но это странная и трогательная история [30 сентября 1928 года Вулф был ранен в Мюнхене во время пьяной драки с немецкими туристами на Октоберфесте. Он пролежал в больнице до 4 октября, проведя в качестве пациента свой двадцать восьмой день рождения. У него был сломан нос, и он получил несколько глубоких ран на голове, а также небольшие раны на лице. Он описал свои впечатления в книге «Октоберфест» (Scribner’s Magazine, июнь 1937 года) и более подробно изложил их в книге «Паутина и скала»]. Появление на следующее утро этого слепого и избитого ужаса, залитого кровью и грязными бинтами с головы до пояса в одной из крупнейших клиник Германии, сухого и чопорного американского профессора-медика [Американский врач Юджин Ф. Дю Буа, работавший в качестве волонтера в клинике доктора Фридриха фон Мюллера. Дю Буа отказался принять вознаграждение за свои услуги Вулфу], работавшего в течение 6 месяцев в Мюнхене с величайшим хирургом Германии – как он выдвинулся, взял меня под свою опеку, отвел к величайшему главному хирургу Германии [доктору Гехаймрару Лексеру], который заставил меня быть под его наблюдением и пробыть в его больнице 3 дня, о том, как медсестры, невинные и милые, как дети, ухаживали за мной и приносили мне еду, о том, как они брили мне голову, в то время как великий человек ворчал по-немецки и перебирал мой череп и многое другое своими толстыми пальцами мясника, о том, как американский доктор приходил ко мне дважды в день, приносил книги, фрукты и огромную доброту своего сердца – как в конце концов он отказался взять хоть пенни за свои услуги, нервно отступил, покраснел и сказал в своей чопорной профессиональной манере, что у него дома «сын почти такого же роста, как вы» – как потом он почти выбежал из комнаты, начищая свои очки. Потом о том, как, все еще избитый и синий, с пориком из черепа студента-дуэлянта, прикрывающим мою лысую голову, я отправился в Обераммергау, как одна из моих ран там открылась, и меня выхаживали человек, игравший Пилата (врач), и Иуда, и маленькая старушка, [Луиза Паркс-Ричардс, вдова художника Сэмюэля Ричардса, который учился в Королевской академии в Мюнхене. Миссис Ричардс впервые увидела страстотерпцев Обераммергау в 1890 году и осталась ими очарована. Ее книга «Обераммергау, его Страстная игра и игроки: A 20th Century Pilgri to a Modern Jerusalem and a New Gethsemane» (Munich: Piloty and Loehle, 1910), представляет собой рассказ на английском языке о Страстной игре, с личными воспоминаниями и фотографиями актеров и актрис] ей почти 80, которую я знал в Мюнхене – почти такая же сумасшедшая, как и я, мужа больше нет, дети умерли, даже название своей деревни в Америке она не всегда могла вспомнить – бродяжничала в 78 лет по всему миру, ненавидев немцев, которых она когда-то любила. Она написала о них одну книгу и работала над другой, но боялась, что умрет, и хотела, чтобы я пообещал написать ее за нее. Когда я отказался, мы поссорились, и она уехала из Мюнхена в гневе. Теперь, весь избитый, я снова приехал к ней – она была дочерью методистского священника, и, несмотря на долгую жизнь в Европе и на Востоке, не потеряла отпечаток этого – она безумно читала все статистические данные о незаконнорожденных детях в Мюнхене и Обераммергау, почти сходя с ума, когда обнаруживала вину своих обожаемых страстных игроков. О том, как я покинул Обераммергау, как через несколько дней она последовала за мной в Мюнхен; о том, как полиция чуть не свела меня с ума своими визитами, вопросами и проверками; о том, как бедная старушка стала моей сообщницей, чуть не сведя меня с ума своими советами и подозрениями, видя, как полицейский ищет меня за каждым кустом, и спеша предупредить меня в моем пансионе в любое время дня и ночи; о том, как однажды рано утром она увидела над Мюнхеном большой Цеппелин и пришла вытащить меня из постели, щебеча от волнения; о том, как с тех пор она жила только ради «Цеппелина», оставаясь в своем холодном пансионе почти целыми днями с радиотелефонами, прижатыми к ушам, ее старые глаза были яркими и безумными, когда она слушала новости о полете в Америку – о том, как ночь или две спустя люди из пансиона пытались достать меня, когда я был в театре, и как старуха умерла той ночью с телефоном у ушей, о том, как они достали меня на следующее утро и пошли к ней, чтобы увидеть ее там, и старого Иуду с его дочерью Марией Магдалиной, которая знала ее тридцать лет, – они приехали в то утро из Обераммергау, плакали нежно и тихо, они везли ее обратно, согласно ее желанию, чтобы похоронить там (она говорила мне это сто раз), как я спросил, не пойти ли мне с ними, и они посмотрели в мои дикие и кровавые глаза, на мой распухший нос, зашитую голову и изрезанное лицо, и медленно покачали головами. [Вулф также написал похожий рассказ о смерти миссис Ричардс Алине Бернштейн (смотрите Wolfe and Bernstein, My Other Loneliness, 235-236). После того как Бернштейн подвергла сомнению эту историю, Вулф признал, что это его собственная выдумка: «Как вы указали в своем письме, часть о смерти старушки – ложь. Я все еще слишком трясся, когда говорил свою ложь, чтобы сделать ее убедительной» (Wolfe and Bernstein, My Other Loneliness, 276). Ричард С. Кеннеди предположил, что Вулф «очевидно, хотел проверить свою вымышленную технику на двух людях, которые хорошо его знали» (Wolfe, Notebooks of Thomas Wolfe, l:204n26)]. Потом о том, как я понял, что должен покинуть это место, которое дало мне так много, – столько, сколько я мог вместить в то время, – и так много забрало. Мои легкие уже были сырыми от холода, я кашлял и был полон лихорадки – я чувствовал странную фатальность этого места, как будто я тоже должен умереть, если останусь здесь дольше. Поэтому в тот же день я сел на трамвай до Зальцбурга и смог спокойно вздохнуть только тогда, когда переехал австрийскую границу. Затем четыре дня в постели в Зальцбурге и дальше в Вену. Первые дни в Вене я все еще находился в каком-то оцепенении от всего увиденного и прочувствованного – полный усталости и ужаса; затем постепенно я снова начал читать, изучать и наблюдать. Затем, перед самым отъездом в Будапешт, первое письмо миссис Бойд с предупреждением о книге, которую я забыл, – издательство «Скрибнерс» заинтересовалось; я должен немедленно ответить.
Забыл об этом, не верил больше обещаниям и книге – отправился в Венгрию, походил среди диких и необузданных людей, азиатов, какими они были 1200 лет назад, когда пришли под предводительством Аттилы. Потом снова в Вену, а там – письмо из «Скрибнерс» [Максвелл Перкинс – Томасу Вулфу, 22 октября 1928 года: «Миссис Эрнест Бойд оставила у нас несколько недель назад рукопись вашего романа «О потерянном». Я не знаю, возможно ли разработать план, по которому она могла бы быть приведена в форму, пригодную для нашей публикации, но я знаю, что, если отбросить практические аспекты этого вопроса, это очень замечательная вещь, и ни один редактор не сможет прочитать ее, не будучи взволнованным ею и не преисполнившись восхищения многими ее отрывками и разделами» (Wolfe and Perkins, To Loot My Life Clean, 3)]. Наконец-то, казалось, появилось что-то действительно обнадеживающее. Вся эта история – странная, дикая, уродливая и прекрасная, я не знаю, что это значит, – но драма и борьба внутри меня в это время были гораздо интереснее, чем чисто физические вещи снаружи. Что это значит, я не знаю, но для меня это странно и прекрасно, и моя следующая книга, короткая, возможно, будет сделана из нее. [Возможно, незаконченный и заброшенный роман «Речной народ»]. Я никогда не писал об этом домой или вам, рассказывая только факты, потому что это занимает слишком много времени и утомляет меня – вы не должны никому об этом говорить – когда-нибудь я изложу все это в книге, вместе с еще большим количеством странного и чудесного, чтобы тот, кто умеет читать, мог увидеть.
Но вернемся к текущим делам – письмо, которое получил я в Вене шесть-семь недель назад, стало для меня первым напоминанием о том, что происходит. Письмо от издательства «Скрибнерc» было подписано Максвеллом Перкинсом, удивительно приятным, мягким и умным человеком. Миссис Бойд советует мне самым внимательным образом прислушиваться к его замечаниям – Перкинс из вроде бы незаметных, держащихся в тени, но совершенно необходимых людей, без него, убеждена миссис Бойд, Скотт Фицджеральд никогда не добился бы такого успеха. Так вот, Перкинс написал мне, что прочитал мою книгу, которая его очень заинтересовала, но у него имеются немалые сомнения, захочет ли издательство се публиковать. Лично он полагает, что это удивительная книга, которая просто не может оставить равнодушным ни одного редактора (я не стал его разочаровывать – кое-кто из редакторов так и не воспылал к ней энтузиазмом). Перкинс хотел знать, когда я смогу прибыть в издательство для переговоров. Я разволновался, воодушевился – как всегда чрезмерно – и тотчас сел писать ответ. Я сообщил ему, что у меня вообще-то сломан нос и разбита голова (недурно для первого знакомства, правда?), но высокая оценка книги, высказанная в его письме, вселила в меня радость и надежду. Я сказал, что вернусь к рождеству или на Новый год. В Вене я провел еще две недели, потом три недели в Италии и отплыл домой из Неаполя. Я позвонил Перкинсу в первый день Нового года. Он спросил меня, получил ли я его письмо, которое он послал мне на адрес Гарвардского клуба, но я сказал, что никакого письма не получал: скорее всего, они отправили его по моим следам за границу. Перкинс попросил меня поскорее появиться в издательстве. Когда я туда пришел, меня сразу же провели в его кабинет, где уже сидел Чарлз Скрибнер (похоже, он решил на меня посмотреть – через несколько минут он сказал, что не хочет нам мешать, и ушел).
В Перкинсе нет никакой «перкинсовщины» (такие фамилии носят обычно уроженцы Среднего Запада). Сам он, похоже, из Новой Англии, учился в Гарварде – ему чуть за сорок, но он выглядит моложе, в его манере одеваться и вообще держаться есть удивительное изящество, и всем своим видом он внушает спокойствие. Увидев, что я взволнован и перепуган, он заговорил со мной очень мягко, пригласил раздеться и присесть. Сначала он задал мне несколько общих вопросов о книге и ее героях (похоже, он «присматривался», прощупывал почву), затем завел разговор об одном небольшом эпизоде. Я, взбудораженный и готовый повиноваться, выпалил: «Я гюнимаю, что эпизод нельзя печатать. Я его обязательно сниму, мистер Перкинс!»
«Снимете? – удивился он. – Да это же потрясающая новелла, мне не приходилось читать лучше!» Он сказал, что на прошлой неделе читал этот кусок Хемингуэю [отрывок «Ангел на крыльце» из романа «Взгляни на дом свой, Ангел», глава XIX]. Потом он спросил, не могу ли я написать небольшое предисловие, – объяснить, что собой представляют действующие лица. Он был уверен, что журнал «Скрибнерс» обязательно напечатает отрывок, [рассказ «Ангел на крыльце» был опубликован в августе 1929 года] а если не получится там, то его возьмет какой-нибудь другой журнал. Я сказал, что обязательно напишу. Я одновременно обрадовался и огорчился. Я вдруг решил, что их интересует только этот крошечный отрывок.
Затем Перкинс осторожно заговорил о книге в целом. Разумеется, сказал он, в ее нынешнем виде она может вызвать возражения – показаться бессвязной и слишком длинной. Тут я понял, что книга и в самом деле его заинтересовала, и стал кричать, что выброшу одно, другое, третье, и всякий раз Перкинс останавливал меня и говорил: «Нет, нет – отсюда нельзя убрать ни слова – эта сцена просто изумительна!» Мне стало ясно, что все обстоит гораздо лучше, чем я смел надеяться: издательство опасается, что, начав слишком рьяно переделывать книгу, я могу ее испортить! Я заметил в руках у Перкинса целую кипу бумажек с его замечаниями, а на столе толстую пачку исписанных листов – подробный конспект моей огромной книги. Я так растрогался, что чуть не заплакал, – еще бы, ведь нашлись люди, которых так заинтересовала моя книга, что они готовы тратить на нее столько времени! Я сказал об этом Перкинсу, а он, улыбнувшись, ответил, что мою книгу прочитали все в издательстве.
Затем он стал разбирать эпизод за эпизодом – причем он помнил их и имена персонажей книги лучше, чем я сам – за последние полгода я ни разу не перечитывал ее. Впервые в жизни я выслушивал критические замечания, которые мог с пользой учесть.
Эпизоды, которые Перкинс предлагал сократить или вообще убрать, всегда были из числа наименее интересных и существенных, сцены же, казавшиеся мне слишком грубыми, вульгарными, богохульными и непристойными, чтобы их можно было печатать, он запретил мне трогать, не считая замены нескольких слов. В книге есть эпизод, по своей откровенности напоминающий елизаветинскую пьесу, но, когда я сказал об этом Перкинсу, он ответил, что это самый настоящий шедевр и что именно этот кусок он читал Хемингуэю. Перкинс просил меня изменить несколько слов. Он сказал, что в книге есть и новизна, и оригинальность и что она задумана так, что от нее нельзя требовать формальной, традиционной целостности, что она обретает единство благодаря странным, необузданным людям, членам семьи, которая и оказывается в центре повествования, изображенным так, как их видит странный, необузданный юный герой. Эти люди, а также их родственники, друзья, жители их городка, по мнению Перкинса, «просто великолепны» и в смысле жизнеподобия ничем не уступают персонажам книг других писателей. Он хотел, чтобы эти люди – и юный главный герой – все время были на переднем плане, а все остальное, например эпизоды учебы героя в университете, были бы сокращены и подчинены развитию главной темы. Перкинс также сказал, что если у меня плохо с деньгами, издательство готово выдать мне аванс.
К этому времени я был вне себя от волнения – наконец-то это действительно что-то значит, – несмотря на его осторожность и сдержанность, я видел, что Перкинс действительно был в восторге от моей книги и говорил о ней потрясающие вещи. Он видел, в каком я состоянии; я сказал ему, что мне нужно выйти и подумать – он велел мне взять два или три дня, но прежде чем я ушел, он вышел и привел другого сотрудника фирмы, Джона Холла Уилока [редактор «Скрибнерс» Джон Холл Уилок (1886–1978) отвечал за публикацию всех книг Вулфа в «Скрибнерс»], который говорил мягко и спокойно – он поэт – и сказал, что моя книга была одной из самых интересных, которые он читал за многие годы. После этого я вышел и попытался взять себя в руки. Через несколько дней состоялась вторая встреча – я захватил с собой записи о том, как я предлагаю приступить к работе, и так далее. Я согласился предоставлять 100 страниц исправленных текстов, по возможности, каждую неделю. [Записи Вулфа, сделанные при подготовке ко второй беседе с Перкинсом 7 января, опубликованы в книге Wolfe, Notebooks of Thomas Wolfe, 1:301-2]. Он слушал, а потом, когда я спросил его, могу ли я сказать что-то определенное дорогому другу, улыбнулся и сказал, что так и думает; что они практически договорились; что мне следует немедленно приступить к работе и что через несколько дней я получу от него письмо. На выходе я встретил мистера Уилока, который взял меня за руку и сказал: «Надеюсь, вы найдете хорошее место для работы – вам предстоит большая работа», – и тогда я понял, что все это было великолепной правдой. Я выскочил на улицу, опьяненный славой; через два дня пришло официальное письмо (я тогда отправил его домой), а вчера миссис Бойд получила чек и контракт, который я сейчас ношу в кармане. Видит Бог, это письмо было достаточно длинным – но я не могу рассказать вам, ни половины, ни десятой части его, ни того, что они сказали.
Мистер Перкинс осторожно сказал, что не знает, как будет продаваться книга – он сказал, что это нечто неизвестное и оригинальное для читателей, что, по его мнению, она станет сенсацией для критиков, но что все остальное – авантюра. Но миссис Бойд говорит, что печатать такое огромное сочинение неизвестного молодого человека – дело настолько необычное, что «Скрибнерс» не стал бы этого делать, если бы не считал, что у них есть все шансы вернуть свои деньги. Я утопаю в обожании, теперь декан Нью-Йоркского университета умоляет меня не «разоряться», как Торнтон Уайлдер (я бы хотел, чтобы они разорили меня, как Уайлдера, на две-три сотни тысяч экземпляров) – но декан имел в виду не проводить все свое время в «сливках» общества. Это тоже вызывает у меня усмешку – вы же знаете, какой я «социальный». Конечно, я был бы рад, если бы книга имела оглушительный успех, но мое представление о счастье заключалось бы в том, чтобы удалиться в свою квартиру и злорадствовать над ними, и чтобы свидетелями моего злорадства были не более полудюжины человек. Но если я когда-нибудь увижу мужчину или женщину в метро, в лифте или в такси, читающих эту книгу, я прослежу за ним до дома, чтобы узнать, кто они и чем занимаются, даже если это приведет меня в Йонкерс. А мистер Перкинс и мистер Уилок предупредили меня, чтобы я не слишком водился с «этой алгонкинской толпой» – в здешнем отеле «Алгонкин» большинство знаменитостей коротают время и восхищаются сообразительностью друг друга. Меня это тоже рассмешило. Я нахожусь за несколько миллионов миль от этих могущественных людей и в настоящее время не хочу приближаться к ним. Все люди из Театральной гильдии, которых я знаю через моего дорогого друга, [Алина Бернштейн] позвонили ей и прислали поздравления.
Но сейчас настало время для здравомыслия. Мой дебош от счастья закончился. Я дал обещания и должен приступить к работе. Я всего лишь один из тысяч людей, которые каждый год пишут книги. Никто не знает, какой окажется эта. Поэтому вы пока ничего не должны говорить об этом жителям Эшвилла. Со временем, я полагаю, «Скрибнерс» объявит об этом в своих рекламных объявлениях. Что же касается «Гражданского кубка» – боюсь, об этом не может быть и речи. Во-первых, дома никто ничего не знает о моей книге – ни хорошего, ни плохого, ни безразличного – если о ней и заговорят, то, должно быть, позже, после ее публикации. И еще – это беспокоит меня сейчас, когда моя радость иссякла – эта книга вычерпывает изнутри людей боль, ужас, жестокость, похоть, уродство, а также, как мне кажется, красоту, нежность, милосердие. Есть в ней места, при чтении которых я корчусь; есть и такие, которые кажутся мне прекрасными и трогательными. Я писал эту книгу в белой горячке, просто и страстно, не думая быть ни уродливым, ни непристойным, ни нежным, ни жестоким, ни красивым, ни каким-либо другим – только сказать то, что я должен был сказать, потому что должен. Единственная мораль, которая у меня была, была во мне; единственный хозяин, который у меня был, был во мне и сильнее меня. Я копался в себе более безжалостно, чем в ком-либо еще, но боюсь, что в этой книге есть много такого, что глубоко ранит и разозлит людей – особенно тех, кто живет в Эшвилле. И все же, как бы ни были ужасны некоторые моменты, в книге мало горечи. В «Скрибнерс» мне сказали, что люди будут кричать против этого, потому что они не в состоянии осознать, что дух, чувствительный к красоте, также чувствителен к боли и уродству. Тем не менее, все это было учтено при создании книги, и благодаря этому «Скрибнерс» поверили в нее и готовы опубликовать. Я смягчу все, что в моих силах, но я не могу вынуть все жало, не солгав себе и не разрушив книгу. По этой причине мы должны подождать и посмотреть. Если когда-нибудь жители Эшвилла захотят высыпать раскаленные угли на мою голову, дав мне чашу, возможно, я наполню ее своими слезами покаяния – но я сомневаюсь, что это не пройдет в течение долгого времени. Жители Эшвилла, боюсь, не поймут меня после этой книги и будут говорить обо мне только с проклятиями – но когда-нибудь, если я напишу другие книги, они поймут. Боже мой! Какие книги я чувствую в себе и в каком отчаянии, ведь мои руки и силы не в силах угнаться за всем, что чувствует мое сердце, мечтает и думает мой мозг.
Я потратил целый день на то, чтобы написать это письмо для вас – это целый том, но теперь я выработал свою дикую бодрость и должен приступить к работе.
Пожалуйста, сохраняйте молание о кубке. Вы понимаете, почему, не так ли?
Благослови вас Бог за ваше письмо и простите за то, что оно очень длинное, я так занят своими делами, что еще не передал привет мистеру Робертсу. Передайте ему привет от всего сердца и скажите, что я не желаю лучших новостей из дома, чем те, что он снова бодр и весел. Я так подробно рассказал вам о своих делах, потому что верил, что вы действительно хотите все это услышать, и потому что я так счастлив поделиться этим с вами. Да благословит вас всех Господь, и да принесет вам всем здоровье и счастье. Если вы увидите рекламу «Скрибнерс», вы, конечно, можете говорить, но, пожалуйста, пользуйтесь вашим прекрасным благоразумием.
Я напишу вам короткое письмо, когда успокоюсь, расскажу вам о планах университета, и о том, как продвигается моя работа над книгой.
С любовью ко всем.
Том
P.S. Передайте все, что, по вашему мнению, может заинтересовать мою семью, но скажите им, ради Бога, чтобы они были осторожны. Я был так счастлив, когда на днях смог сообщить им хорошие новости. Теперь будем надеяться, что из этого что-нибудь выйдет.
Еще раз, да благословит вас всех Господь.
Примечание: Я сам с трудом читаю некоторые из этих строк, но вам уже приходилось разгадывать мои каракули, и, возможно, вы сможете сделать это снова. Я писал это в большой спешке и был очень взволнован – но я надеюсь, что вы разберетесь.
Это не письмо – это памфлет. Может быть, когда-нибудь я попрошу вас вернуть это письмо, чтобы понять, насколько глупо я себя чувствовал.
Мейбл Вулф Уитон
[Западная 15-ая улица, 27]
[Нью-Йорк]
Среда, 13 февраля [1929]
Дорогая Мейбл:
Спасибо за твое письмо – и еще раз спасибо за коробку с тортом и конфетами. Все пришло в хорошем состоянии, включая банку персиков, которые я еще не ел. Через день или два после получения твоего письма я получила письмо от миссис Робертс: ты, конечно, права, когда говоришь, что они «ходят по воздуху» из-за моей книги. На самом деле она парит так высоко, что заставляет меня волноваться – читая ее, можно подумать, что я уже «приехал», что моя книга уже имеет оглушительный успех и так далее. Подумать только, говорит она, что слава пришла к тебе так скоро, когда ты еще совсем ребенок (28 – летний парень вот-вот наденет длинные штаны, тебе так не кажется?) – Я не ожидала, что ты поймешь это (говорит она) еще через десять лет. И так далее.
Конечно, в результате всего этого я стал очень нервным. Именно поэтому я хотел как можно меньше говорить о книге, пока она не будет опубликована. Я все еще рад ей, я все еще очень надеюсь на нее, но, повторюсь, никто не знает, какой успех она будет иметь и будет ли вообще. И никто не узнает этого, пока книга не будет опубликована. Конечно, я и сам был страшно взволнован, когда писал ей то длинное письмо, но я снова и снова предупреждал ее, чтобы она не считала само собой разумеющимся, что успех и слава, и все остальное уже у моих ног. Мы надеемся – и издатели, и я сам, – что книга пойдет хорошо; но я должен быть удовлетворен, если она пойдет достаточно хорошо, чтобы мне заплатили достаточно денег, чтобы продержаться, пока я пишу другую книгу. Хочу отблагодарить «Скрибнерс» за их расходы и хлопоты, и чтобы Хэм захотел опубликовать мою следующую книгу. Вы знаете, что я надеюсь, естественно, что дело пойдет гораздо лучше, чем сейчас, но помните, что всегда есть шанс, что оно пойдет гораздо хуже. Я молодой неизвестный писатель, это моя первая книга, она может погибнуть в забвении. Так что лучшая политика – работать, ждать и молиться о лучшем.
Я обнаружил, что ваши хорошие друзья – ваши лучшие друзья – имеют дурную привычку объявлять о вашем избрании еще до того, как вы начали баллотироваться. Я, конечно, благодарен им за добрые пожелания, но впоследствии, вероятно, стану козлом отпущения, если дела пойдут не так хорошо, как им хотелось бы. Ведь остальной мир не так дружелюбен и великодушен – если сейчас говорят о том, что моя книга пользуется огромным успехом, а потом окажется, что она провалилась, то меня обвинят в преждевременном хвастовстве. К несчастью, так оно и есть (как вы, вероятно, уже поняли).
Я уже получил письмо с поздравлениями от моего друга, […] из […] начинается с порывом энтузиазма и поздравляет меня с «огромными гонорарами», которые издатели уже выплачивают мне. Его мать, говорит он, написала ему обо всем этом. Конечно, я очень люблю миссис […], но прекрасно знаю, что она не тяготится молчанием, и мне интересно, скольким сотням тысяч людей она уже успела рассказать эту историю и сколько каждый из них добавил к своей сказке. Поскольку я хотел, чтобы об этом – по причинам, о которых я уже говорил, – было достаточно много шума, и поскольку […] находится всего в 1200 милях от Эшвилла, мне интересно, сколько времени потребуется, чтобы мой маленький секрет достиг Сибири. Если миссис […] в хорошей форме, новости должны дойти туда примерно в Страстную пятницу. Так что, если увидите эту даму, пожалуйста, постарайтесь очень тактично набить ей морду. [предположительно, речь идёт о Маргарет Робертс]
Я знаю, и вы понимаете, что не неблагодарен за щедрые добрые пожелания всех этих людей. Я высоко ценю их дружбу, и меня тронуло и растрогало все, что они сказали. Только я действительно считаю, что слишком много шума и разговоров сейчас может принести больше вреда, чем пользы.
Компания «Скрибнерс» также купила у меня рассказ для публикации в своем журнале. [Они спросили, устроят ли меня 150 долларов, и я чуть не упал со стула – это очень короткий рассказ, который они берут из книги, а я не рассчитывал на сумму более пятидесяти или семидесяти пяти долларов. Нью-Йоркский университет, то есть мой хороший друг, Дин Мунн, придумал пару курсов, чтобы помочь мне купить бекон и бобы – они занимают только на половину обычного учебного времени, и будут платить мне 150 или 200 долларов в месяц с настоящего момента по июнь. Так что сейчас я справляюсь очень хорошо. Если летом мне понадобятся деньги, я смогу найти работу в летней школе, и они уже предложили мне работу на следующий сентябрь, если она мне понадобится.
Но мне действительно не нужно много денег. Мои вкусы, кажется, становятся все проще, а не дороже, за исключением еды и книг. Когда я был ребенком, я мечтал хотя бы о миллионе: теперь мое воображение не может выйти за пределы шести-семи тысяч в год. Я надеюсь, что когда-нибудь у меня будет столько, но, честно говоря, я не знал бы, как выполнять свою работу и тратить гораздо больше. Однако такая сумма вряд ли была бы сигаретой для большинства людей, которых я знаю в Нью-Йорке, и я знаю, что в Эшвилле есть десятки людей, которые имеют больше, чем эта сумма, хотя там деньги уходят вдвое дальше. Я просто в недоумении от количества денег в Америке. Я только что вернулся из нищей Европы – из Вены, где многие считают себя счастливчиками, работая за 20 долларов в месяц. Я никогда не видел здесь ничего подобного богатству, и я уверен, что ничего подобного не было в мировой истории. . . . Вдоль Парк-авеню буквально тысячи квартир, которые сдаются… за двадцать пять и пятьдесят тысяч. Мне очень интересно наблюдать за всеми богатыми людьми с властью, но я, конечно, не завидую им. Большинство этих людей заработали деньги недавно – они невежественны, скучны и несчастны: они не знают, что с ним делать. Лишь немногие из них – (ни один из тех, кого я знаю) – обладают умом или талантом миссис Б. [миссис Бернштейн], которая давно поняла, что в жизни нет радости, если мы не можем найти работу, которая нам нравится и для которой мы приспособлены. Поэтому она работает в театре, как троянец, и добилась прекрасной репутации исключительно благодаря собственным способностям.
Интересно и то, что деньги стали значить так мало, что они уже не могут обеспечить людям место в высшем культурном обществе. В воскресенье вечером мне посчастливилось быть приглашенным на генеральную репетицию «Динамо», новой пьесы О’Нила, в Театральной гильдии. Меня пригласила мисс Хелберн, [Тереза Хелберн.] глава Гильдии, и я сидел в первом ряду между миссис Б. и очень красивой и знаменитой женщиной по имени Линн Фонтанн, которая сейчас является звездной актрисой Гильдии. Отто Кан был в трех рядах позади, и все места были заполнены знаменитостями и красавицами, ослепительно одетыми в вечерние наряды. Самое забавное, что люди просто борются за то, чтобы их пригласили на генеральную репетицию в Гильдию, но я уверен, что многие из тех, кто присутствовал там в тот вечер, были почти так же бедны, как и я. Тем не менее их пригласили, в то время как миллионеры, упаковывающие свинину, и их жены, рвут на себе волосы, пытаясь попасть внутрь. (Конечно, меня пригласили не за какие-то мои заслуги, а потому, что Гильдия выложится ради миссис Б. Но они, безусловно, были дружелюбны и любезны со мной и, похоже, все были рады, что моя книга выходит в свет).
Не думаю, что у меня есть еще какие-то новости для вас на данный момент. Я немного поработал над книгой, но недостаточно – нужно работать гораздо усерднее. Издатель хочет получить рукопись к первому мая – думаю, они намерены опубликовать ее в августе. . . . Жаль слышать, что недвижимость так умерла. Я думаю, что здешний бизнес – все эти покупки, продажи и создание состояний – это своего рода бум, и что дно у многих рухнет, как это случилось во Флориде и Эшвилле. Я постараюсь написать другим членам семьи, как только у меня появится время.
Следующее письмо Мадлен Бойд было написано в ответ на ее записку, в которой она приложила чек за продажу «Ангела на крыльце» в журнал «Скрибнерс мэгазин», а также письмо от Г. Л. Менкена. Миссис Бойд передала Менкену несколько коротких отрывков из «Взгляни на дом свой, Ангел» в надежде, что он опубликует их в виде рассказов в «Американском Меркурии». Он отклонил их, и она предложила попробовать опубликовать их в «Букмене» и в «Циферблат». Они так и не были приняты ни одним журналом.
Маделейн Бойд
Гарвардский клуб
Нью-Йорк
Пятница, 15 февраля [1929 года]
Дорогая миссис Бойд:
Спасибо за записку от мистера Менкена, а также за чек за короткий рассказ и квитанцию от «Скрибнерс». Меня очень порадовала записка мистера Менкена – его похвала была умеренной, но я принимаю ее по достоинству. Я не думаю, что он пишет такие заметки для формальности. И, конечно, его вера в свою работу была бы очень ценна для писателя.
Я, конечно, буду рад, если вы пришлете рассказ из книги в «Букмен» и «Циферблат» – хотя «Циферблат» меня пугает. Я намеренно выбрал для мистера Менкена сцены, написанные просто и ясно, потому что думал, что они ему больше понравятся, но они могут показаться слишком элементарными для тонких современных людей, которые редактируют «Циферблат». Если это так, то я мог бы создать и другие рассказы, которые были бы практически неразборчивы даже для автора. Серьезно, что вы думаете об этом?
Я работаю над книгой, но это трудная, вызывающая недоумение работа. Я часами смотрю на рукопись, прежде чем убрать из нее несколько предложений: иногда мне хочется вслепую рвать и метать, но если я не знаю, где именно, результат будет катастрофическим. Также моя новая книга [часть «Скорый поезд» в итоге стал первой частью романа «О Времени и о Реке». Вулф прекратил работу над «Речным нородом» после возвращения в Нью-Йорк в январе 1929 года] заполняет мой разум – я продолжаю делать для нее исправления и заметки. Но сначала я закончу эту. [«Взгляни на дом свой, Ангел»] По мере распаковки я продолжаю откапывать старые рукописи [Вероятно, некоторые из набросков, написанных им в 1924-1925 годах, например, история Юджина и графини в Орлеане, которая позже была переписана и опубликована в романе «О времени и о Реке»] и, возможно, дам вам для чтения слишком длинный рассказ. Написал его несколько лет назад. В понедельник взял у мистера Перкинса еще 100 страниц. Еще раз спасибо за чек. Если вам понадобится моя новая рукопись, дайте мне знать. Удачи нам обоим.
Следующее письмо в разных вариантах было найдено в карманных записных книжках Вулфа и на обратной стороне страниц его рукописей, и, очевидно, никогда не отправлялось по почте. На то, что оно было написано задолго до публикации «Взгляни на дом свой, Ангел», указывает его хронологическое положение в записных книжках, а также тот факт, что название «О потерянном», которое он использовал для романа «Взгляни на дом свой, Ангел», было отброшено за пять или шесть месяцев до публикации книги. Очевидно, беспокоясь о том, как примут его книгу в Эшвилле, Вулф представил, что его могут попросить написать в ее защиту для «Гражданина», и начал составлять различные версии этого письма ради собственного спокойствия.
Редактору «Эшвилл Ситизен»
[апрель (?) 1929 года]
Большое спасибо за дружеское и вежливое приглашение опубликовать в ваших колонках статью, отвечающую критикам моей книги «О, потерянном». Я вынужден отказаться по нескольким причинам, наиболее важные из которых следующие: в начале своей карьеры романиста я решил, насколько это возможно, позволить своим книгам говорить за меня. Художник не является ни оратором, ни пропагандистом – разумеется, я не обладаю ни тем, ни другим свойствами – любая защита его произведений должна быть предпринята не им самим, а критиками, компетентными для такой работы. Если эшвиллские критики моих работ делают из этого вывод, что я стремлюсь избежать полемики, они, конечно, правы. Но если, как я понял из нескольких писем в ваших колонках, они считают, что моя книга – это «ожесточенная атака» на город, штат, Юг, то они, конечно, ошибаются. Человек не нападает на жизнь так же, как он проклинает ветер, трясет кулаком в шторм или злобно плюет в океан.
То, что в моей книге есть горечь, а также боль и уродство, этого я не могу отрицать. Но я верю, что в ней есть и красота, и оставляю ее защиту тем из моих читателей, кто увидел эту красоту .
Что касается подразумеваемой критики моей личной жизни, то мне опять-таки нечего сказать. Мне, честно говоря, совершенно безразлично, что думают эти люди. Никто из них не знает меня, лишь немногие видели меня и разговаривали со мной: их попытки лезть и вторгаться в жизнь, которую они никогда не смогут узнать, уродливы и отвратительны. Но в них нет ничего удивительного. Тот, кто прожил в Нью-Йорке несколько лет, слишком много слышит о сточных водах миллиона подлых жизней – людей, которые, не имея возможности прикоснуться к священным одеждам знаменитостей, пируют в привычной развратной обстановке, придумывают надуманные гадости, переносят блестящие пороки, которых сами желали и на которые у них не хватило смелости, на деятелей, которых они чествуют своим ядом и злобой.
Если возмущенные методистские леди и джентльмены подозревают меня в плотских утехах, пусть они больше ничего не подозревают. Я виновен с энтузиазмом. Я ел и пил с чувственным экстазом в десяти странах. Я выполнял мужские функции с помощью нескольких привлекательных женщин, некоторые из которых были благочестивыми членами методистской церкви.
[на этом письмо обрывается]
Мейбл Вулф Уитон
[Западная 15-ая улица, 27]
[Нью-Йорк]
Май, 1929 года
Дорогая Мейбл:
Спасибо за твое письмо, которое я получил сегодня. Полагаю, в последнее время я писал не так уж часто – у меня очень слабое чувство времени, когда я работаю. Я каждый день работаю с редактором «Скрибнерс», мистером Перкинсом, над пересмотром моей книги. Мы вырезаем большие куски, и у меня сердце кровью обливается, когда я вижу, как это происходит, но это – смерть собаке или топор войны. Хотя нам обоим не нравится вырезать так много, у нас будет более короткая книга, и ее будет легче читать, когда мы закончим. Так что, хотя мы и теряем кое-что хорошее, мы обретаем единство. Этот человек, Перкинс, – прекрасный человек и, возможно, лучший издательский редактор в Америке. Я очень доверяю ему и обычно прислушиваюсь к его мнению. Все сотрудники «Скрибнерс» считают книгу замечательной, и Перкинс сказал мне на днях, когда я был в расстроенных чувствах, что все они будут очень удивлены, если книга не будет иметь успеха. Когда я сказал, что надеюсь, что они еще раз попытают счастья, он сказал, чтобы я не беспокоился – что они рассчитывают выпустить мою следующую книгу, и следующую за ней, и так до бесконечности. Для меня это очень много значит. Во всяком случае, это означает, что мне больше не придется искать издателя.
Я уже видел титульный лист и несколько образцов шрифта. Они называют это «манекеном». Конечно, я в восторге от этого. Я не могу сказать ничего лучшего о поведении «Скрибнерс». Они прекрасные люди. Несколько недель назад они отправили меня к одному из самых дорогих фотографов в городе, женщине, которая «занимается» писателями [Дорис Ульман. Она не брала со «Скрибнерс» столько, сколько говорит здесь Вулф]. Сколько это стоило, я сказать не могу, но, насколько я понимаю, она берет 150-200 долларов за дюжину, а продержала она меня полдня. Что они собираются с ними делать, ради всего святого, я не знаю – они говорят, что это для рекламы. Они собираются начать рекламу, полагаю, в этом или следующем месяце, и попросили меня написать что-нибудь о себе. Конечно, это всегда приятная работа, не так ли? Когда выйдет рассказ и книга, я не знаю, но в последний месяц все стали очень заняты – мне теперь приходится каждый день подниматься к редактору. Думаю, рассказ будет отложен до выхода книги. «Скрибнерс» – хорошие продавцы, хорошие бизнесмены, хорошие рекламодатели. Они делают для меня большую работу, и они верят в меня.
На сегодня хватит о книге. Мне очень жаль слышать о неприятностях мистера Жаннере [Луи Уильям Жаннере, швейцарский часовщик, арендовавший помещение в мраморном магазине В. О. Вулфа]. Твое письмо вернуло меня к воспоминаниям о моем детстве, о том, как папа, облокотившись на перила, разговаривал со стариком о политике и обо всем остальном. Когда выйдет мой рассказ, прочтите его – вы увидите их снова, как видели много раз, но никому не говорите об этом. Жаннере был настоящим другом папы, восхищался и уважал его. Он принадлежит ушедшему миру, ушедшей жизни и ушедшему времени – единственному Эшвиллу, который я помню, каким он был в моем детстве и юности. Возможно, я вижу перемены даже более отчетливо, чем вы, потому что был вдали от дома. Думаю, тот Эшвилл, который я знала, умер для меня, когда умер Бен. Я никогда его не забывал и не забуду. Думаю, его смерть повлияла на меня больше, чем любое другое событие в моей жизни. На днях я читал стихи женщины, которая очень неожиданно и трагически умерла в декабре прошлого года. [Вероятно, Вулф имел в виду Элинор Уайли. Смотрите его письмо к сестре Мейбл от 26 марта 1927 года]. Однажды я встретил эту женщину. Она была очень красива, но, полагаю, по большинству наших стандартов мы должны были бы сказать, что она была плохим человеком. Она разрушила жизнь почти всех, кто ее любил, – а несколько человек любили. Тем не менее эта женщина написала несколько прекрасных стихотворений, и сейчас о ней говорят повсюду. Я подумал о Бене – он был одним из тех прекрасных людей, которые хотят получить от жизни все самое лучшее и высокое, но не получают ничего – и умирают безвестными и неудачниками.
Я могу понять ваше желание побыть в одиночестве. Для меня это необходимость. Но в глубине души я люблю людей и должен дружить с ними. Иногда, как вы знаете, я уезжал на несколько месяцев, не давая людям знать, где я нахожусь. Но я всегда тосковал по знакомым лицам и возвращался. Мне кажется, я живу в одиночестве больше, чем любой другой человек, которого я когда-либо знал. В Нью-Йорке у меня много прекрасных знакомых – с некоторыми из них я вижусь очень часто, но большую часть дня мне приходится проводить в одиночестве. Я ненавижу толпы и публичные собрания. Вы не сможете жить так, как живу я: вы должны быть с людьми, говорить с ними, объединяться с ними. Но это единственная жизнь, которую я могу вести. Иногда я люблю выйти на улицу, присоединиться к толпе и хорошо провести время. Но не часто. Дело в том, что большинство людей, которых я встречаю, надоедают мне до слез. Этого не должно происходить, но это так. А мне нечасто бывает скучно с самим собой, с моим чтением или писательством. Я перепробовал множество вещей, о которых мечтал в детстве, – путешествия, Париж, Вена, театры, корабли и так далее, – но единственное настоящее удовлетворение я получал от работы, от той работы, которую мне нравится делать. И я работал недостаточно усердно. Большинство людей не счастливы, когда работают, просто потому, что очень немногим удается найти работу, которую они хотят делать. Трудно представить, чтобы работник хлопчатобумажной фабрики или канавокопатель получал от этого удовольствие, не так ли? То же самое можно сказать и о большинстве бизнесменов: «риелторы», производители брюк, продавцы обуви.
Возможно, я последую вашему совету и приеду домой на несколько дней, когда закончатся занятия. Я не смогу приехать надолго из-за работы в «Скрибнерс», но я бы хотел остаться на несколько дней или неделю…
Полагаю, вы правы в том, что большая часть денег находится в Нью-Йорке: здесь их, конечно, много, хотя сам я видел их очень мало. Наше «процветание» очень неравномерно. Есть много богатых и обеспеченных людей, но есть и миллионы тех, кто зарабатывает достаточно, чтобы прокормиться. Большинство людей в Нью-Йорке именно такие – выживают, не имея ничего за душой. Какова ваша политика? Полагаю, вы демократы или республиканцы, поскольку Юг – самое консервативное место. Полагаю, социалист там считается тем же, что и анархист. Но подождите, пока беднякам придется терпеть голод, и вы увидите перемены. Я думаю, что если бы у меня была какая-то политика, я был бы социалистом – это единственная разумная вещь, которой можно быть (если вы не капиталист, а я им не являюсь). Но вы считаете, что это «дикие разговоры», не так ли?
Я не виню вас за то, что вы оставляете часть клубной работы. Я время от времени покупаю эшвиллскую газету, и там, похоже, есть клубы для всего на свете, включая разведение свиней. Очевидно, женщины занимаются всей этой «культурой» – а чем же занимаются мужчины? Скорее всего, это фарс – этот клубный бизнес, – потому что большинству этих женщин наплевать, написал ли Шекспир «Гамлета» или «Лицо на полу»: это дает им возможность сидеть на своих задницах и выглядеть «литературно». Мне жаль, что миссис Робертс так много в этом участвует. Она сбивает бизнес, когда разговаривает со мной и подмигивает мне через голову. Мейбл, конечно, я все вижу, но бедная женщина думает, что я одурачен. Она очень амбициозна для Маргарет, и я думаю, что в ней есть немного снобизма. Но все мы такие. Она прекрасная женщина – одна из немногих, кто выдержал со мной испытание временем. Она всегда будет мне нравиться.
Я рад, что все в порядке, жаль слышать об автомобильной аварии Фреда и знать, что она его расстроила. Меня расстраивает, когда я смотрю на них здесь, в Нью-Йорке: средний таксист – опасный преступник, не уважающий жизнь. Если я когда-нибудь окажусь в такси, которое собьет ребенка, – а я боялся этого уже дюжину раз, – думаю, у меня возникнет желание убить водителя. Я больше не считаю, что ездить быстро – это умно или смело. Я единственный оставшийся американец, который ничего не знает об управлении автомобилем и не имеет ни малейшего желания им владеть. Это еще один признак моего «безумия»?
Ну, иногда я чувствую себя единственным здравомыслящим человеком на прогулке по сумасшедшему дому: все маньяки подталкивают друг друга и говорят: «Видишь того парня? Он сумасшедший».
Я писал последние несколько страниц сегодня [во вторник] – погода стояла прекрасная: первый настоящий признак весны. Все люди были на улице, и, видит Бог, их было много. Здания такие большие и высокие, а люди, снующие туда-сюда, похожи на насекомых. Большинство из них такими и являются. Мне кажется, я хорошо знаю, чем хочу заниматься в жизни, но сейчас многое зависит от того, какой успех будет иметь моя книга. Молитесь за меня.
Как я уже говорил, я ненавижу толпы и вечеринки, но в субботу меня потащили на ужин с какими-то шишками. Я ненавижу это, но мой агент все устроил и говорит, что это пойдет мне на пользу. Я в это не верю, но, может быть, они дадут мне выпить.
Я слишком много написал и слишком мало сказал. Передайте всем мою любовь и попросите их писать по мере возможности. Не бойтесь сойти с ума – я был там несколько раз, и это совсем не плохо. Если людей станет слишком много, поезжайте на поезде.
Джулии Элизабет Вулф
Гарвардский клуб 27
Западная 44-я улица
Письмо без даты
Конверт от 6 июня 1929 года
Дорогая мама:
Спасибо за письмо. Ты пишешь, что ждешь меня домой примерно 15 июня – для меня это сюрприз, так как раньше я об этом не слышал. Учеба закончилась – на прошлой неделе я закончил проверять кучу экзаменационных работ. Это утомительная и неинтересная работа. Я рад, что покончил с ней. Теперь у меня гораздо больше времени для себя – у «Скрибнерс» есть все пересмотренные и сокращенные MSS. [рукописи] и сейчас набирают текст. Они говорят, что получат гранки на следующей неделе, и, конечно, это означает для меня больше работы. Мы убрали огромные куски из оригинальной книги – мне было неприятно видеть, как это происходит, но пришлось. Сейчас я работаю над несколькими рассказами, которые они попросили меня написать. Конечно, я не знаю, понравятся ли они им, но если понравятся, то реклама мне поможет. И у меня есть новая книга, над которой я работаю, когда есть время. Я обнаружил, что мне необходимо часто оставаться одному, чтобы работать. Я не люблю ходить в гости, совершать поездки или делать что-то еще, кроме своей работы, когда я ею занят. Конечно, это очень плохо, но у каждого свой путь.
Надеюсь, вы не будете слишком много говорить о моей книге – я действительно имел в виду это несколько месяцев назад, когда умолял вас всех не делать этого. Мне кажется, вы не очень хорошо понимаете мои чувства в этом вопросе – я, конечно, благодарен вам за интерес, который вы проявляете, – но я знаю, что от слишком долгих разговоров страдает больше вещей, чем от слишком маленьких. Я чувствую, что книга теперь в руках «Скрибнерс» и что это их дело – рекламировать ее, продавать и делать все необходимое для ее продвижения. За последние несколько лет я научился немного терпению – мне пришлось! – и я знаю, что ничего не потеряю, если буду ждать, пока не будет объявлено о публикации. При нынешнем положении дел, я уверен, что о ней уже знают во всем Эшвилле, жаль, что это так. Я думаю, что эта преждевременная реклама скорее навредила книге, чем помогла ей. Я не люблю так много говорить об этом, но, в конце концов, за исключением одного друга, я уже много лет оставался один, чтобы бороться со всем самостоятельно – и теперь, когда у меня есть шанс, я хочу использовать его по максимуму. Книга выйдет к осенью, а рассказ, я думаю, появится в конце лета. Я получил свои фотографии – некоторые из них были хороши, и «Скрибнерс» отобрал пять или шесть для собственного использования. Думаю, «Скрибнерс» отправит книгу в один из больших клубов «Книга месяца», но я не рассчитываю на это – сейчас издаются сотни книг, и будет просто чудом, если мою первую книгу примут.
Полагаю, большую часть лета я проведу в Нью-Йорке – хочу быть здесь, естественно, пока книга выходит в свет. Может быть, поеду в Мэн на две-три недели и постараюсь найти маленькую хижину на побережье, где смогу побыть один и ни о чем не думать. Мне бы хотелось вернуться домой и увидеть всех вас – не знаю, возможно ли это сделать 15 июня. Конечно, это дорогое путешествие, и я хочу растянуть свои деньги из Нью-Йоркского университета на все лето, если смогу.
Я писал дяде Генри перед поездкой в Европу, но ответа так и не получил. Рад знать, что он так счастлив и у него такой прекрасный ребенок. Я также рад знать, что все, по-видимому, в добром здравии. Мне бы хотелось увидеть Эффи и ее семью, я уже много лет не видел ее и полагаю, что в нас обоих произошли изменения. У меня есть несколько шансов уехать этим летом – в Мэн, а Олин Доус хочет, чтобы я приехал к нему в Рейнбек, и жил у реки. Но во многих отношениях у меня вкусы старика – я не люблю толпу, не люблю вечеринки и гулянки, и большую часть времени мне хочется побыть одному.
Погода здесь в последнее время хорошая, но у нас была холодная и дождливая весна, и скоро наступит жаркая погода. Когда в Нью-Йорке становится жарко, это так же жарко, как в любом другом месте на земле – здесь семь миллионов человек, и вы можете почувствовать их запах, когда термометр поднимется до 90 градусов (32 градуса по Цельсию).
Процветание, о котором мы так много слышим, очень неравномерно – вы говорите, что все деньги в Нью-Йорке, но не все люди в Нью-Йорке. Уверяю, деньги у вас есть. Надеюсь, дела у вас идут лучше и Эшвилл снова встает на ноги. Я напишу еще раз, когда буду знать больше о своих планах – сейчас все еще не решено.
С любовью ко всем, Том
Генри Т. Волкенинг, которому было написано следующее письмо, с 1926 по 1928 год преподавал на кафедре английского языка в Нью-Йоркском университете, а позже являлся помощником Диармуида Рассела в литературном агентстве «Рассел и Волкенинг». Отрывки из писем, полученных им от Вулфа, были впервые опубликованы в статье «Thomas Wolfe: Penance No More» в весеннем, номере журнала The Virginia Quarterly Review, 1939 года.
Генри Т. Волкенингу
Гарвардский клуб
Нью-Йорк
4 июля [1929 года]
Дорогой Генри:
Сегодня День Независимости – я только что прошел мимо одного из киосков с апельсиновым соком «Бесподобный Нэдик», и при этом подумал о тебе, далеко в Германии и Англии, где ты полностью отрезан от этого и многих других благ.
Твои письма доставили мне величайшее удовольствие – я плакал от радости, читая твое восторженное письмо из Вены: я испытывал большую личную гордость, как будто я открыл это место. Ты ездил в Будапешт? Давным-давно я начал писать тебе, когда получил письмо – писал страницу за страницей, но так и не закончил. Это всего лишь небольшая заметка – завтра я еду вверх по Гудзону к моему другу Олину Доусу, он живет в маленькой хижине из семидесяти комнат, и сейчас там никого нет. Возможно, я напишу тебе оттуда длинное письмо, наполненное изящными цитатами из хороших книг – у них четыре или пять тысяч прекрасных томов: Лэмб, Браунинг, Арнольд и все такое. Я собираюсь в Мэн на две недели в июле – буду смотреть на тебя прямо через Атлантику. И, возможно, на несколько дней в Канаду. (Но почему именно в Канаду?)
Все сложилось для тебя замечательно – здесь не было ничего, кроме дождя, дождя весь апрель и большую часть июня. Я так рада, что вы с Нат [миссис Волкенинг] любите Вену – вы похожи на венских жителей, я думаю – несмотря на ваше хорошее немецкое имя, вы венский немец. Вы были в Нюрнберге? Это великолепное место. А вы собираетесь в Амблсайд и Озерный край? Надеюсь, мой совет тебя еще не обманул – привозите для меня полный рот приключений.
Мое другое письмо было наполнено новостями, о которых я забыл! Год в университете закончился и ушел (с моими молитвами) в небытие. Когда я видел ребят в последний раз, многие из них стали слегка зелеными, желтыми и фиолетовыми от накопившегося яда и злобы. Это очень плохо. Многие из них уехали за границу – в Париж и все такое. Готлиб, я полагаю, уехал в Германию, Трой получил стипендию и собирается на пять месяцев – как вы думаете, куда? – в Дорогой Старый Париж, а у Долларда [Ганс Дж. Готлиб, Уильям А. С. Доллард и Уильям Трой были преподавателями английского факультета Нью-Йоркского университета] эпохальная и сотрясающая вселенную ссора с герром Геймратом Ваттом наконец вылилась в открытый бой этой весной – он ушел в отставку, а когда я попрощался, говорил о бродяжничестве, поступлении на флот, поездке в Кембридж и так далее …
Я чувствую себя великолепно, свежим и полным. Приходят гранки, мой рассказ [«Ангел на крыльце»] появится в журнале в следующем месяце (если сможете, получите его в Англии – «Скрибнерс» выпустит его в августе), книга выйдет осенью, и «Скрибнерс» считает, что это грандиозная вещь и что она пойдет на ура. Я надеюсь, что она будет иметь успех – не провал, – но что она принесет мне несколько долларов. Также сейчас пишу несколько рассказов [Из них ничего не вышло. Вулф практически не имел представления о том, что такое продаваемый рассказ], которые они попросили меня написать – без обещаний – и нагрузили дом моей новой книгой. [В это время Вулф имел лишь приблизительное представление о том, какой будет его следующая книга. Сначала он думал о ней как о «Быстром экспрессе», который в итоге стал начальной частью «О времени и о реке». Затем, постепенно, он начал думать о расширении «Быстрого экспресса» и назвал его «Ярмаркой в октябре». Он продолжал расширять «Ярмарку в октябре», пока она не стала такой огромной, что, в конце концов, ее разделили пополам, и первую половину опубликовали как роман «О времени и о реке»]. Слава богу, у меня тридцать фунтов лишнего веса, это убьет меня при написании книги.
В следующую среду я обедаю – или пирую – с некоторыми вашими друзьями: с Дэшиллом из «Скрибнерс», миссис Д., молодым человеком по имени Мейер, который сначала читал мою книгу для С., и вашим другом, глухим молодым человеком, который также является другом Мейера. [Альфред С. Дэшиэлл, который был управляющим редактором журнала «Скрибнерс», а позже являлся управляющим редактором «Читающий дайджест»; Уоллес Мейер, редактор книжного отдела «Скрибнерс», и Байрон Декстер, который позже был управляющим редактором журнала «Иностранные Дела»].
Это все на сегодняшний день – свободные американцы весь день стреляют из хлопушек: это почти все, что они могут сделать. Погода хорошая и плохая – сегодня прохладно, светло и прекрасно. Но впереди ад. Я, естественно, взволнован и надеюсь, что с книгой случится что-то хорошее.
Я радуюсь вашему путешествию и разделяю ваше счастье. Похоже, вам везет на протяжении всего пути. Зайдите в «Королевский Дуб», чтобы выпить в Эмблсайде. Остановитесь на день или два в отеле «Кавендиш» Рози Льюис на Джермин-стрит – съездите в Бат, Линкольн, Йорк, аббатство Фаунтин, Эдинбург, Троссаки – поешьте в Сохо – ресторан «Гурман» – таверна «Старый Кок» (Флит Стрит) – «Симпсон»: сходите в бар «Трокадеро» за коктейлями – прогуляйтесь по старому Лондону при свете луны (если будет луна) – посетите книжные магазины, особенно «Фойлс» на Чаринг-Кросс. Это все на сегодняшний день. Удачи и да благословит вас обоих Господь.
Алине Бернштейн
Нью-Йорк
Гарвардский клуб
Вторник, 9 июля 1929 года
Дорогая Алина:
Я все улажу до своего отъезда. Если в воскресенье ты собираешься в Бостон, я уплыву отсюда на пароходе в субботу вечером – или, возможно, приеду в субботу или воскресенье на поезде. Я сразу же приеду в отель. Последние четыре-пять дней стояла обычная нью-йоркская жара – настолько сильная, что о ней забываешь или отказываешься верить, когда она заканчивается, – люди ходят в рубашках, которые прилипли к телу.
Я приехала из Райнбека в понедельник ранним утром вместе с Олином. Там было жарко, но очень красиво. Это самое красивое место, которое я когда-либо видел, но немного мертвое. У нас было несколько ужасных споров. Наверное, неправильно говорить, что нельзя верить в Асторов и попасть в Царство Небесное, но я думаю, что это правда – я даже не верю, что можно попасть в ад, веря в них. Человек получает то, что заслуживает, – если он верит в Асторов, это заканчивается тем, что Асторы верят в него. О [Олин] много говорил со мной о «хорошей форме», «правильных поступках» и называл многие вещи «невероятно дешевыми и вульгарными». Он сказал мне, что его покойный дед – джентльмен старой школы, перед памятью которого он приклоняется, – говорил, что Руссо был просто «хамом», писавшим о людях, которых он знал, и я ответил, что Руссо, несомненно, был бы очень обижен, если бы услышал от его деда такие слова. Я также сказал ему, что называть все, что не нравится, «невероятно дешевым и вульгарным» – это не тот способ, которым люди, нажившиеся на мошенничестве босса Твида, должны относиться к жизни – или к кому-либо еще, – и что нельзя оправдывать себя от хамства, называя других людей хамами.
Думаю, в этом его беда: он считает, что главное – не делать ничего, что могло бы показаться Асторам дурным или оскорбительным тоном. Это чувство гораздо глубже, чем его чувство к живописи, хотя он работает очень усердно и искренне.
Сарджент, Уистлер, Шоу, социализм в гостиной, вареные овощи и все остальное.
Он прекрасный человек, добрый и правдивый в душе. Он мне очень нравится, я его очень уважаю, и мне неприятно видеть, что он так преисполнен чувств к фальшивым традициям культурам и так пуст к настоящим.
Мы пошли на концерт в Льюисон [Леонард, Джулиус и Адольф Льюисоны, сделавшие состояние на меди и свинце, в конце жизни занялись филантропией. Адольф был главным филантропом семьи. Самым известным его даром стал стадион на шесть тысяч мест, который он подарил Городскому колледжу Нью-Йорка в 1915 году. В своем завещании он оговорил, что разрешает колледжу использовать его для проведения летних концертов по низким ценам. Его брат Леонард был отцом Алисы и Ирен, основателей театра «Плейхауа».] Сегодня вечером на стадионе играла очень красивая музыка, публика была прекрасная, а на открытом воздухе было тихо и спокойно. Завтра вечером я встречаюсь с некоторыми людьми в «Скрибнерс» – новые гранки приходят быстро, и книга будет опубликована в октябре. Я все еще очень рад этому, но хочу закончить новую [книгу] – единственное стремление, которое, стоит того, чтобы ничего не делать, и иметь для это деньги. Литературная жизнь здесь, насколько я могу судить, отвратительна и банальна – я вложил кровь и пот в свою книгу, и меня будут ненавидеть некоторые люди, осуждать старики, насмехаться и издеваться молодые – богатые снобы, как обычно, будут верить в то, что модно, а клика и политики будут кричать и издеваться.
Я рад, что ты наслаждаешься визитом к своему другу, и удивлен, что здесь так тихо. Не становись слишком сельской – полагаю, в Нортгемптоне, как и в любом другом месте, все еще можно наслаждаться некоторыми простыми удовольствиями. Во всяком случае, да благословит тебя Бог, мы увидимся в воскресенье в Бостоне. Я чувствую себя хорошо, несмотря на жару, которую ненавижу. Во всем Нью-Йорке царит атмосфера страдания, и все жители города нравятся мне еще больше. Сегодня я заметил, насколько нежнее и приятнее стали их лица, когда они чувствуют боль. В такую погоду мы вдруг вспоминаем, как тяжела жизнь и как много нам приходится бороться за столь малое. И все же я полон надежд и ожиданий. Лучше быть таким, чем Бруксом – хотя мы оба ошибаемся. У Олина я читал Дефо, Смоллета, Диккенса и стихи Свифта. Все они очень хороши, хотя Свифт не был поэтом. Он был Свифтом. В «Смоллете» есть сцена, где двое мужчин устроили дуэль, покуривая ассафоэдиту в маленьком чулане. В конце концов, одного из них стошнило в лицо другому – на этом дуэль закончилась. Это была очень хорошо написанная сцена. [Этот эпизод взят из книги «Приключения Фердинанда графа Фатома», глава 41. Информация была найдена благодаря любезным усилиям доктора Памелы Миллер, доцента английского языка в Пенсильванском государственном университете, и Хейзел Маккатчон, главного библиотекаря Пенсильванского государственного университета, кампус Огонтц].
До свидания, моя дорогая. Моя рубашка прилипла к телу. Я с надеждой и радостью жду поездки.
Со всей любовью, Том
Я нашел для тебя хорошее посвящение и оставлю его у издательства перед отъездом. Ты никогда не интересовалась тем, что я пишу, но я думаю, что когда-нибудь я напишу книгу, которая тебе понравится – это будет твоя книга и твое посвящение. Я люблю тебя и ничего не могу с этим поделать. Надеюсь, там, где ты, прохладно – мне бы хотелось работать «в хорошей прохладной канаве».
[К июлю Вулф был готов приступить к исправлению гранок для пробных экземпляров своей книги. Для этого он снял на две недели коттедж в Оушен-Пойнт, Бутбей-Харбор, штат Мэн, и миссис Бернштейн приехала к нему. В августе он совершил короткую поездку в Канаду.
[Вулф выбрал строки из стихотворения Донна «A Valedictorian: Мое имя в окне», чтобы сопроводить посвящение «А.Б.». Он подчеркнул эти строки в своем экземпляре «Полного собрания стихотворений Донна», который ему подарила миссис Бернштейн:
Поелику Тобой я сущ в раю
(Всегда, везде из чувств моих любое
И живо, и ведомо лишь тобою),
Но раму бренную души мою
Оставил здесь, то мышцы, жилы, кровь
Одеть вернутся кости плотью вновь?]
Джулии Элизабет Вулф
Гарвардский клуб 27
Западная 44-я улица
Без даты
Дата на конверте – 12 июля 1929 года
Дорогая мама:
Мои гранки длятся уже более шести недель – мне приходится задерживаться на работе, чтобы их исправлять. Мой рассказ [эпизод из романа «Взгляни на дом свой, Ангел» под названием «Ангел на крыльце»] будет опубликован в августовском номере «Скрибнерс» – книга выйдет, как я понимаю, в октябре. Моя фотография также будет на задней странице «Скрибнерс» за август, вместе с описанием о моей книге [роман «Взгляни на дом свой, Ангел», был опубликован 18 октября 1929 года] – я не знаю, что они написали обо мне, но возьмите августовский номер и прочитайте его. Мне, естественно, не хотелось возвращаться домой, пока приходили гранки – на данный момент я получил около половины, но остальные должны прийти быстрее. Когда я их закончу, они превратят длинные галеры в гранки – тогда моя работа будет закончена. Я могу прочитать пробный вариант, но мне сказали, что в этом нет необходимости, так как этим займется кто-то в «Скрибнерс». Теперь мне предстоит закончить несколько рассказов и заняться новым романом. Все, что я могу сделать с этим романом, это надеяться и молиться – люди из «Скрибнерс» были замечательными, они работали над ним как собаки, и они считают, что это прекрасная книга. Мы все надеемся, что она будет успешной. Пожалуйста, продолжайте ничего не говорить об этом – если кто-нибудь прочитает статью и анонс в августовском номере и спросит, когда выйдет книга, о чем она и так далее, скажите, что не знаете, или ничего не говорите. Это всегда лучше. Пусть этим занимается «Скрибнерс» – они прекрасные люди и хорошие издатели, и они сделают для меня больше, чем кто-либо другой. Кстати, в журнале «Скрибнерс» за июль было небольшое объявление о моем рассказе – перелистайте назад, где они анонсировали августовский номер, – рассказ короткий, но вам он может быть интересен.
Я устал и нервничаю: Меня пригласили поехать в Мэн, и завтра я отправляюсь туда на две недели. Маленькое местечко далеко на морском побережье, вокруг нет людей, очень тихо. Я собираюсь две недели ни о чем не думать. «Скрибнерс» пришлет мне туда еще несколько гранок.
Я хотел бы приехать домой в конце августа или в начале сентября. Пока не знаю. Я буду писать вам из Мэна. Я, естественно, хочу сделать все возможное для себя – это важное время для меня – и также хочу сделать все возможное для всех остальных.
Люди из университета назначили меня на новую работу с окладом $2400 – я хотел бы отказаться от нее, но, возможно, не стоит рисковать, пока я не увижу, как пойдет книга. Здесь так много пота и душевной боли, а вознаграждение порой так мало.
У нас в Нью-Йорке была ужасная жара – большие страдания и много смертей. Здесь жарко, но не сухо – с реки надвигается тяжелый влажный туман, и вы чувствуете себя как в паровой бане. Это самая ужасная жара в мире.
Я хотел послать вам одну из фотографий, которые мне дали мои фотографы, – тогда вы сможете увидеть, остался ли мой нос после драки таким же, как был всегда, – думаю, да.
Надеюсь, вы не сердитесь, что я не приехал домой 15 июня – это было невозможно с моей работой здесь, и, кроме того, вы застали меня врасплох: у меня и мысли не было, что вы меня ждете, вы ничего не говорил об этом раньше.
Пожалуйста, напиши мне – я не уверен в адресе в штате Мэн, но, насколько я помню, это адрес миссис Джесси Бендж, коттедж К. У. Сноу, Оушен-Пойнт, штат Мэн, но я думаю, что вы можете написать и в Бутбей-Харбор, так как там находится офис почты.
Я надеюсь, что это письмо застанет вас в добром здравии и с улучшением дел. Я часто думал, что с возрастом ваше здоровье не ухудшается, а улучшается – помню, когда мне было семь или восемь лет и вы только что переехали в О. К. Х., вы два или три года сильно болели. И в молодости у вас, я думаю, не было хорошего здоровья.
Я рад, что вы сейчас так хорошо себя чувствуете, и от всего сердца желаю вам еще много лет здоровья и энергии. Мало кто из моих знакомых прожил такую насыщенную и активную жизнь, как вы. Я не думаю, что когда-нибудь снова вернусь домой, чтобы жить, но мы должны верить и стараться любить и понимать друг друга.
Без этого ничто не имеет смысла.
Мне жаль, что никто из семьи не пишет мне часто. Я бы хотел получить весточку от всех вас. Передайте всем мою любовь и пишите мне, когда сможете.
С большой любовью,
Том
Я был за городом один раз – в конце недели 4 июля – ездил к Олину Доусу, в его дом на Гудзоне в Райнбеке. У них 2000 акров земли и два дома по 40 комнат в каждом. Никого, кроме Олина, там не было. Это очень красивая деревня – большой Гудзон внизу, Катскиллы вдали, большие поля, леса, холмы и фермы… Но там очень жарко.
Там, куда я поеду в Мэне, будет достаточно холодно, что бы спать в свитере под одеялом. После Нью-Йорка мне бы хотелось иметь ледяной дом.
Джон Холл Уилкок (1886–1978) – американский поэт, с 1911 года редактор «Скрибнерз» по разделу поэзии. Друг Максвелла Перкинса
Джону Холлу Уилоку
Фирменный бланк отеля «Бельвью»
Бостон
Вторник, 16 июля 1929 года
Дорогой мистер Уилок:
Мой будущий адрес Оушен Пойнт, Мэн, Бутбей Харбор, хозяйка Джесси Бендж, Снежный Коттедж. Это несколько сложно, но если у вас есть для меня гранки, пришлите их туда. Я собираюсь в путь сегодня и рад оказаться за городом.
Сегодня утром я заметил в «Бостон Геральд» прилагаемую карикатуру и думаю, что она, вероятно, была навеяна журналом «Скрибнерс» и романом Хемингуэя. Дэшиэлл делает подборку – если вы думаете, что она его заинтересует, пожалуйста, пришлите ее.
Вчера я ходил в Арнольдский дендрарий – там было очень красиво, но птицы повсюду подстрекали друг друга к похоти, в непристойной и нецензурной манере.
Искренне ваш,
Вулф
Джону Холлу Уилоку
17 июля 1929 года
Дорогой мистер Уилок:
Не посмотрите ли вы гранки 62? Я вписал один абзац, чтобы смягчить суровое впечатление от Леонарда (где он бьет маленьких мальчиков), и включил в текст Маргарет, его жену, которая поддерживает его из любви и преданности – я сделал это, исходя из идеи, что «несчастье любит компанию». Делайте с этим, что хотите.
Мой адрес: Оушен-Пойнт, штат Мэн, коттедж К. У. Сноу, посылать Джесси Бендж. Есть также общий почтовый адрес, который также следует указать, Бутбей-Харбор, но не уверен. Я дам вам знать.
Ваш,
Томас Вулф
Отсутствуют гранки 57, 58
И еще раз спасибо за ваши старания и труд
Джулии Элизабет Вулф
[Открытка]
Вид на море, Оушен-Пойнт, штат Мэн
Оушен-Пойнт, штат Мэн
18 июля 1929 года
Дорогая мама:
Это очень красивое место, но оно совершенно не похоже на Эшвилл. Это маленькое местечко на диком и скалистом побережье Мэна с несколькими летними домиками. Я слышу море весь день и ночь – я сплю на крыльце коттеджа прямо в еловом лесу, в 25 ярдах от воды. Я ловлю рыбу со старой прогнившей пристани в 100 ярдах от дома и вытаскиваю ее так же быстро, как забрасываю леску. Отличное место для отдыха.
С любовью, Том
Следующие письма Джону Холлу Уилоку из «Скрибнерс» были написаны из Бутбей-Харбора, штат Мэн, куда Вулф отправился отдохнуть и читать гранки «Взгляни на дом свой, Ангел». Уилок был редактором, отвечавшим за окончательную редактуру и корректуру всех книг Вулфа, изданных «Скрибнерс». Позже он являлся старшим редактором, занимая место Максвелла Перкинса, который умер в 1947 году.
Джону Холлу Уилоку
Оушен-Пойнт, штат Мэн
19 июля 1929 года
Дорогой мистер Уилок:
Не возражайте, если сейчас я буду называть вас «мистер», но, пожалуйста, не делайте этого по отношению ко мне. У меня больше нет ни малейшего чувства скованности или неуверенности по отношению к вам, напротив, я испытываю самые теплые и благодарные чувства к вам и мистеру Перкинсу, но я не могу называть вас Уилоком, как не могу называть его Перкинсом. В одиночестве я понимаю, что я уже немолодой человек, и, сталкиваясь со своей работой в одиночку, я порой бываю близок к голому ужасу, к пустоте, я знаю, что никто не сможет мне помочь, направить меня или исправить положение – такова моя работа. Возможно, именно поэтому в своих личных отношениях с людьми я придерживаюсь старой детской веры в то, что есть люди старше меня, которые мудрее и сильнее и могут мне помочь. Я далек от меланхолии – я полон сил, энергии и надежды, как никогда за последние годы, и в данный момент у меня есть несколько книг, все они полны жизни, разнообразия и богатых деталей. Если я только смогу окончательно избавиться от великой болезни и беды моего духа, которая заключается в том, что я вбираю в себя больше жизни, чем может вместить один человек, я смогу продолжать делать хорошую работу – потому что все люди, конечно, ограничены этим пределом, и я верю, что мой шанс учиться и получать опыт, а также моя способность к поглощению не хуже, чем у большинства людей.
Я чувствую себя набитым до отказа богатой рудой. В этом диком и прекрасном месте вся Америка простирается подо мной, как бескрайняя равнина: миллион форм, которые проводят себя в городе и так мучают нас своей путаницей и количеством, слились в более спокойный нрав – я полон какой-то трагической радости. Мне хочется разорвать себя и показать друзьям все, что я думаю. Мне так хочется выложить на стол все свои изделия – и когда хоть одно мое дело похвалят, сказать: «Вы не видели и десятой или двадцатой части того, что есть во мне. Просто подождите». Потом я мучаюсь, когда говорю с людьми, которым я показался слишком буйным, слишком полным дикой энергии – я ухожу, думая, что у них есть эта простая картина в двух или трех цветах обо мне, в то время как есть тысяча мрачных и неясных оттенков, которые не были показаны. Я полон привязанности и любви к этой первой книге, но когда вы и мистер Перкинс похвалили ее, меня охватило желание сделать что-то гораздо лучшее – я сделаю, я должен показать этим людям, что во мне есть! Таким образом, мы снова приходим к тем причинам, которые заставляют меня говорить «мистер» некоторым людям – дух молодого человека жаждет настоящей похвалы, восхищения его работами: творческий импульс, который имеет такие сложные ассоциации, может иметь такие же простые и мощные корни, как этот.
Было бы неточно сказать, что я чувствую, что все, что я делаю, по своей сути правильно. В своей жизни я стремлюсь к большему равновесию, спокойствию, доброте к другим людям, но когда я пишу в настоящее время, я хочу вырвать из себя самые отдаленные и ужасные вещи в себе и других: все угрызения совести и ограничения традиционной морали, которые у меня есть – а у меня их много – исчезают под влиянием одного непреодолимого желания сделать все пылающим светом, придать всему интенсивность и густоту. Таким образом, когда я пишу, мои собственные похоти, страхи, ненависть, ревность – все, что является низменным или подлым, – я вырываю с сильной радостью, а также, возможно, и лучшие качества, чувствуя не то, насколько плохими могут быть эти вещи, а то, какая это великолепная жизнь, как мало все остальное в сравнении. Это, конечно, самый колоссальный эгоизм – но как еще люди творят? Уж не тем ли, что говорят себе, что они скучны, а их дела ничтожны или подлы? Какая в этом польза или где улучшение? Короче говоря, во время работы бывают моменты, когда я чувствую, что ни у кого нет и четверти моей силы и богатства – моя подлость лучше их благородства, мои язвы интереснее их здоровья и так далее – что, так или иначе, я прекрасный молодой парень и великий человек. Я знаю, что вы не станете презирать меня за это признание. Вокруг есть люди, в особенности критики, которые будут ругаться и насмехаться над этим, но под их глупым налетом скромности и циничной урбанистичности скрываются маленькие горы эгоизма. Я просто работаю в этом направлении, чувствуя, когда дела идут хорошо, что я что-то огромное, как Бог; но как человек я больше не наглый и не гордый в душе; я, наоборот, испытываю постоянное чувство неполноценности, часто перед людьми, которым я ни в чем не уступаю. Профессор Бэббит [Ирвинг Бэббит] из Гарварда мог бы вычислить все это за 40 секунд по своей запатентованной… системе, а все мои разнообразные романтические болезни он мог бы закрепить полудюжиной билетов собственного производства – но его марка «классицизма» настолько романтичнее моего самого дикого романтизма, что для сравнения Платон мог бы породить меня от Лесбии.
Не могу передать, как тронуло меня ваше письмо – его длина, терпение и забота: оно – символ всего моего отношения к вам и мистеру Перкинсу. Еще год назад я и подумать не могл, что меня ждет такая удача – связь с такими людьми, такой издательский дом, редактирование и критика, столь кропотливая и умная. Когда-то я должен был сказать, что это похоже на воплощение детской фантазии, но я знаю, что это не совсем точно – детские мечты раздуты от такого ложного великолепия, что многое в жизни кажется молодому человеку черствым и разочаровывающим. Но во мне пробуждается медленная и сильная радость по мере того, как я убеждаюсь, что в жизни есть настоящие чудеса, которые еще более странные и насыщенные, чем наши выдумки. Подумайте вот о чем: Я был маленьким мальчиком, родившимся среди великих гор от незнатного народа, в детстве я видел странные и прекрасные вещи, мне постоянно снились чудесные дали и города – и когда я вырос, я отправился туда и увидел их. Я был бедным мальчиком, выросшим в анархии, я сказал, что однажды должен поступить в Гарвард, и поступил. Люди, которые шутят о Гарварде, пошутили бы по этому поводу, но для того мальчика это не было шуткой – это было волшебство, и путешествие нужно рассматривать с самого начала. Я читал и мечтал о странных чужих городах, я рос и ездил в них, я встречал в них людей, я бродил с места на место в одиночку, я переживал в них удивительные приключения. Когда мне было 16 или 18 лет, я надеялся, мечтал, не смея произнести эту надежду, что когда-нибудь я напишу книгу, которую будут читать мужчины. Теперь я написала книгу, ее печатает большое издательство, и люди, которые ее видели, были тронуты ею и похвалили ее. Семь месяцев назад я приехал в Вену из Будапешта после нескольких месяцев скитаний по Европе: у меня был шрам на голове и сломан нос: там я нашел письмо от «Скрибнерс». Сейчас я пишу это из маленького коттеджа на диком побережье штата Мэн – небо серое и полно крикливых чаек, Атлантика надвигается длинными серыми волнами. Я ел вкусную пищу и пил великолепные вина во многих странах. Я прочитал тысячи благородных книг на нескольких языках. Я знал и наслаждался прекрасными женщинами, любил и был любим одной или двумя.
Глупцы скажут: «Как романтично!». Я скажу вам лишь то, с чем вы легко согласитесь, – это не романтика, а всего лишь бессодержательное изложение нескольких фактов из обычной жизни. Ни один человек не скажет, что здесь есть хоть одно упущение или искажение фактов – тот, кто предпочитает верить, что здесь нет чудес и богатства, лишь глупо и упрямо обнимает фантомы бесплодия. Нет, человек приходит к пониманию того, что в жизни есть разумная надежда, которой можно дорожить, которая делает ее достойной жизни, и что детский пессимист, отрицающий это, такой же лживый и бесчестный мошенник, как и дешевый готовый оптимист, и что, действительно, из этих двух марок негодяев торговец оптимизмом Поллианны – лучший человек, чем тот, чьим товаром является сопливый ворчливый пессимизм Поллианны. Дух, который с материнской утробы ощущает трагическую подоплеку жизни и никогда не видит конца иначе, чем он есть, тем более уверен, что солнечный свет не состоит из тумана, вино – из уксуса, хорошее мясо – из опилок, а прекрасное женское тело – из азота, разлагающихся экскрементов и мутной воды. К черту все эти лживые измышления – зачем мы их терпим?
Я знаю, что полезно есть, пить, спать, ловить рыбу, плавать, бегать, путешествовать по чужим городам, ездить по суше, морю и воздуху на огромных машинах, любить женщину, пытаться сделать красивую вещь – все, кто считает такие занятия «бесполезными», пусть зароются в землю и будут съедены червями, чтобы посмотреть, будет ли это менее бесполезно. Однако эти презиратели жизни, которые так равнодушны к жизни, первыми кричат и охотятся за доктором, когда у них болит живот.
В этой чудесной маленькой гавани есть остров – я могу смотреть на него с крыльца своего коттеджа. Он покрыт великолепным еловым лесом, и на одном из его концов на поляне под могучими деревьями приютился маленький домик. Один конец острова (где находится этот дом) смотрит на залив и на маленькие коттеджи вдоль берега; другой конец выходит на открытую Атлантику. Теперь я фантазирую о том, чтобы купить этот остров (площадью 15 или 20 акров), и так странно, что однажды, возможно, я это сделаю. Несколько недель назад, когда я узнал, что приеду в Мэн, я начал думать об островах. Вскоре я увидел себя владельцем одного из них, живущим на нем, отчаливающим от материка (старой ветхой пристани) со своим слугой на маленькой моторной лодке, набитой провизией – до мельчайших деталей я видел это место, вплоть до домика у родника, где должно храниться масло, молоко и консервы с говядиной. Эта сцена стала частью моего сна. Насколько размытыми стали реальные детали, я сказать не могу, картина остается яркой, только остров, который мне снился, стал этим островом – я не могу отличить один от другого, настолько незаметно они слились (вплоть до гнилой старой пристани, с которой я ловлю рыбу).
В детском сне происходит главное – именно это вызывает удивление – длинные промежутки между вспышками реальности остаются в стороне. Например, ребенок находится на большом корабле, плывущем в незнакомую страну, плавание заканчивается, и в следующий момент корабль входит в гавань, он ступает не на сушу, а в Париж, Лондон, Венецию. Я живу в таком месте – вот гавань, в ней лесистые острова, маленькая прибрежная дорога, которая вьется у самой кромки воды, и все маленькие домики, с аккуратными двориками, яркими цветами. И тут же – океан. До последних лет я перестал верить, что такие пейзажи могут быть, да и сейчас этот пейзаж не кажется мне реальным. Я думал, что будет пребрежное море. Но нет. Как-то вечером я шел по дороге. Маленькие фермерские домики спали под луной, над изгородями склонились ветвистые яблони, полные созревших яблок, а на стенах росли дикие лесные лилии. По этой дороге не скажешь, что за домами, за елями и изгородями, за созревающими яблоками – море, но стоит свернуть за поворот, и море уже там. Я думал, что будут огромные отмели в море, медленные остановки земли и скал, унылые болотистые пустоты, медленный провал и пустой отказ от земли, но когда вы огибаете поворот дороги, море уже там – оно одним махом вошло в сушу. Этот союз огромного и одинокого с маленькими домиками, землей, маленькой гаванью вызвал во мне великую музыку. Я не могу сказать, что все это значит, но это было похоже на то, как если бы Мильтон стоял у маленькой двери. И я подумал, что если бы человек попал в это место на корабле из открытого моря, то это произошло бы с внезапностью сна.
Распутывать все смыслы этих вещей было бы слишком долго, а мое письмо и так слишком длинное.
Я получил гранки, присланные вместе с вашим письмом – 100 страниц. Сегодня днем я отправляю вам несколько, которые были у меня до этого – после 78 (включая нецензурные фрагменты для 71, 72). Мне жаль, что типография была расстроена моей одной длинной вставкой. Не думаю, что это повторится. Я сделал это, чтобы дополнить одну деталь в жизни Леонарда – многое, что показывало этого человека в выгодном свете, было ранее убрано, и я счел уместным добавить немного здесь. Но больше я этого делать не буду. Я внимательно прочту все, что вы сказали, изучу сцену с мальчиками, уходящими из школы, и вырежу то, что смогу. Мне жаль, что книга все еще слишком длинная. Мистер Перкинс предложил убрать из нее очень большой кусок, что и было сделано. Теперь у меня гораздо более свежий взгляд на нее, и, возможно, я уберу больше. Я обязательно отправлю вам все имеющиеся у меня гранки (до 100) до вторника следующей недели – они должны попасть к вам в четверг. У меня еще есть десять или одиннадцать дней в этом чудесном месте – то есть до доброй недели со следующего вторника, – поэтому у вас будет время прислать мне еще. Я предполагаю поехать в Канаду, когда уеду отсюда, на неделю, и вернуться в Нью-Йорк до 10 августа. Было бы хорошо, если бы у меня были доказательства, чтобы взять их с собой.
Вы меня очень встревожили, когда сказали, что 75 страниц рукописи пропали, но если перечитать, как я понял ваше письмо, то, похоже, у нас уже есть гранки этих страниц. Даже если это не так, в «Скрибнерс» есть полная копия оригинальной рукописи, помимо той, которую мы с мистером Перкинсом вырезали. Конечно, какие правки были сделаны на этих 75 страницах, я не знаю. Для меня было большим потрясением узнать, что у вас уже есть гранки для 70 страниц – конечно, я с нетерпением и радостью жду их появления. Я с нетерпением жду экземпляров журнала с моим рассказом и статьей о моей работе [Августовский номер журнала «Скрибнерс», в котором появился «Ангел на крыльце», вместе с кратким биографическим очерком о Вулфе]. Какой смысл изображать из себя скромника и сдержанного человека, если ты этого не чувствуешь!
Сегодня другая погода – великолепный, голубовато-белый, холодный, искрящийся день. Простите за длинное письмо, за личные рапсодии – я стал жертвой, сделав вас ангелом. Мое следующее письмо придет с доказательствами и будет строго по делу. Здесь я ловлю рыбу, читаю и пишу.
Джону Холлу Уилоку
20 июля 1929 года
Бутбей Харбор, штат Мэн
Суббота, 4:30
Я получил вашу вторую часть доказательств сегодня через (я полагаю) гранки 108. Сейчас нет времени на подробные комментарии – пытаюсь отправить это [письмо] последней почтой сегодня, но полагаю, что все мои исправления ясны.
Это гранки 71-78 включительно (которые я привез сюда с собой) вместе с нецензурными гранками 71-72 и манускрипт дл, этого раздела.
Примечание – гранка 73 – публичный дом для блудницы – гранка 73 – союз при трудностях для распутства при различиях. Примечание для гранки 73; уберите восхитительного (делайте, что считаете нужным здесь гранка 76 – уберите [Скользящий] поцелуй и (делайте, что считаете нужным)
Я отправлю вам новые материалы в понедельник.
Ваш,
Вулф
Джону Холлу Уилоку
[Оушен-Пойнт, штат Мэн]
Понедельник, 22 июля [1929 года]
Дорогой мистер Уилок:
Посылаю Вам гранки страниц 79-90. Именно для этой части (79-100), по вашим словам, была утеряна рукопись. Не могли бы Вы еще раз настоятельно попросить типографию попытаться восстановить ее? Здесь есть несколько мест, которые вызывают у меня затруднения. Естественно, без рукописи я не могу слово в слово вспомнить оригинал, но мне кажется, что в нескольких местах есть пропуски, которые не покрываются теми сокращениями, которые сделали мы с мистером Перкинсом. Самое важное из них – в начале сцены ухода мальчиков из школы, которую, по вашим словам, следует сократить еще больше. Мы с мистером Перкинсом убрали большой кусок, но теперь там есть путаный переход, который сводит на нет смысл нескольких речей (вы указали на одну из них). Я попытался исправить это, как мог…
Я не помню, что мы с мистером Перкинсом делали на странице 80 – там, где вы сделали разрез. Мне не кажется, что то, что происходит здесь, может вызвать обиду больше, чем многие другие вещи, которые остаются – в качестве альтернативы я вырезал часть этого и предоставляю результат на ваше решение. Если вам все же кажется, что лучше вырезать все, пожалуйста, сделайте это. («Вырезайте»).
Просмотрите, пожалуйста, названия немецких книг на странице 85 и исправьте ошибки в грамматике – например, «Der» или «Die Zerbrochene Krug» и так далее.
Когда я снова читаю гранки, я все больше беспокоюсь. Например, один из мальчиков в сцене прихода из школы упоминает миссис Ван Зек, жену специалиста по легочным заболеваниям, но целый раздел, описывающий ее выход из магазина, был опущен. Я не могу припомнить, чтобы я делал это сокращение вместе с мистером Перкинсом. Что касается дальнейших сокращений в этой сцене, я сделаю все, что смогу, но мне кажется, что разговор между двумя мальчиками, который, по вашим словам, слишком длинный, был сокращен излишне – у вас есть сцена гробовщика, сцена У. Дж. Брайана, сцена старика Эвери, сцена деревенского идиота, сцена старого полковника Петтингрю, сцена обсуждения войны – все они, как мне кажется, хороши. Но я сделаю то, что смогу.
Ввиду обнаруженных мною пробелов, я думаю, что отправлю вам этой почтой только 79-90. Остальные отправлю, как только смогу что-то сделать, чтобы заполнить пробелы. Я надеюсь, что люди не будут смотреть на эту часть как на простой трюк – я действительно не знаю, что делать, чтобы сократить ее – это не трюк, большая часть города представлена в кратчайшие сроки. Я собираюсь отправить вам гранки на 90 странице без дальнейших задержек – я хочу, чтобы вы просмотрели сцену ухода из школы и, если вы видите сокращения, сделайте их. Я буду сокращать, где смогу, в последней части сцены.
На этом все, извините, что доставил вам столько хлопот, но, как вы, я думаю, знаете, я вам глубоко благодарен. Временами приведение этой книги в порядок кажется мне похожим на надевание корсетов на слона. Следующая будет не больше верблюда. Завтра пришлю еще.
Джону Холлу Уилоку
[Оушен-Пойнт, штат Мэн]
Вторник, 23 июля 1929 года
Дорогой мистер Уилок:
Прилагаю к письму гранки со страницы 91-100, которые я сейчас тщательно просмотрел. Несмотря на ваш совет сократить этот раздел (ту часть, где речь идет о мальчиках, приходящих из школы), боюсь, я немного удлинил его. Это было необходимо из-за некоторых пропусков и пробелов, которые, как мне показалось, либо были допущены типографией, либо мы с мистером Перкинсом не учли при сокращении. Я вписал пропущенный фрагмент о миссис Ван Зек, как мне кажется, несколько короче, чем он был вначале – из-за недостатка места мне пришлось прикрепить его и указать место, куда его следует вставить. Я также вписал различные темы из поэзии в тех местах, где, как мне казалось, есть свободное место. Это настроение и характер, с которого началась сцена – вплетенная поэзия, – и мне казалось, что его следует продолжить.
Мистер Уилок, я не по своей воле пошел наперекор вашим советам в этом разделе – я просто не в состоянии разумно выбрать из того, что у меня осталось. Я должен быть обеспокоен тем, что это слишком длинно. Пожалуйста, рассмотрите его еще раз как можно тщательнее и, если сочтете нужным, сделайте сокращения там, где они, по вашему мнению, необходимы.
Хотя фрагмент с Ван Зеком означает дополнительную работу для типографии, я думаю, что он может иметь приоритет над некоторыми другими моментами в сцене по нескольким причинам: во-первых, это военное время, обсуждение войны, союзников, «голосов предков, пророчащих войну» идет сразу после этого – немецкое имя женщины, ее положение, богатство и так далее, открывает перспективы и подтексты, которые могут быть интересными. Во-вторых, мальчики упоминают ее в своих речах – все это может свидетельствовать о том, насколько разнообразным (а не однородным) может быть расовый, культурный, фоновый уклад даже в маленьком городке. Пожалуйста, проверьте, если можете, мои цитаты. «Nur wer die (?) Sehnsucht kennt» и так далее – это Гёте. «Drink to me only with thine (?) eyes», и Китс «O for a draught of vintage» (кажется, из «Оды к осени» – не уверен) [Это из «Оды соловью»]. На странице 93 я восстановил предложение, которое вы вычеркнули, и заменил слова, которые показались мне неприемлемыми. Если оно все еще кажется вам слишком сильным, вырежьте его. (На странице 94 я добавил предложение «Договорившись встретиться с ней» (миссис Перт) и для сцены между Беном и миссис Перт, которая, как я помню, не была вырезана.
Изначально на странице 94 был бурлеск об английских военных книгах – был ли этотфрагмент опущен при сокращении? Я добавил здесь одну строчку, чтобы подвести итог тому, что осталось.
На сегодня это все. У меня осталось восемь страниц, которые я постараюсь доставить к вам завтра. Я уезжаю отсюда, думаю, в субботу или воскресенье. Не присылайте больше никаких гранок после четверга. Если до этого времени я получу еще, то верну вам все исправленные до моего отъезда. В настоящее время я планирую отправиться в Портленд и сесть на поезд или корабль до Канады. Я дам вам знать. Если я поеду туда, то пробуду там неделю. Я дам вам свой адрес, а также сообщу, когда я вернусь в Нью-Йорк. Естественно, я хочу закончить с гранками как можно быстрее.
Еще раз спасибо за вашу заботу и терпение.
Джону Холлу Уилоку
Оушен Пойнт, штат Мэн
23 июля 1929 года
Дорогой мистер Уилок:
Только что отправил гранки 91-100 и обнаружил на почте пакет с гранками, адресованный Томасу Бойду [Томас Бойд (1898-1935) был автором «Скрибнерс» и не родственник Мадлен Бойд], это мои вещи, гранка 115, вы случайно, не отправили еще какие-нибудь мои вещи Томасу Бойду?
Искренне Ваш,
Томас Вулф
Джону Холлу Уилоку
Среда, 24 июля 1929 года
Оушен Пойнт, штат Мэн
Дорогой мистер Уилок:
Спасибо за ваше письмо, которое пришло сегодня утром. Оно ничуть не было коротким и формальным, как вы предполагали, это было очень дружеское и ободряющее письмо, я был счастлив получить его. Я вполне понимаю, как вы в настоящее время напряжены, я не ожидаю длинных писем или чего-то большего, чем простые инструкции.
Сегодня я посылаю вам гранки 101-108, остались 109-115, которые я отправлю завтра. Это все гранки, которыми я располагаю на данный момент, надеюсь, что появятся еще. Можно смело посылать мне гранки до вечера четверга. Я уезжаю отсюда в субботу или воскресенье. Я вернусь в Нью-Йорк через неделю или 10 дней после этого, если можно дать вам адрес, по которому нужно присылать гранки в течение этого времени, я сделаю это.
В этой партии материала было очень мало работы, я внес исправления, которые вы указали, и сделал две небольшие вставки, которые, на мой взгляд, дополняют картину, но следуйте своему собственному мнению и сократите их, если сочтете нужным.
С потерянными текстами все в порядке, мое беспокойство по поводу пропусков было лишь фантомом моего разума, и ваше мнение, что все на месте, развеивает его.
Прилагаю редакционную статью из утренней «Бостон Геральд», которая, похоже, решительно поддерживает «Скрибнерс». Бюро вырезок Дэшиэлла, вероятно, пришлет ему это, но, возможно, и нет. Не думаю, что о гранках можно сказать что-то еще, чего уже не было сказано или что не следует из них.
С уважением,
Том Вулф
P.S. Я получу ваши морские стихи и прочту их, когда вернусь в Нью-Йорк.
Джону Холлу Уилоку
[Оушен-Пойнт, штат Мэн]
[25 июля 1929 года]
Дорогой мистер Уилок:
Настоящим высылаю вам старницы 109-115. Страницы 116-125 с рукописью и с письмом от вас прибыли сегодня утром. Большинство исправлений в сегодняшней партии уже были указаны вами – думаю, все исправления очевидны. Обычно, когда вы предлагаете слова или фразы для других, которые вы считаете сомнительными по смыслу, я принимаю вашу правку, но один или два раза я придерживался своей собственной. Например, на днях для моего «The world (or the earth) shook to the stamp of marching men» вы предложили переделать на tread. Поразмыслив, я решил, что to the stamp более точно передает мой смысл. Вы проделали великолепную работу над наречиями – у меня краснеет лицо, когда я вижу, что они появляются, а когда они появляются, то появляются целыми школами и косяками. Надеюсь, мои версии здесь удовлетворительны.
Спасибо за ваше великолепное письмо – новости о миссис Бойд очень волнуют [Уилок писал Вулфу 24 июля: «Миссис Эрнест Бойд завтра отплывает в Ирландию на пароходе «Вестфалия», и я посылаю ей все имеющиеся у нас гранки вашей книги. Она планирует пробыть в Лондоне некоторое время… и мы надеемся, что она сможет найти подходящего английского издателя для романа «Взгляни на дом свой, Ангел»]. Она проницательная и энергичная женщина и знает многих людей.
Я рад, что вы дали ей гранки. Хотелось бы, чтобы можно было дать ей гранки всей книги, поскольку самое лучшее, на мой взгляд, содержится в заключительных главах – смерть Бена и так далее. Было бы замечательно, если бы книгу принял хороший английский издатель.
Я очень доволен тем, как поступают гранки. Завтра я отнесу вам сегодняшнюю партию и верну все, что получу в дальнейшем здесь, до моего отъезда. Я тоже очень хочу получить исправленные страницы и увидеть их в печатном виде. Если я доберусь до Канады, я постараюсь сообщить вам свой адрес. Возможно, при таких обстоятельствах я и не поеду, но если и поеду, то не больше недели буду без связи с книгой. … Я рад, что вам понравилось мое письмо – оно было написано импульсивно, и я не думал до поры до времени, насколько вы заняты и как мало у вас сейчас времени для подобной переписки. Ваши письма очень поднимают мне настроение – я надеюсь, что в какой-то мере моя книга заслужит тот труд, который вы на нее потратили. Я надеюсь, что найдется время для посвящения. У меня есть одно, которое я очень хочу использовать. [Посвящение книги «Взгляни на дом свой, Ангел» Алине Бернштейн гласит: «A. Б.» и сопровождается пятой строфой из стихотворения Джона Донна «Прощание: Его имя в окне»]. Если она вам понадобится, дайте мне знать. Думаю, возможно, мне придется использовать один из старых конвертов «Скрибнерс», для сегодняшних гранок.
Джону Холлу Уилоку
Пятница, 26 июля 1929 года
Дорогой мистер Уилок:
Вместе с этим письмом я посылаю вам гранки 116-125, два других комплекта, о которых вы упоминаете в своем письме и которые я получил сегодня утром, были переданы мне только что: 126-131, 132-139. Я отправлю их обратно, выправив перед отъездом. В понедельник я отправлю вам телеграмму, в которой сообщу, каков будет мой следующий адрес или вернусь ли я в Нью-Йорк сейчас.
На 116-125 осталось совсем немного, думаю, я внес все необходимые изменения и исправления, включая имена. Купил новый экземпляр «Скрибнерс», ужасно рад увидеть свою фотографию, историю и статью обо мне.
Все были очень справедливы и щедры.
Искренне ваш,
Том Вулф
Джону Холлу Уилоку
Оушен Пойнт, Мэн
Суббота
27 июля 1929 года
Дорогой мистер Уилок:
Вот гранки 126-131. Я нашел здесь очень мало работы, но, пожалуйста, обратите внимание на гранку 127, несколько строк, которые, как вы сказали, должны быть вырезаны, я изменил, пока не решил, что нежелательная часть убрана, я думал, что проблема заключается в «пятьдесят центов один раз, доллар другой» и т.д. Если это не так, уберите это.
Я уезжаю отсюда в понедельник утром и на один день отправляюсь в Портсмут (штат Нью-Гэмпшир), после чего могу поехать в Канаду, но сообщу вам по телеграфу. Во всяком случае, в понедельник я отправлю вам все оставшиеся гранки 132-139.
С верой и правдой ваш,
Том Вулф
Рад, что так близко к концу. Огромное спасибо за то, как вы справились с этим.
Бенджамин Коун, которому написано следующее письмо, был однокурсником и другом Вулфа по университету Северной Каролины и написал, чтобы поздравить его с публикацией рассказа «Ангела на крыльце» в августовском номере «Скрибнерс Мэгазин», а также обратить его внимание на биографическую справку, написанную редакторами, в которой говорилось, что Вулф получил образование в «небольшом южном колледже». Позже Коун был директором корпорации «Коун Миллз», производителя хлопчатобумажного текстиля, в Гринсборо, штат Северная Каролина.
Бенджамину Коуну
Оушен Пойнт, штат Мэн
Суббота, 27 июля 1929 года
Дорогой Бен:
Не могу передать, как я был счастлив и взволнован, получив твое письмо. Это первое (возможно, последнее), которое я получил по поводу публикации моего рассказа. Я прочитал его перед почтовым отделением, в пятидесяти футах от которого плещется Атлантический океан. Вот уже несколько недель я живу и исправляю гранки в этом одиноком, но прекрасном местечке на побережье Мэна. Во вторник я уезжаю в Канаду на неделю и вернусь в Нью-Йорк до конца августа и, полагаю, на зиму тоже. Нью-Йоркский университет дал мне другую работу, и, конечно, я хочу посмотреть, что будет с моей книгой…
Теперь о примечании редактора и «маленьком южном колледже»: если ты увидишь кого-нибудь, кто тоже читал примечание, ради Бога, объясни то, что, я думаю, ты уже понял, что я не имею к нему никакого отношения и не видел его, пока оно не было опубликовано. Я не отрицаю, что могу быть способен на несколько мелких правонарушений, таких как убийство, поджог, грабеж на шоссе и так далее, но я отрицаю, что во мне есть этот вид снобизма. Тот, кто писал примечание, вероятно, написал «небольшой южный колледж», потому что не помнил, где я учился, или потому, что по некоторым причинам, связанным с книгой, счел нужным не говорить об этом слишком откровенно. В конце концов, Бен, в те времена, когда мы с тобой были безбородыми мальчишками – «сорок или пятьдесят лет назад», как говорил Эдди Гринлоу, – Чапел-Хилл был (хвала Господу!) «небольшим южным колледжем». Думаю, на первом курсе у нас было почти 1000 студентов, и мы уже начинали стонать по поводу наших размеров. Я далеко не забыл это благословенное место, но с каждым годом мое представление о нем становится все яснее: оно было так близко к волшебству, как я когда-либо был, и теперь я боюсь вернуться и посмотреть, как оно изменилось. Я не возвращался туда с тех пор, как мы выпустились. Великий Боже! Как летит время, но я собираюсь вернуться через год (если мне позволят).
Твое письмо – это тот самый добрый, спонтанный поступок, с которым я действительно связываю твое имя. У меня остались самые теплые и яркие воспоминания о тебе не только в Чапел-Хилле, но и несколько лет назад в Париже. Сегодня вечером, получив твое письмо, я вспомнил нашу поездку в Шато-Тьерри, наш зафрахтованный автомобиль и то, как мы ехали по полям сражений, сжимая в руках шестифутовый каравай французского хлеба, четырехфунтовый сыр камамбер и шесть или восемь бутылок хорошего красного вина, которые мы купили в деревенском кафе. Фрэнк Грэм [Фрэнк П. Грэм был деканом студентов и доцентом истории, когда Вулф учился в Университете Северной Каролины, и был в Европе по стипендии Амхерста в 1925 году. Он был президентом Университета Северной Каролины с 1930 по 1949 год, когда его назначили членом Сената США, заняв должность, ставшую вакантной после смерти сенатора Дж. М. Броутона], конечно, оставался непоколебимым и верным идеалам мистера Волстеда, но мы с тобой и Марк Нобл [Маркус К. С. Нобл окончил Университет Северной Каролины в 1921 году, а с 1922 по 1924 год учился в Гарварде, где получил степени Ed. M. и Ed. D. Позже он являлся ассистентом профессора образования и психологии в Университете Род-Айленда] выполняли свой долг как мужчины. Помню также великолепный обед (заставьте меня забыть о еде!), который вы с родственником устроили для меня в «Прунье», отличном рыбном месте. Но больше всего я помню, как я был рад видеть тебя и говорить с тобой в тот момент. У меня украли пьесу и багаж (ты об этом упоминаешь), и я был несчастен не только из-за этого; я был гораздо более несчастен, чем ты предполагаешь, потому что думал, что очень влюблен (один из немногих случаев, когда благородная страсть овладевала мной). Если подумать, мой роман начался на следующий день после нашей последней встречи. Я оставил тебя, кажется, в канун Нового года в «Кафе де ля Пэ», но теперь все это смешалось в моей голове. Во всяком случае, я несколько недель преследовал респектабельную бостонскую даму по Парижу, на шесть лет старше меня, падал перед ней на колени в кафе, рыдал и делал разные другие вещи, которые, несомненно, ее расстроили. В то время друзья (?) говорили мне, что все это не совсем так, что я впервые в Париже, что я всего лишь молодой парень, что мне просто показалось, что я влюбился, но это мало мне помогало. Это было похоже на то, как если бы христианский ученый сказал – тебе только кажется, что болит живот, или как если бы адвокат после того, как тебя посадили в тюрьму, заверил, что «они не могут так с тебей поступить». После этого я около года скитался по Европе, и те ошибки, которые мне не удалось совершить в Париже, я успел совершить в разных других частях континента, пока не закончил путешествие. Похоже, я родился первокурсником – и, боюсь, во многом им и останусь. Полагаю, ты не очень хорошо помнишь меня в первый год в Чапел-Хилл, но я вошел в историю. Именно я произнес речь, когда меня избрали в Литературное общество, я сдал экзамен по каталогу, ходил в субботу в Чапел и позволил второкурснику вести меня на молитву в полдень. В том году я занял половину мест в Клубе Булу [Журнал «Каролина» сатирически описывает Клуб Булу как «группу первокурсников, чье остроумие и резко выраженная индивидуальность выделили их для особого почета второкурсников»], а те места, которые я не занял, я занял во время той первой поездки за границу. Не далее как в октябре прошлого года я попал в переделку с милыми немцами в Мюнхене, которая закончилась для меня сломанным носом, пробитой головой о пивную кружку, несколькими днями в больнице и выздоровлением в Обераммергау, где парень, играющий Пилата в Страстном представлении, перевязал мои раны. Это долгая история, но хорошая. Я расскажу тебе ее как-нибудь…
Надеюсь, ты прочитаешь мою книгу, когда она выйдет, Бен. Даже после сокращения она все равно очень длинная – в ней будет 600 или 700 страниц, – но я надеюсь, что тебе удастся дочитать ее до конца. Думаю, тебе понравятся некоторые ее части – надеюсь, она понравится тебецеликом вся, но некоторые части, я полагаю, тебя позабавят и заинтересуют. Возможно, ты пожалеешь о том, что я написал некоторые вещи в ней – возможно, некоторые части покажутся тебе болезненными и уродливыми – но в целом эффект, я надеюсь, не будет ужасным, а будет (прости за торжественный тон!) прекрасным. Ты поймешь, что я имею в виду, когда прочитаешь ее… Конечно, мне было бы очень неприятно думать, что написанное мною причинит боль кому-то из моих знакомых. Конечно, это не относится к тебе. Тебе просто могут не понравиться некоторые моменты в книге. Я не знаю, покажется ли она читателю «викторианской» или «современной»: возможно, кому-то она покажется «современной», а такие люди относятся к этому слову с большим подозрением. Но помни, что я не пытался быть ни тем, ни другим. Я просто создал художественное произведение, как должна быть создана всякая художественная литература, – не из воздуха, а из материалов человеческого опыта. Все, что можно было сделать, чтобы придать очертания менее резкими, было сделано – например, «Скрибнерс» тщательно удалил все мои хорошие англосаксонские слова для обозначения полового акта, мочи и человеческого навоза. Не понимаю, как это может кого-то шокировать, но может.
Я написал тебе очень длинное и, боюсь, очень скучное письмо, Бен, но я сделал это для того, чтобы объяснить очень простую вещь, которую можно было бы объяснить одним коротким предложением, если бы я мог найти слова, но я не могу, а простые вещи – самые трудные. И теперь, боюсь, я совсем не ясно выразился. Но это, возможно, самое длинное письмо, которое я напишу кому-либо по поводу моей книги, и делаю я это по следующей причине: ты являешься символом той счастливой и прекрасной жизни, которую я знал в 1916-1920 годах (не подумай, что моя нынешняя жизнь убога: напротив, теперь, когда я действительно начал заниматься любимым делом, она полнее и богаче, чем когда-либо, но я никогда не забуду прекрасные дни в Чапел-Хилл и моих друзей). Такое время больше не наступит. Я молчал долгие годы. Я жил отдельно от большинства тех друзей; вероятно, большинство из них забыли меня; но я думаю, ты поверишь мне, когда я искренне скажу, что я ценю уважение и дружбу некоторых из этих людей так же высоко, как и все остальное, за двумя исключениями, одно из которых – моя работа. Поэтому, что бы ты ни думал о моей книге, продолжай помнить человека, который ее написал, как ты всегда это делал. Когда я пишу тебе это письмо, мне почему-то кажется, что я обращаюсь ко всем, хотя это, конечно, личное письмо, и я верю, что ты отнесешься к его содержанию с благоразумием.
А теперь прошу простить меня, Бен, за это длинное письмо. Прости его торжественный тон в некоторых местах, и позволь мне получить от тебя весточку, напиши, когда сможешь. Очень приятно слышать, что ты все еще одинок и не надеешься на перемены. Я впадаю в уныние, когда узнаю, что еще один из студентов мальчиков сгинул вместе с мотыльком. Найди меня, когда приедешь в Нью-Йорк. Я подумываю о том, чтобы после выхода книги носить накладные усы и темные очки, но если я буду знать, что ты приедешь, я буду носить в петлице красную гвоздику.
P.S. Было бы замечательно, если бы я заработал на книге немного денег! Ты будешь молиться за меня?
Джулии Элизабет Вулф
Оушен-Пойнт, штат Мэн
Воскресенье 28 июля 1929 года
Дорогая мама:
Спасибо за твое письмо, которое пришло несколько дней назад. Я уезжаю отсюда завтра утром и, возможно, отправлюсь в Канаду на неделю или десять дней, после чего вернусь в Нью-Йорк, где, вероятно, пробуду до конца лета. Погода здесь стоит великолепная – дождь шел только один день, и все время было прохладно. Ночью несколько раз приходилось разводить костер. Побережье здесь, как и штат Мэн внутри страны, очень красивое, но при этом очень бедное. Почва каменистая, трудно заставить что-то расти, фермеры отказываются от земли. На этом небольшом участке земли, где я остановился, 75 или 100 коттеджей – зимой, полагаю, здесь живет не более полудюжины человек. Множество летних домиков разбросано по всему побережью – все ездят в Бут-Бей, маленькую симпатичную деревушку населением 4000-5000 человек в семи милях отсюда. Там можно делать покупки. Если я когда-нибудь заработаю денег, то смогу купить или построить здесь небольшой дом – земля здесь дешевая – вы можете купить несколько хороших участков на берегу с елями вокруг вас по цене одного фута земли в Эшвилле несколько лет назад – хорошие участки стоят от 250 до 500 долларов, я полагаю. Это прекрасное место для отдыха – никакого шума, кроме океана, ничего не нужно делать, никому не нужно наряжаться. Можно ловить рыбу, плавать, ходить под парусом и заниматься бездельем сколько душе угодно, и всегда – даже когда в Бостоне и Нью-Йорке жарит – с океана дует прохладный бриз.
Если у меня будет возможность в начале сентября, я смогу приехать домой на несколько дней до начала занятий. «Скрибнерс» присылают мне гранки, которые я исправляю здесь и отсылаю им обратно. Мы уже подходим к концу – когда я закончу с гранками, моя работа будет закончена. Остается надеяться на удачу и благоприятный прием. Мне не терпится приступить к чему-нибудь еще – прошло около трех лет с тех пор, как я начал работу над книгой, и, конечно же, нужно уделить время преподаванию, путешествиям, поиску издателя и исправлению текста. После этого, я надеюсь, у меня не будет столько проблем – по крайней мере, у меня уже есть издатель. Когда-то я думал, что смогу выпускать по книге в год, но теперь это уже не представляется возможным – мне приходится слишком много потеть кровью, это дается мне слишком тяжело, и если мои другие книги будут хоть сколько-нибудь похожи на эту – надеюсь, они не будут такими длинными, – то в одной из них будет около трех книг среднего размера, в любом случае. Но я думаю, что смогу делать хорошую работу и заканчивать новую книгу каждые два года – если я буду продолжать в том же духе, то к 55 или 60 годам (если я проживу так долго) у меня будет пятнадцать или двадцать больших книг. Этого должно быть достаточно, чтобы я мог высказаться. Но между настоящим моментом и 50 годами – золотое время, и я надеюсь, что смогу использовать его с пользой.
Я рад знать, что у вас все хорошо и дом полон людей. Не работайте слишком много и берегите свое здоровье. Надеюсь, у всех членов семьи все хорошо, и дела идут на поправку.
Передавай всем привет.
Том
Эти две недели здесь пошли мне на пользу: я перестал нервничать и толстеть. Все время спал за дверью.
Джулии Элизабет Вулф
[Почтовая открытка]
Монреаль, Канада
Суббота, 3 августа 1929 года
Дорогая мама:
Это большой город с населением в миллион или больше, и очень американский по своему виду, как ты видишь. Здесь много французов – около 60% всего населения, и уличные знаки, объявления и так далее печатаются на двух языках. Пиво, эль и вино продают в тавернах, гостиницах и ресторанах, но за более крепкими напитками нужно идти в государственный магазин. Еду в Квебек, вернусь через два или три дня. Том
Джону Холлу Уилоку
Фирменный бланк отеля «Корона»
Монреаль
3 августа 1929 года
Дорогой мистер Уилок:
Сегодня утром я получил вашу телеграмму. Этим вечером я уезжаю в Квебек и думаю, что вернусь в Нью-Йорк в среду. При таких обстоятельствах я думаю, что вам лучше сохранить имеющиеся у вас гранки до моего возвращения. Мне жаль, что моя телеграмма пришла слишком поздно – я отправил ее из этого отеля в четверг днем, и мне сказали, что она будет доставлена в течение часа – я думал, что это достаточно времени, чтобы получить гранки. Получили ли вы последний комплект гранок 132-139, отправленный из Бостона? Я очень хочу вернуться, чтобы закончить, и сожалею, что заставил вас задержаться.
Мое путешествие принесло мне много пользы. Здесь я выпил много эля и пива, но не пил виски. Я очень растолстел и должен сесть на диету. Надеюсь, что вы здоровы и не пострадали от жаркой погоды в Нью-Йорке.
С верой и правдой Ваш,
Том Вулф
Алине Бернштейн
Квебек, Отель Сен-Рош
Воскресенье, 4 августа 1929 года
Дорогая Алина:
Я приплыл в Квебек сегодня утром на пароходе из Монреаля. Все утро шел дождь. Утро серое и холодное, дует ветер, как в начале ноября. Я рад, что совершил это путешествие – чувствую себя гораздо лучше, чем когда уезжал из Нью-Йорка, и мне не терпится вернуться, чтобы закончить гранки. Посылаю мистеру Уилоку [Джон Холл Уилок был старшим редактором в издательстве «Скрибнерс». Он и его близкий друг Максвелл Перкинс работали с Вулфом над гранками романа «Взгляни на дом свой, Ангел» в течение всего лета 1929 года. Только 29 августа были готовы окончательный вариант] все гранки, которые у меня были из Бостона, в четверг, будучи в Монреале, я убедил его прислать мне новые гранки к субботе. Вчера я получил телеграмму, в которой говорилось, что он получил мою телеграмму «слишком поздно», чтобы отправить их к субботе – почему, я не знаю, поскольку она была отправлена заблаговременно – возможно, он не успел ее получить. В своей телеграмме он сообщил, что у него уже есть все гранки для книги. Я написал ему (поскольку письмо дойдет до него в понедельник, как и телеграмма) и сказал, что буду дома в среду и чтобы он держал их у себя. Мне не терпится увидеть их и закончить, чтобы приступить к новой [книге].
С тех пор как я уехал от тебя, я немного поработал и даже сделал небольшой набросок, который, как мне казалось, я мог бы продать «Скрибнерс» в связи с их недавними трудностями с бостонскими цензорами. Я назвал его «L-ve in B-ston» [«Жизнь в Бостоне»], он написан в основном в форме диалога, как, например, следующий:
«Я тебя люблю», – сказал он. «Давай поженимся». «Я очень хочу спать, я собираюсь уснуть», – сказала она. «Позволь мне положить голову на твою грудь». «Где ты родился?» – спросила она. Он с интересом посмотрел на нее. У них было трое детей, младший был совсем маленький. Полицейский достал пистолет и так далее.
Я был рад получить твою телеграмму и узнать, что ты благополучно добралась до дома, хотя, если ты доехала за семь часов, то, возможно, не так уж и благополучно. Надеюсь, что в Нью-Йорке погода стала прохладнее, но из газет я знаю, что там были очень жаркие дни. Но худшее уже позади. Вся страна сожжена – когда мы ехали в поезде, мы от начала до конца жили в облаке пыли.
Я расскажу тебе больше о Квебеке, когда увижусь с тобой. Думаю, ты хорошо знаешь, что Монреаль – на 80 процентов британский, но пиво и эль великолепно настоящие. Ты не поверишь, но мне еще предстоит выпить свой первый стакан виски. Чтобы получить его и другие крепкие напитки, нужно отправиться в государственный винный магазин. Там все очень просто – можно купить только одну (или две) бутылки за раз, если хочется больше, то нужно выйти, закрыть дверь и сразу же зайти обратно – и так до тех пор, покуда покупатель будет в состоянии держаться на ногах. Эль и пиво продают по всему городу в «тавернах» – это очень веселые и очень континентальные маленькие кафе. Они очень похожи на те, что можно увидеть во Франции, и, как мне кажется, лучше, чем большинство английских пабов. Заказать пиво стоит десять центов за бокал, но холодный лагер стоит пятнадцать за бутылку, а очень крепкий эль – от двадцати до двадцати пяти за бутылку. С тех пор как я приехал сюда, я выпил очень много вина – кажется, я выпивал по бутылке за каждым приемом пищи, – но я рад, что мои деньги были потрачены именно таким образом: Я почти не жалею о деньгах, потраченных на вино, – когда они кончаются, они кончаются полностью, но я всегда испытываю самое теплое и удовлетворительное чувство, как до, так и после, так что лучшего способа потратить деньги не существует.
Еда не так хороша, как должна быть, хотя мне доводилось вкусно поесть во французских ресторанах здесь и в Квебеке. Правда заключается в том, что Канада – это провинция, которая получает свои новости, обычаи и нравы из других частей света – Нью-Йорка и Лондона. Страна обширна, богата и, как мне кажется, очень красива, но в ней проживает всего несколько миллионов человек, которых пока недостаточно, чтобы обрабатывать землю. Раньше я никогда не мог представить людей – теперь я знаю, почему. О них нечего вспоминать – я знаю, что через очень короткое время большинство лиц, которые запомню в Монреале, исчезнут из моей памяти. Этого нельзя сказать о некоторых лицах, которые я видел в Нью-Йорке, Париже или Лондоне. Квебек очень красивый город, он построен вокруг старой крепости, которая находится на крутом холме. С вершины открывается вид на Сен-Лоранс – очень благородную реку – с возвышенности, очень похожей на Палисады. Поля и холмы зеленее и свежее, чем дома, а когда смотришь вдаль, создается впечатление, что находишься за границей – мне почему-то показалось, что я приплыл в Шербург на корабле – ты знаете, как он выглядит. Но старые дома и «достопримечательности» выглядят не очень интересно – вряд ли во Франции они заслуживают внимания, – интерес к ним придает то, что они находятся здесь, в Америке. Признаюсь, для меня это мало что значит – все равно, что [говорит] доктор Джонсон о собаке, которая ходит на задних лапах: «Удивительно не то, что она делает это хорошо, а то, что она вообще это делает». [«Сэр, проповедь женщины похожа на хождение собаки на задних лапах. Она хорошая; но вы удивляетесь, когда узнаете, что она вообще произносится». Босуэлл, Жизнь Джонсона, 31 июля 1763 года.]
То, как люди продолжают оставаться французами, замечательно и интересно. Я наблюдал за ними и разговаривал с ними сегодня – когда они говорят по-английски, они говорят очень плохо, а многие из них вообще не могут говорить по-английски. Это первая французская черта, ведь англичанам и немцам обычно удается выучить язык после первых 50 или 100 лет, если только они не владеют страной, как здесь. Сегодня я зашел в «таверну» при гостинице – похоже, это одно из главных питейных заведений здешних горожан. Я не мог добиться, чтобы меня поняли ни по-английски, ни по-французски – все, что я хотел, это бутылку эля, в конце концов, мне удалось достать ее, показывая на нее. Они говорят на ужасном диалекте, который может понять, пожалуй, только настоящий француз, да и то, думаю, с большим трудом. Они грубее, чем настоящие французы, – климат, огромные дикие земли, изменили их характер, – но они все равно французы до мозга костей. В «таверне» стоял шум, они кричали, жестикулировали руками, пальцами, и даже лицами.
Алине Бернштейн
Квебек
Вторник, утро
6 августа [1929 года]
Моя дорогая. Я закончу это [письмо] несколькими строчками – сегодня я уезжаю отсюда любым удобным способом и, вероятно, увижу тебя раньше, чем ты получишь это письмо. Я хочу отправить письмо, потому что думаю, что писал тебе во всех поездках, которые когда-либо совершал. В воскресенье, когда я приехала сюда, я отправила тебе письмо за семьдесят пять долларов, оно вернулось ко мне вчера вместе с телеграммой от тебя. Мне ужасно хочется вернуться и приступить к работе. Было бы несправедливо сказать, что Квебек меня разочаровал – место великолепное, люди, язык, французские обычаи, я уже осмотрел все достопримечательности, но с нашей точки зрения здесь нет ничего интересного. Дома, по-моему, решительно уродливы, и меня не очень интересуют исторические места, если только они не связаны с каким-нибудь красивым и интересным объектом. Я не нашел здесь никаких фотографий – здесь есть огромный отель, управляемый Канадской Тихоокеанской железной дорогой, под названием «Шато Фронтенак», там я ел и увидел достаточно. Кажется, прошло много лет с тех пор, как мы обедали вместе на Пятнадцатой улице. Мне не терпится вернуться и убедиться, что это действительно так. Ты не представляешь, как привлекательно выглядит отсюда моя поездка домой – мне становится очень тепло при мысли об этом. Здесь очень холодно, серая, зябкая погода конца октября.
Прилагаю чек на семьдесят пять долларов. Я люблю тебя и надеюсь, что ты тоже. Том
Ты уже работаешь над новым шоу? Ты устала от меня и хочешь видеть меня так же, как я хочу видеть тебя? Я люблю тебя и посылаю тебе тысячу [поцелуев] ххххххххххх[.]
Джулии Элизабет Вулф
[Открытка]
Квебек
Вторник, 6 августа 1929 года
Дорогая мама:
Почти все население этого города – франко-канадцы и не говорят по-английски. Я побывал на поле битвы, где мой знаменитый однофамилец победил Монткальма – слева на фотографии видно начало укреплений – сейчас это военный форт. Здесь очень холодная серая погода. Сегодня вечером возвращаюсь в Нью-Йорк. Надеюсь, что все будет хорошо. Люблю, Том.
Генриху Т. Волкенингу
Гарвардский клуб
Нью-Йорк
9 августа 1929 года
Дорогой Генри:
Пожалуйста, простите меня за то, что я не писал вам чаще и больше. Я был в Мэне и Канаде в течение нескольких недель. Вернувшись на днях, я обнаружил открытку от вас, из Швейцарии. …Я так счастлив узнать, что у вас было хорошее путешествие, так хочу увидеть вас, поговорить с вами и узнать, какие вещи и места у нас общие (но не – Боже мой, нет! – их слишком много). …В Мэне было прекрасно и прохладно – я был в диком местечке на побережье. Рыбачил, исправлял гранки и целыми днями читал Джона Донна и Пруста. …Я также побывал в Канаде. Монреаль на четыре пятых имитирует американский город, а на одну пятую – английский, но пиво и эль были великолепно настоящими. Квебек был более интересен: он полностью франко-канадский, и люди почти не говорят по-английски, да и по-французски, насколько я понимаю, тоже. Но и это место меня разочаровало – оно напоминает собаку доктора Джонсона, которая ходит на задних лапах: «Удивительно не то, что она хорошо ходит, а то, что она вообще ходит». Люди интересуются Квебеком только потому, что это французский город в Америке, а для меня это мало что значит.
Я завидую вам во всем, что касается поездки, кроме толпы туристов, которые, по вашим словам, начинают кишеть вокруг вас. Я заметил, что вы собираетесь в Париж; когда вы получите это письмо, я полагаю, вы там уже побываете. Недавно я услышал, что цены там потрясающие – они были плохими прошлым летом – сейчас они еще хуже. Всякий раз, когда я думаю о французах после так называемой «Великой» войны, я сдерживаю себя и бормочу: «Вольтер! Вольтер!» В конце концов, именно так и следует судить о цивилизации – по ее лучшим достижениям, а не по худшим. Но худшие достижения чертовски ужасны, и, к сожалению, требуется сверхчеловеческая стойкость и проницательность, чтобы дойти до Ронсара, когда пытаешься вырваться из ловушек десяти тысяч мелких негодяев. Тем не менее, в последнее время я думал о Франции больше, чем о какой-либо другой стране: физически это самая цивилизованная из наций, а в духовном плане – самая высокоразвитая. Самым большим злом в национальных нравах, как мне кажется, является «слава» – то, что они называют «la gloire» – это объясняет размахивание флагом, «Франция была предана», произнесение речей, пение «Марсельезы», вступление в войну и так далее – это представляет собой то, что в них является дешевым и мелодраматичным. Я мог бы продолжать до бесконечности, но вы можете услышать другую сторону от любого из 14 000 американских эпических поэтов, романистов, драматургов, композиторов и художников, находящихся сейчас в Париже, – все они «понимают» Францию и укажут на мою измену. Мы поговорим об этом и о многом другом, когда я увижу вас.
Надеюсь, у вас будет хорошая погода в Англии – это возможно, и нет ничего прекраснее. Вы собираетесь на Озера? А вы были в отеле «Кавендиш» на Джермин-Стрит, где живет старушка Рози Льюис? …И она, и он – все это стоит увидеть.
Мой рассказ вышел в августовском «Скрибнерс Мэгазин» – там же фотография автора на обороте и краткое описание его романтической жизни: у него «полный багажник рукописей», он «пишет невероятно много», «забывает о времени, когда пишет» и «выходит в три часа ночи, чтобы поесть в первый раз за день». Когда я читал это, я был безумно влюблен в себя, как никогда. Я ожидал конвульсий земли, падения метеоров, остановки движения транспорта и всеобщей забастовки, когда появился этот рассказ, но ничего не произошло. Я был в штате Мэн. Тем не менее, я все еще взволнован этим. Через день-два будут закончены пробные версии книги – почти вся книга уже в постраничной проверке. Вот последняя новость – я могу послать ее вам, потому что вы так далеко – Клуб «Книга месяца» услышал о книге, пришел в «Скрибнерс» и получил гранки как раз тогда, когда С. собирался отдать их Литературной гильдии. Все, что я знаю, это то, что книга была прочитана первой группой читателей (механизм этого ускользает от меня), получила оценку «А» в лагере первокурсников и передана судьям. Решение не будет принято в течение недели или двух, но «Скрибнерс» в восторге, и я, конечно, тоже. Думаю, нет особой надежды, что это будет их выбор – у них такие чистые и высокодуховные судьи, как Уильям Аллен Уайт и Кристофер Морли, – и они могут найти некоторые вещи слишком сильными. Кроме того, я неизвестный писатель, а у них сотни рукописей – но если! но если! но если! Тогда, конечно, я должен немедленно принять кафедру англосаксонской филологии имени Эйба Шалемонича в Нью-Йоркском университете и посвятить себя благородной профессии преподавателя. Но я не должен мечтать об этом туманном безумии. Ради всего святого, ничего не говорите об этом даже леди Асквит. Я расскажу вам, что произошло, когда вы вернетесь. [Ни клуб «Книга месяца», ни Литературная гильдия не приняли «Взгляни на дом свой, Ангел» или какую-либо другую книгу Вулфа].
«Скрибнерс» были великолепны – их лучшие люди работали над этой книгой как собаки – они верят в меня и в книгу. Найти фирму и связаться с такими людьми – это чудо удачи. …Что касается меня самого, то я дрожу теперь, когда дело сделано – мне противна мысль о том, чтобы причинять боль; она никогда не приходила мне в голову, пока я писал; это законченный вымысел, но созданный, как и всякий вымысел, из материала человеческого опыта. …Это тоже сложная вещь, о которой я еще поговорю с вами.
У меня болит душа от нового романа [«Ярмарка в Октябре», первая половина которого была опубликована под названием «О Времени и о Реке»]. Она должна выйти из меня. Мне противна мысль о том, чтобы не писать ее, и противна мысль о том, чтобы писать ее – я ленив, а писать книгу – это мука: 60 сигарет в день, 20 чашек кофе, мили ходьбы и метаний, кошмары, нервы, безумие – есть пути получше, но этот, да поможет мне Бог, – мой.
Это длинное и глупое письмо – простите меня. Я говорил только о себе. Я часто думаю о вас и Натали, есть так много мест, куда я хочу посоветовать вам сходить – сейчас жарко, уже за полночь, и я измотан. Естественно, сейчас я поглощен своими делами – произнесите заклинание на мое счастье и удачу, и да благословит вас обоих Господь. Поезжайте на озера, загляните к ребятам в «Королевский дуб» в Эмблсайде, расскажите мне об этом. Пожалуйста, дайте мне знать, когда вернетесь. Как бы я хотел быть с вами, просто на утренней прогулке и за бутылкой эля.
Найдите англичанина и попросите его провести вас по старому лондонскому Сити. Если у него есть здравый смысл – а у некоторых он есть! – он будет знать, куда идти и что делать. Это во многих отношениях самый величественный город в мире.
Джулии Элизабет Вулф
Гарвардский клуб
Западная 44-я улица, 27
13 августа 1929 года
Дорогая мама:
Спасибо за письмо, которое я нашла сегодня в клубе. Я вернулся из Канады в прошлый четверг после хорошего трехнедельного отпуска, большую часть которого я провел в штате Мэн. Я отправился в Канаду из Бостона, а перед отъездом позвонил Хильде и Элейн. Хильда с мужем уехали на лето в Скитуэйт, приморский городок на южном побережье под Бостоном, но я поговорил с ней по телефону, и она пригласила меня приехать с ночевкой. Я не смог этого сделать. Но Элейн приехала с Ямайки, чтобы повидаться со мной, и мы проговорили вместе почти всю вторую половину дня. Я попытался найти дядю Генри, но в его старой конторе мне сказали, что он уже год как отошел от дел и живет в Рединге. Старина Холл, его бывший партнер, поговорил со мной по телефону и настоял на том, чтобы рассказать мне о женитьбе Генри, ребенке и прочем, прежде чем я скажу ему, кто я такой. Я поискал его имя в телефонном справочнике, но не нашел его в списке. Новая Англия – очень красивая часть страны, но по большей части очень бедная, особенно в верхних районах – Мейне, Нью-Гэмпшире и Вермонте. Чудесные озера, холмы, леса, но почва каменистая и бедная. Канада выглядит как богатая, великолепная страна, но там не хватает людей, чтобы обрабатывать землю. Население всей страны составляет всего 8 000 000 человек, а в Монреале живет более миллиона. Видел замечательные фермерские угодья… Вы могли бы иметь столько земли, сколько захотите, почти за бесценок. Железные дороги владеют миллионами акров и стремятся их освоить. В Нью-Йорке очень жарко и утомительно – лето было ужасным. Дождь грозится пойти, но не идет – в результате воздух душный и гнетущий. Мне было очень интересно узнать, что вы прочитали мой рассказ и что другие люди купили журнал. Рассказ, конечно, лишь небольшой фрагмент книги, из которой он взят, но в «Скрибнерс» посчитали, что это хороший способ объявить о будущей публикации моей книги. Не могу передать словами, как прекрасно они отнеслись, как усердно работали, чтобы книга вышла, и как сильно они в нее верят. Теперь моя собственная работа почти закончена – сегодня вечером я заканчиваю последние гранки, и в дальнейшем мне предстоит сделать совсем немного. Никто не поверит, сколько работы нужно проделать, чтобы опубликовать книгу – не только работу автора, написавшего и переработавшего ее, но и всю остальную работу по исправлению галилейных проб, пробных страниц, рекламе, созданию дизайна обложки и так далее. Я видел сегодня дизайн обложки моей книги – то есть бумажной суперобложки, которая будет покрывать настоящую – дизайн очень привлекателен – яркие цвета, неровные линии, очень современный дизайн.
Конечно, я очень надеюсь и счастлив. Вера «Скрибнерс» в книгу растет, и они считают, что она будет иметь успех. Но, конечно, мы не можем сказать наверняка и не должны быть слишком уверены.
Я хотел бы приехать домой и повидаться с вами – возможно, в конце этого месяца или в начале сентября. Я дам вам знать заранее. Если я приеду, то хочу просто спокойно повидаться с семьей и несколькими друзьями. Надеюсь, ты не будешь слишком много работать; жаль, что летом у тебя было так много родственников.
От Джорджа Мак Коя не было вестей, и я полагаю, что он не писал. Когда я вдали от Нью-Йорка, самый надежный адрес – Гарвардский клуб. Вчера мне позвонил старый школьный товарищ из Чапел-Хилла, и мы с ним поужинали – его зовут Джонатан Дэниелс; он младший сын Джозефуса Дэниелса из Роли, который раньше был министром военно-морского флота. Он сказал мне, что написал роман – все этим занимаются! – и, полагаю, хотел узнать, смогу ли я отдать его в издательство. Благодаря книге у меня появились новые друзья, которые были очень добры ко мне.
Меня опечалила смерть Марка Брауна. Я хорошо помню его со времен моего детства, когда он жил рядом с нами на Еловой улице. Очень жаль, что ему пришлось умереть сравнительно молодым. Время от времени я покупаю эшвиллскую газету и вижу в светских колонках, что его дети, которых я всегда помню младенцами, теперь уже взрослые мужчины и женщины, ходят на вечеринки и танцы. Мне приятно знать, что он оставил семью в комфортном достатке. Мне очень приятно знать, что вы обладаете таким крепким здоровьем и остротой ума – очень немногие люди в вашем возрасте могут сказать об этом. Я искренне надеюсь, что вы останетесь сильной и здоровой душой и телом еще лет двадцать, и верю, что так и будет.
Благодарю вас за интерес к моей книге. Надеюсь, она оправдает все те усилия и заботы, которые были потрачены на ее создание. Во всяком случае, я связался с прекрасным издательством и прекрасными людьми – еще год назад все это казалось мне невозможным, и я считаю себя очень удачливым человеком. Чтобы выразить свою благодарность за их веру в меня, я приступаю к работе над второй книгой, которую постараюсь сделать лучше первой.
Пожалуйста, продолжайте сообщать «Скрибнерс» любую информацию о книге. Шлю свои надежды и наилучшие пожелания дальнейшего здоровья и счастья.
С любовью ко всем, Том
Я никогда не получал известий от Фреда, а хотелось бы. Я писал ему, но ответа не получил. Полагаю, он очень занят; надеюсь, он полностью оправился после автомобильной аварии. Получил записку от Фрэнка, на которую обязательно отвечу. Надеюсь, у всех все хорошо и не слишком жарко.
Джорджу В. Маккою
Гарвардский клуб
Нью-Йорк
Суббота, 17 августа 1929 года
Дорогой Джордж:
Большое спасибо за вашу заметку и за ваш прекрасный рассказ обо мне, который вы приложили. [Статья Маккоя в газете «Эшвилл Ситизен» от 26 июля 1929 года под заголовком «Эшвиллский человек – новый автор» и началом: Эшвиллским друзьям Томаса Вулфа, а они исчисляются десятками, будет очень интересно узнать, что в августовском номере журнала «Скрибнерс Мэгазин», посвященном художественной литературе, впервые опубликован его рассказ под названием «Ангел на крыльце».] Мне хочется думать, что рассказ представлял определенный новостной интерес для жителей Эшвилла, но теплый и дружеский нрав, который сквозит в нем, не был, я знаю, полностью профессиональным. За это я должен благодарить спонтанную и бескорыстную добрую волю, которую я всегда связываю с вашим именем, и я благодарю вас не только за то, что вы написали обо мне, но и за то, что вы были щедрым другом.
Больше всего меня тронули ваши слова о том, что мои эшвиллские друзья «исчисляются на счетах». Думаю, вы поверите мне, когда я скажу, что ни в одной группе людей я не ценю уважение и дружбу больше, чем в городе, где я родился, и где прошла большая часть моей жизни. Я искренне надеюсь, что смогу сохранить его на всю жизнь. Было бы глупо отрицать, что молодой человек равнодушен к похвалам людей, которые ему нравятся: напротив, он жаждет их, и один из великих импульсов творческого акта может исходить из такого простого источника, как этот.
Хотел бы я подражать вашей восхитительной краткости. Я собирался написать вам короткую заметку, но она, вероятно, займет пять или шесть страниц. Газета опередила бы меня за двадцать четыре часа – убийца был бы в Канаде еще до того, как я закончил бы описывать место, где было найдено тело. Но вы отделаетесь гораздо легче, чем ребята из «Скрибнерс» – моя рукопись, когда ее только приняли, была пустяком в 330 000 слов (а не 250 000, как было написано в журнале). Приняв книгу, издатели велели мне взяться за мой маленький топорик и «вырезать» из нее 100 000 слов. Я только что вернулся из Италии с двадцатью семью центами, но с авансом от «Скрибнерс» в кармане я, естественно, был полон жизни и надежд. Я принялся за работу и за месяц или два «вырезал» двадцать или тридцать тысяч слов и добавил еще пятьдесят тысяч. Тогда редакторы почувствовали, что пора вмешаться: они сдерживали меня и всячески помогали мне критикой, редактированием и огромным количеством терпеливой, тщательной работы. Они были великолепны – у меня нет ни времени, ни места, чтобы рассказать вам, насколько они были великолепны, – и теперь у нас есть книга, которую можно читать, не требуя шестимесячного отпуска.
Год назад, когда я закончил работу над книгой и смотрел на грузовик с напечатанными страницами, я и подумать не мог, что мне выпадет такая удача, что я буду сотрудничать с таким изательским домом и такими людьми. Но чудеса случаются: более того, я начинаю верить, что они случаются всегда: какой бы успех (или провал) ни имела эта книга, мои издатели напечатают следующую книгу. Я уже работаю над ней [«Ярмарка в Октябре», первая половина которого была опубликована в романе «О Времени и о Реке»] и надеюсь, конечно, сделать ее лучше, чем первую. Издатели верят в меня и в мою книгу. Я глубоко благодарен им за все, что они сделали, и надеюсь, не только ради меня, но и ради них, что мы добьемся успеха.
Прошу простить меня за столь длинное письмо: моя книга – всего лишь одна из огромного числа тех, что постоянно печатаются, но я не могу не радоваться и не волноваться – такое случалось с другими, но со мной – впервые.
Сегодня я закончил последний набор правок: это была долгая и утомительная работа, но моя работа над этой книгой практически закончена. Все, что я могу сейчас сделать, – это вспомнить все молитвы, которые я когда-либо слышал. Осталось еще несколько механических этапов – постраничные гранки, литейные гранки и так далее (никто, кто не видел этого, никогда не поверит, сколько труда уходит на печать книги), – но теперь люди из «Скрибнерс» сделают большую часть работы.
По-моему, книга выйдет в сентябре или октябре, но точно сказать не могу. Полагаю, издатели рассылают экземпляры рецензентам (я еще совсем не разбираюсь в этом деле). Я спрошу у них в понедельник и попрошу прислать вам один экземпляр для рецензирования, если такова система. Если нет, то, полагаю, они дают автору несколько экземпляров, и я пришлю вам один из своих. Я очень благодарен вам за интерес к моей работе: одна из самых приятных вещей, которые я обнаружил в мире, среди множества неприятных, – это то, что преданности старых друзей почти нет предела. Самое трудное – попытаться оправдать половину того, что они говорят о тебе, но это работа, над которой мы можем трудиться от всего сердца. Поэтому я надеюсь, что вы не разочаруетесь ни в моей книге, ни во мне. Конечно, Джордж, она может оказаться ужасным провалом (так бывает со многими или большинством книг), но если мы сможем добиться, хотя бы скромного успеха, этого, возможно, будет достаточно для человека, который пытается заполнить своей первой книгой полку в пять футов.
Спасибо также за великолепную статью о Билли Коке. [Уильям Кок, друг детства Вулфа из Эшвилла, поступил на работу в юридическую фирму господ Рота, Кларка, Бакнера и Баллантайна в Нью-Йорке. В этой фирме он проработал чуть больше года, прежде чем основать собственную практику в Эшвилле]. Я рад слышать о его успехе, но, конечно, не удивлен. Я видел его несколько лет назад, когда гостил в Оксфорде в течение нескольких недель. Тогда я понял, что у него все получится и там, и в других местах. Приятно знать, что он связал свою жизнь с такой уважаемой фирмой и что он будет рядом со мной здесь, в Нью-Йорке. Возможно, в моем интересе есть и эгоистичный мотив – если меня посадят в тюрьму за написание одной из моих книг, мне наверняка понадобится, по крайней мере, оксфордский адвокат, чтобы вытащить меня оттуда, и нет никого, кому я бы доверил свою защиту с большей уверенностью, чем Билли.
Я надеюсь приехать домой на несколько дней в начале сентября. Если получится, я хочу поговорить с вами о ваших и моих планах. Еще раз спасибо за вашу заметку. Напишите мне несколько строк, если у вас будет время. К этому письму прилагаются мои наилучшие пожелания здоровья и успехов.
Если появятся новости о книге, которые, как мне кажется, вас заинтересуют, я пришлю их вам. Вы по-прежнему работаете до половины третьего утра? Если да, то мы, наверное, будем болтать, пока не приедут молочные фургоны – это время суток мне больше всего нравится для работы или разговоров. Я, знаете ли, раньше разносил газету «Гражданин» [Asheville Citizen] и, наверное, приобрел эту привычку тогда. Я не раз жевал пончик в «Жирной ложке» в четыре утра.
Следующее письмо было написано Джону Холлу Уилоку после того, как он вручил Вулфу экземпляр своей книги стихов «Мост Судьбы», с надписью: «Томасу Вулфу – в знак дружбы и восхищения».
Джону Холлу Уилоку
[15-ая Западная Стрит, 27]
[Нью-Йорк]
[Август, 1929]
Дорогой мистер Уилок:
Мне нравится писать, а не говорить о том, что я чувствую и во что верю наиболее глубоко: Мне кажется, так я могу выразить мысль яснее и лучше сохранить её.
За последние несколько месяцев, когда я познакомился с вами, я снова и снова замечал, с какой серьезностью вы обдумываете даже самые незначительные изменения в моей книге. Со временем я убедился, что эта медленная и терпеливая забота исходит из великой целостности вашей души. Поэтому, когда вы подарили мне книгу своих стихов в тот день, когда мы вместе закончили работу над моим романом, этот простой акт был наполнен важностью и эмоциями, которые я не могу описать вам сейчас – каждая из тонких и богатых ассоциаций вашего характера сопровождала эту книгу стихов; я был глубоко тронут, глубоко благодарен и знал, что буду дорожить этой книгой до тех пор, пока живу.
Выйдя на улицу, я открыл ее и прочитал вашу надпись, обращенную ко мне, и следующие за ней великолепные строки. В дарсвенной надписи вы говорите обо мне как о своем друге. Меня переполняют гордость и радость от того, что вы так написали. Для меня большая честь знать вас, большая честь, что вы называете меня другом, я возвышен и вознесен каждым словом доверия и похвалы, которые вы когда-либо говорили мне.
Вы – настоящий поэт: вы смотрели на страшное лицо терпения, и качество стойкости и ожидания сияет в каждой вашей строке. Поэты, которые умерли, дали мне жизнь; когда я дрогнул, я ухватился за их силу. Теперь рядом со мной живая поэзия и живой поэт, и в его терпении и в его сильной душе я буду часто пребывать.
Я уже прочитал все стихи в вашей книге – думаю, что перечитал их несколько раз. Но настоящая поэзия – вещь богатая и сложная, мы вторгаемся в нее медленно, и постепенно она становится частью нас. Я не так часто читаю книги по три-четыре раза, но есть стихи, которые я читал по три-четыре сотни раз. Поэтому я не берусь предлагать вам легкомысленную критику стихов, которые я буду перечитывать еще много раз, и не берусь думать, что вас всерьез заинтересует мое мнение. Но есть некоторые из ваших стихотворений, которые уже дошли до меня – осмелюсь сказать, полностью – и стали частью богатого наследия моей жизни.
Я хочу сказать, что «Медитация» кажется мне одним из лучших современных стихотворений, которые я когда-либо читал, – современным только потому, что оно написано ныне живущим человеком. Когда я читал это стихотворение, у меня был тот момент открытия, который ясно говорит нам, что мы приобрели нечто драгоценное – теперь оно стало частью меня, оно смешалось со мной, и когда-нибудь, в каком-то неосознанном, но не совсем недостойном плагиате, оно снова выйдет из меня, вплетенное в мою собственную ткань.
[на этом месте письмо обрывается]
Следующая открытка была написана Максвеллу Перкинсу из Эшвилла, куда Вулф отправился с двухнедельным визитом перед открытием осеннего семестра в Нью-Йоркском университете.
Максвеллу Перкинсу
[Почтовая открытка]
Эшвилл, Северная Каролина
14 сентября 1929 года
Дорогой мистер Перкинс: У меня был очень замечательный визит – город полон доброты и доброжелательности, и все болеют и поддерживают книгу. Моя семья знает, о чем идет речь, и, думаю, рада этому, а также немного опасается. Мы сходим с ума друг от друга – я здесь уже неделю и готов отправиться в белую комнату. Но никто не виноват. Это странная ситуация, и одному Богу известно, что произойдет. Я буду рад, когда все закончится. Надеюсь увидеть вас на следующей неделе в Нью-Йорке.
Джулии Элизабет Вулф
Гарвардский клуб
Западная 44-я улица, 27
Вторник, 8 октября 1929 года
Дорогая мама:
Большое спасибо за письмо. Я был очень занят началом работы в университете и своей книгой. Книга уже напечатана, и ее копии разосланы рецензентам. Через несколько дней я отправлю экземпляр тебе. Книга поступит в продажу только 18 октября. Конечно, я очень рад этому и надеюсь, что она будет иметь успех. Мне очень трудно приступить к работе, пока я не увижу, что произойдет. Я очень сильно волнуюсь по этому поводу, но должен успокоиться и заняться своей работой в Нью-Йоркском университете.
С тех пор как я вернулся, у нас здесь были все сорта и разновидности погоды – жара, дожди, холод – сегодня был настоящий октябрьский день, очень яркий и довольно холодный. Друг взял меня с собой в деревню – листья кружатся в красивом листопаде.
В конце октябрьского номера «Скрибнерс» есть письмо о моем рассказе, который появился в августе, – скорее, это вырезка из газеты Луиса Грейвса из Чапел-Хилла: он подшучивает над «Скрибнерс», говоря, что я приехал из «маленького южного колледжа», – а потом рассказывает, откуда я приехал.
Моя книга выглядит очень красиво – хорошая цветная бумажная обложка, на обороте которой есть статья обо мне, и хорошо напечатанный, хорошо переплетенный том.
Надеюсь, что вы и все остальные дома здоровы и наслаждаетесь хорошим здоровьем, хорошим бизнесом и хорошей погодой.
Я напишу вам еще, когда успокоюсь и мне будет что сказать.
С любовью ко всем, Том.
Джорджу Маккою
Гарвардский клуб
Нью-Йорк
Среда, 16 октября 1929 года
Дорогой Джордж:
Спасибо за прекрасное письмо. Я искренне благодарен за все, что вы сказали и сделали. Я знаю, что вы понимаете мое глубокое чувство долга перед всеми вами. Я рад узнать, что вы с Лолой будете рецензировать мою книгу [Первоначальный план Маккоя и его невесты Лолы Лав вместе рецензировать «Взгляни на дом свой, Ангел» был позже изменен, и мисс Лав рецензировала ее одна в воскресном номере «Гражданина» [«Asheville Citizen»] от 20 октября 1929 года] и что Родни Кроутер [Родни Кроутер рецензировал «Взгляни на дом свой, Ангел» на радиостанции WWNC, 21 октября] будет говорить о ней по радио. Я ничего не могу добавить к тому, что уже сказал вам, кроме как повторить, что вы все были прекрасны и великодушны, и что я знаю, что вы понимаете и верите в автора, независимо от того, какой эффект может произвести книга.
У меня есть одна новость, которую, однако, не следует предавать огласке: вчера в «Скрибнерс» мне сказали, что предварительные продажи книги, не считая Нью-Йорка, превысили 1600 экземпляров, а один из продавцов в «Даблдей Доран» сказал рекламщику, что книга станет «сенсацией осени», что бы это ни значило. Все это слишком удивительно – чудесно – последнее я имею в виду – чтобы быть вероятным. Томас Бир, писатель, на прошлой неделе позвонил в «Скрибнерс» и сказал, что я – лучший молодой писатель, появившийся со времен Гленуэя Уэскотта, написавшего «Бабушек» (хотя почему Уэскотт, я не знаю). Наконец, мой агент, миссис Бойд, которая находится за границей, сообщила «Скрибнерс», что два английских издательства, Кейп и Хайнеманн, хотят получить книгу для публикации в Англии. Но, ради Бога, не говорите об этом!
Книга выходит послезавтра, а у меня уже нервы на пределе. «Скрибнерс» великолепны и хотят, чтобы я немедленно занялся новой книгой. Это я уже делаю, но сейчас слишком взволнован, чтобы работать. Новая книга будет лучше – во мне еще много книг.
Если бы я мог, я бы не хотел ничего больше, чем увидеть вашу свадьбу. Но и так я буду думать о вас и посылать вам обоим мою глубочайшую привязанность… Передайте мои самые теплые пожелания Лоле. Вы знаете, как я отношусь к вам. Поблагодарите от меня Родни Кроутера и скажите ему, что я напишу ему на следующей неделе. Простите за это идиотское письмо – думаю, вы знаете, что я сейчас чувствую.
Джулии Элизабет Вулф
Гарвардский клуб, Нью-Йорк
Западная 44-я улица, 27
17 октября 1929 года
Дорогая мама:
На днях я отправил тебе предварительный экземпляр своей книги. Надеюсь, он благополучно дошел до тебя.
Книга выходит завтра – какой успех она будет иметь, никто не может сказать. Это лишь одна из сотен книг, которые выходят в свет. Но мы надеемся на лучшее.
Я надеюсь, что моя книга вам понравится. Если нет, я постараюсь написать лучшую, которая вам понравится. Надеюсь, она не покажется вам «модемной». Все, что я хотел сделать, это написать как можно более хорошую и интересную историю. Пожелайте мне удачи и надейтесь на мой успех. Я напишу больше через несколько дней.
С большой любовью, Том.
Если вы сможете вырваться и навестить меня этой осенью, я сделаю все, что в моих силах, чтобы вы получили удовольствие.
7 сентября 1929 года Вулф нанес короткий визит в Эшвилл. Он обнаружил, что город полон интереса к его предстоящей книге. Он навестил мистера и миссис Робертс, но почти ничего не обсудил с ними о реальном содержании «Взгляни на дом свой, Ангел». Миссис Робертс позже укоряла Вулфа за то, что он не предупредил ее о вымышленных портретах ее семьи в романе. [Вулф не предупредил и свою собственную семью. Его сестра Мейбл заявила: «Я никогда не мечтала – и это мнение я высказываю от своей семьи, что Мама, Фред, Эффи, Фрэнк, – они будут в книге» (из книги Ноуэлл, Томас Вулф, 143)]. Вопрос о том, была ли, как позже утверждал Вулф, враждебная реакция Эшвилла полной неожиданностью, открыт для споров. (Пятью месяцами ранее, когда «Взгляни на дом свой, Ангел» еще назывался «О потерянном», Вулф уже писал упреждающие ответы критикам-антагонистам для публикации в «Эшвил Ситизен»). [Смотрите Вулф, Письма, 176-177, «To the editor of the Asheville Citizen», и Notebooks of Thomas Wolfe, 1:327]. Дальнейшее доказательство ожидаемой дурной славы видно из его письма к бывшему однокурснику по Университету Северной Каролины Бенджамину Коуну: «Я думаю носить накладные усы и темные очки после выхода книги» (Wolfe, Letters, 194)].
После визита, в поезде, возвращавшемся в Нью-Йорк, он тоскливо записал в блокнот: «Вернусь ли я когда-нибудь снова домой?» [Вулф, «Записные книжки», том перый, страница 370] После публикации «Взгляни на дом свой, Ангел» Вулф отправился в самоизгнание из Эшвилла на следующие семь с половиной лет.
Маргарет Робертс
Гарвардский клуб
Нью-Йорк
17 октября 1929 года
Дорогая миссис Робертс:
На днях я отправил вам экземпляр своей книги. Надеюсь, она дошла благополучно. В ней я написал несколько слов, которые прошу Вас принять как искреннее выражение чувств писателя по отношению к вам.
Моя книга выходит в свет завтра. Никто не знает, выживет ли она в лавине книг, выходящих в это время года, или нет, но мы все надеемся на удачу. Естественно, я очень рад этому.
Я не могу ничего добавить к тому, что говорил вам, когда был дома: я старался сделать хорошую и честную работу и надеюсь, что моим друзьям она понравится. Мне будет жаль, если книга им не понравится, но я буду продолжать в надежде написать когда-нибудь что-нибудь, достойное их похвалы. Думаю, большего я сказать не могу.
Шлю вам всем мой самый теплый и нежный привет.
Я напишу вам немного позже, после того как узнаю больше о судьбе моей книги.
С надеждой и любовью,
Том Вулф
Вчера вечером ужинал с Биллом Коком. Ему нравится его работа и его фирма.
Джорджу Уоллесу
Нью-Йорк
25 октября (?) 1929 года
Дорогой Джордж:
Спасибо за ваше прекрасное письмо, за ваши щедрые усилия и просто за то, что написали. Не знаю, сообщал ли я вам в своем последнем письме, что книга продана в Англии – «Хайнеманн» издает ее там и высылает мне 100 фунтов аванса. Книга хорошо продается в Нью-Йорке, хотя рецензий еще не было – несколько книготорговцев, включая знаменитого Холлидея [Теренс Холлидей из книжного магазина «Холлидей»], рекомендуют ее. В воскресенье, я полагаю, появится рецензия в «Нью-Йорк Таймс». Хороша она или плоха, я сказать не могу, но если она хороша и с ней можно немного поработать, тем лучше. [Уоллес был другом одного из редакторов «Бостон Ивнинг Транскрипт». Возможно, Вулф имел в виду именно это, а возможно, он просто решил, что, поскольку Уоллес был «рекламщиком», он сможет «распространить новости» о книге]. Кроме того, в журнале «Скрибнерс» за декабрь, кажется, будет рецензия (он вышел в ноябре). Люди говорили мне об этом – один рецензент сказал, что я должен быть поставлен в один ряд с Уитменом и Мелвиллом. [В рецензии Роберта Рейнольдса на «Взгляни на дом свой, Ангел» в декабрьском «Скрибнерс» сказано: «Если бы мы навешивали на Вулфа ярлыки, мы бы поставили его в один ряд с Мелвиллом и Уитменом, хотя у него нет той драматической интенсивности и совершенства эпитетов, которые мы находим в «Моби Дике», и той серьезной чистоты, которая проступает в «Листьях травы». Но, «Взгляни на дом свой, Ангел» – это первая книга»]. Горячая штучка, да? А издательство «Скрибнерс» настаивает, что не имеет к этому никакого отношения – что это все честная стрельба из лука, и они еще ни разу не солгали.
Единственные рецензии, которые я получил, – из Северной Каролины, и, Боже! Они выпускают пар. Все они хвалебно отзываются о произведении, говорят, что это захватывающий роман и так далее, но двое или трое утверждают, что это оскорбление штата и народа, что «худшая сторона людей» выставлена напоказ и так далее. Джозефус Дэниелс из «Новостей и Обозрение Рали», пишет, что Юг и Северная Каролина «были оплеваны». [Рецензия на книгу «Взгляни на дом свой, Ангел» была опубликована в номере «Новости и Обозрение Рали» от 20 октября 1929 года Джонатаном Дэниелсом, который был знаком с Вулфом по университету Северной Каролины. Рецензия была озаглавлена «Первый роман Вулфа – роман бунт. Бывший писатель из Эшвилла в ярости обрушивается на Северную Каролину и Юг», и гласила: «Против викторианской морали и бурбонской аристократии Юга он обрушил всю свою ярость, и в результате получилась не та книга, которая понравится Югу в целом и Северной Каролине в частности. Вот молодой человек, обиженный чем-то, что он любил, в своей чувствительной ярости плюет на это. В романе «Взгляни на дом свой, Ангел» Северная Каролина и Юг оплеваны»]. Меня это очень огорчает! Во-первых, я никогда не упоминал Северную Каролину, и никому здесь и в голову не приходило, что я пишу о Северной Каролине или Юге – меньше всего автору. Все считали, что книга написана о людях, которые могли жить где угодно, и, если уж говорить об их «худшей стороне», «Скрибнерс» считают их богатыми, великолепными и великими людьми. Что же мне делать! Ничего не делать, ничего не говорить. В книге много разных вещей и людей, но мы считаем, что ее общий эффект – это красота. (Прошу простить за личный букет!)
Во всяком случае, как только я разберусь, что к чему, и успокою нервы, я приступлю к новой книге.
«Скрибнерс» не хотят, чтобы мою книгу «запретили в Бостоне» – они очень хорошая и достойная фирма, и им не понравился запрет Хемингуэя [июньский и июльский номера журнала «Скрибнерс Мэгазин» за 1929 год были запрещены в Бостоне из-за опубликованных в них фрагментов «Прощай оружие» Хемингуэя], хотя это и помогло продаже книги. Но – это между нами – если ее запретят, я надеюсь, что она наделает много шума – ради Бога, постарайтесь сделать для меня какую-нибудь рекламу.
Все это время я должен, как обычно, преподавать в университете и оценивать работы первокурсников. Боже! Как это мучительно!
Передайте привет миссис В. и мальчикам. Дайте мне поскорее весточку. Спасибо за ваши благородные усилия. Несмотря на мою бессвязность, их очень ценят.
В «Скрибнерс» считают, что это отличная книга, Джордж – не могу передать, насколько. А Томас Бир доставил ей (и мне) огромное удовольствие, от которого у меня волосы встали дыбом!
Пишите мне – расскажите, как быть спокойным.
Приведенная ниже краткая заметка была написана в ответ на письмо Марка Шорера, который в высшей степени высоко оценил «Взгляни на дом свой, Ангел». Шорер – был профессором английского языка в Калифорнийском университете, автор книг «Слишком старый дом», «Место отшельника», «Состояние души», «Уильям Блейк: Политика видения», «Войны любви» и других.
Марку Шореру
15-ая Западная улица, 27
Нью-Йорк
25 октября, 1929 года
Дорогой мистер Шорер:
Ваше письмо о моей книге – первое, которое я получил от незнакомого человека, хотя у меня было несколько писем от друзей.
Я тронут и польщен тем, что вы говорите о книге. Это очень здорово – знать, что написанное тобой перепрыгнуло через темноту и стало светом, другом. Естественно, я надеюсь, что у меня будут и другие письма от людей, которым понравилась книга, но я всегда буду придавать особое значение вашему письму, потому что, оно было первым.
Рецензия Маргарет Уоллес на роман «Взгляни на дом свой, Ангел» в воскресной газете «Нью-йорк Таймс» от 27 октября стала первой крупной рецензией и одной из самых благоприятных. Прочитав ее, Вулф сразу же написал ей следующую благодарственную записку.
Маргарет Уоллес
Западная 15-я улица, 27
Нью-Йорк
27 октября 1929 года
Дорогая мисс Уоллес:
Хочу поблагодарить вас за великолепную рецензию на мою книгу в сегодняшнем номере «Таймс». Я тронут и польщен вашими словами – это моя первая книга, и мне очень приятно знать, что ее так терпеливо и высоко оценили. Люди из «Скрибнерс» очень обрадовались вашей рецензии: теперь они считают, что у книги есть все шансы на коммерческий успех – что также очень много значит для меня. Если это действительно так, то я знаю, что вы внесли в это большой вклад.
Но даже если книга так и не будет продана, я никогда не забуду, что вы о ней написали. Я всегда буду чувствовать, что то, что я написал, попало в огромные джунгли мира и нашло там друга. Подобные вещи окупают всю боль и отчаяние писательского труда.
Следующее ночное письмо Вулф отправил своей сестре Мейбл, получив от нее письмо с описанием фурора, который вызвала в Эшвилле публикация «Взгляни на дом свой, Ангел».
Мэйбл Вулф Уитон
[ночное письмо]
Нью-Йорк
28 октября 1929 года
Спасибо за прекрасное письмо. Великие фигуры в романе – Элиза, Хелен, Гант и Бен. Все здесь считают их великими людьми. Ни одна книга не должна читаться как сплетня или оцениваться по отдельным отрывкам. Если оценивать книгу и главных героев в целом, они покажутся прекрасными людьми. Прочитайте рецензию в «Нью-Йорк Таймс» за прошлое воскресенье, а также в «Геральд Трибьюн» за следующее воскресенье или неделю спустя [«Взгляни на дом свой, Ангел» был очень благосклонно оценен Марджери Латимер в воскресном выпуске «Нью-Йорк Геральд Трибьюн», от 3 ноября 1929 года]. Что бы ни думали в Эшевилле сейчас, со временем они поймут, что я пытался написать трогательную, честную книгу о великих людях. Именно так воспринимает эту книгу мир за пределами Эшвилла. Передайте это [письмо] маме и скажите, что я напишу через день или около того. Если вы сомневаетесь в моих словах, перечитайте главу о смерти Бена и последующие сцены погребения. А потом спросите, осмелится ли кто-нибудь сказать, что это не великие люди. Книга быстро продается. Похоже на успех, но ничего не скажешь. Вы – великий человек. С любовью.
Маргарет Робертс
Конец октября – начало ноября 1929 года
Дорогая миссис Робертс:
Когда я получил ваше письмо неделю или две назад, я отнес его мистеру Максвеллу Перкинсу, который является настоящим главой «Скрибнерс» и о котором вы много раз слышали о меня. Это человек самого лучшего и высокого качества – смелый, честный, щедрый и мягкий, и дружба с ним – одна из тех вещей, которыми я дорожу больше всего в своей жизни. Я дал ему прочитать ваше письмо и вышел из его кабинета, пока он читал его там. Когда я вернулся, он сказал: «Это письмо очень замечательного человека». Я тоже так думаю. В вашем письме есть много вещей, которые причинили мне глубочайшую боль, но мое отношение к вам усилилось, если это возможно, благодаря этому письму.
Учитывая то, как вы, очевидно, относитесь к некоторым частям моей книги – а я хочу скромно сказать, что вы ошибаетесь, – ваше письмо очень замечательно, и я также хочу сказать, справедливо и честно, две вещи, которые касаются высказываний в вашем письме:
Во-первых, в одном из отрывков, которые вы упоминаете, нет ни малейшего намека на «незаконнорожденность», и если спокойно и внимательно прочитать весь отрывок, то окажется, что так оно и есть.
Вы совершенно правы, говоря, что я не стал бы писать такую книгу через двадцать лет. Более того, я не стал бы писать такую книгу сейчас. Один из персонажей в моей книге говорит, что мы проживаем не одну жизнь – может быть, дюжину или сотню. С тех пор как я начал писать эту книгу более трех лет назад, я прожил как минимум одну. И самое печальное, что эта жизнь, включая ту, другую, о которой рассказывается в моей книге, закончилась
В одном месте вашего письма вы, кажется, сомневаетесь в моей искренности – «Никто, – говорите вы, – не может заставить меня поверить, что вы не были искренним».
Следующее письмо Вулфа осталось незаконченным и не было отправлено по почте. Первые страницы сильно потерты. Возможно, Вулф долгое время носил его в сложенном виде в записной книжке или в другом месте при себе (это не было для него необычной практикой).
Маргарет Робертс
Бланк письма Гарвардского клуба
Начало ноября 1929 года
Дорогая миссис Робертс:
Я получил ваше письмо около двух недель назад. Я не мог ответить на него раньше, потому что было много дел, связанных с моей книгой, и потому что я позволил темам первокурсников навалиться на меня, пока я [страница оборвана], я был [страница оборвана] мой выход.
Я не могу ответить на ваше письмо так, как оно того заслуживает, [страница оборвана] из-за тем и промежуточных оценок; и отчасти потому, что [страница оборвана] все еще взволнован, пытаясь увидеть, как [страница оборвана] продается книга, что пишут в рецензиях [страница оборвана] и больше всего потому, что я хочу написать вам о вашем письме, когда я смогу написать вам спокойно и обстоятельно.
Но сейчас я хочу сказать одну-две вещи: когда я прочитал ваше письмо, я отнес его Максвеллу Перкинсу, который действительно является главой «Скрибнерс» и который очень [страница оборвана] смелый, щедрый и [страница оборвана] вы слышали, как я говорил [страница оборвана] ему ваше письмо, чтобы он его прочитал, [страница оборвана] его кабинет, пока он его читал. Когда я вернулся, он сказал: «Это [страница оборвана] письмо очень великолепного [страница оборвана] человека» [Этот материал также появляется в черновике его карманного блокнота (смотрите письмо 54)].
Это также то, что я чувствую [страница оборвана]
Что я могу сказать таким людям или тем, кто настаивает на том, чтобы читать мою книгу как дневник буквальных событий? Человек, написавший статью в «Таймс» [Уолтер С. Адамс. Смотрите его рецензию «Amazing New Novel Is Realistic Story of Asheville People», Asheville Times, 20 октября 1929 года] сказал, что в своем предисловии я поднял вопрос о том, является ли книга «автобиографической» или нет, а затем поспешил «снять вопрос ловкими поворотами фраз». [Ibid. Адамс пишет: «В предисловии Вулф поднимает вопрос о том, действительно ли произведение автобиографично, а затем спешит умолить этот вопрос ловким передергиванием фраз»]. Вы прекрасно знаете, что я никогда не задавал вопросов и не пытался уклониться от ответа с помощью «хитроумных вывертов фраз». То, что вы обнаружите, прочитав это вступление, – очень простое, прямое и, я надеюсь, очень ясное изложение цели и природы художественной литературы. Если это заявление не совсем понятно, то это потому, что мне была отведена всего одна страница [опубликованное предисловие Вулфа к роману «Взгляни на дом свой, Ангел» содержит десять предложений. Первоначальная машинопись, названная «Defensio Libris», содержала тридцать три предложения на пяти страницах, прежде чем ее сократили для публикации] и потому, что моя критическая способность недостаточно велика, чтобы четко определить слово «вымысел», но здесь, конечно, нет попытки умозрительно задать вопрос или уклониться от ответа. Но какой ответ хотят получить люди вроде репортера «Таймс»? Он утвердительно заявляет, что я – Юджин и что другие фигуранты моей книги – люди, живущие сейчас в Эшвилле [Adams, Amazing New Novel: «Этот молодой человек, которого называют Юджин Гант (в действительности Томас Вулф, автор)». Ранее в своей рецензии Адамс утверждает: «Книга написана об Эшвилле и эшвилльцах самым простым языком. Это автобиография эшвиллского мальчика. … Автор рисует себя и свой домашний круг, а также соседей, друзей и знакомых смелыми, дерзкими линиями, ничего не жалея и ничего не скрывая»]. Метод таких людей, как этот человек, похож на метод мелкого адвоката, который пытается запугать и заглушить своего свидетеля, крича:
– Отвечайте – «да или «нет» – как будто на любой трудный, сложный и глубокий вопрос можно ответить подобным образом. Так они кричат вам:
– Ваша книга – вымысел или факт? отвечайте «да» или «нет»?
– Это вымысел, – отвечаете вы, – но…
– Не обращайте на это внимания, – кричит он. – Отвечайте «да» или «нет»?
– Но вымысел, – протестуете вы, – очень определенно связан с…
– Никаких ваши хитроумных выкрутасов, – кричит он, – мы не позволим вам так уклоняться от ответа на вопрос. Отвечайте «да» или «нет»?
Что вы можете ответить таким людям? Что вы можете сделать, кроме как попытаться сдержать ярость, поднимающуюся в вашем горле, чтобы не закричать:
– Будь проклята ваша несправедливость!
[письмо обрывается на этом месте; остальная часть страницы пуста]
Возможно, Вулф хотел, чтобы следующий фрагмент был частью предыдущего письма или черновиком, ныне утраченным.
Маргарет Робертс
Осень 1929 года
Это стало очень длинным письмом, но я знаю, что в конце слова не помогут. Если бы слова могли помочь, я мог бы найти ответ в одном предложении. Но я не могу.
Осталось сказать самое трудное и самое печальное. Я постараюсь сказать это как можно яснее и осторожнее. Мое убеждение относительно жизни сводится к следующему: каждый из нас – не один человек, а множесво людей, и у каждого из нас не одна, а несколько жизней. Мне кажется, что у меня их уже не меньше дюжины. В моей книге говорилось, что мы – чужие и никогда не узнаем друг друга. Сейчас я верю в это сильнее, чем когда-либо. Очень трудная вещь, которую я пытаюсь сказать сейчас, заключается в следующем: люди дома, которых огорчила, возмутила или ранила моя книга, видят меня в жизни, в которой я перестал жить, видят меня в форме, которая так же далека от меня, как призрак в «Гамлете». Моя книга была вызвана из затерянных колодцев и храмов моего детства – в течение двадцати месяцев этот опыт пылал, формировался и сливался в мир моего собственного творения – мою собственную реальность. Теперь я понимаю, что некоторые люди читали мою книгу не ради реальности, которая сама по себе является реальностью, а ради другой реальности, которая принадлежит миру. Такие люди увидели в книге лишь ожесточенные нападки на людей, живущих в городе, где я родился. Неужели вы думаете, миссис Робертс, что какой-нибудь художник ночь за ночью отдавал тело и кровь какому-нибудь творению с единственной целью – сделать горькую картину жизни? Неужели вы думаете, что если бы реальность, описанная в моей книге, была только той реальностью, которая ходит по улицам, я бы вообще взялся писать?
Я смиренно прошу о следующем: если я должен быть в изгнании, дайте мне надежду когда-нибудь вернуться. Если из-за моей первой книги передо мной захлопнулась дверь, дайте мне хотя бы шанс искупить свою вину. Со своей стороны, я считаю свою работу только начатой – написана лишь первая глава. Мне горько думать, что эта глава вызвала обиду, но, во всяком случае, я надеюсь, что другие главы покажутся прекраснее и лучше тем, кого оттолкнула эта. Справедливости ради должен заметить, что постараюсь подойти к жизни и к искусству с гораздо большей интенсивностью и честностью, чем мне это удавалось до сих пор.
Роберт Норвуд, которому была написана следующая записка, был пастором церкви Святого Варфоломея в Нью-Йорке и автором книг «Исса», «Крутой подъем», «Человек, который осмелился стать Богом» и другие. 26 октября 1929 года он написал Джону Холлу Уилоку: «Я читаю «Взгляни на дом свой, Ангел». Это замечательная книга, не далеко ушедшая от «Братьев Карамазовых». Это скорее эпос, чем роман, и скорее поэзия, чем проза. Пока что у меня ощущение архангела со сломанными крыльями, пытающегося вернуть себе утраченные высоты, – мучительный крик разочарованного идеалиста». Вскоре после этого Уилок познакомил Вулфа с Норвудом.
Роберту Норвуду
Западная 15-я улица, 27
Нью-Йорк
15 ноября, 1929 года
Дорогой доктор Норвуд:
Я хочу поблагодарить вас за чудесные два или три часа, которые я провел с вами на днях. И еще я хочу поблагодарить вас за то, что вы сказали о моей книге. Это очень здорово – знать, книга, которую я написал, вышло в мир, обрела такого друга, и была так щедро оценена.
Я польщен и тронут тем, что вы сказали о ней. Даже если книга не будет продаваться дальше, для меня будет очень важно знать, что вы относитесь к ней так же.
С нетерпением жду новой встречи с вами.
Альберту Котесу
Западная 15-я улица, 27
Нью-Йорк
19 ноября, 1929 года
Дорогой Альберт:
Твое имя в письме привело меня в неописуемое волнение. Боюсь, что ни один из нас не является постоянным корреспондентом, но если бы я писал тебе каждый раз, когда думал о тебе последние шесть лет, у тебя сейчас был бы полный багажник моих писем.
Ты, конечно, не заплатишь $3.00 за любую книгу, которую я напишу (или $2.50 тоже), если я могу быть под рукой, чтобы предотвратить это. … Через несколько дней ты должен получить экземпляр моей книги от «Скрибнерс» с красивой надписью и трогательным чувством (которое я еще не придумал). Если ты не получишь книгу, дай мне знать…
Я был рад и счастлив получить от тебя весточку, Альберт. Думаю, ты поверишь мне, когда я скажу, что ты один из моих старых друзей, о которых я часто вспоминаю и чьей дружбой очень дорожу. Мне очень хочется, чтобы ты прочитал мою книгу, хочу услышать твое мнение о ней. Книга доставила мне много радости и боли, потому что некоторые люди на Юге и в моем родном городе прочитали ее как альманах личных сплетен и истолковали ее как жестокое и беспощадное нападение на реальных людей, некоторые из которых сейчас живут. Я получил несколько горьких писем и одно или два довольно уродливых анонимных (одно из них начиналось в гордой величественной манере следующим образом: «Сэр: Вы – сукин сын и так далее»). С другой стороны, я получал великолепные письма, причем не только от незнакомцев, но и от старых друзей. И рецензенты в Нью-Йорке и других городах говорят о ней очень хорошие вещи, и я понимаю, что литературные деятели в Нью-Йорке в восторге от нее…
Ради Бога, Альберт, читай книгу так, как она должна была быть прочитана – как книгу, видение жизни писателем: ты найдешь в ней некоторые вещи очень открытыми, очень прямыми и, возможно, очень ужасными – но книга была написана в невинности и честности духа, [Здесь Вулф снова почти дословно повторяет то, что он сказал в своей записке «К читателю» в начале романа «Взгляни на дом свой, Ангел»] и люди здесь не считают ее ужасной или уродливой, но, возможно, великой и прекрасной. Прости, что я пишу все это – звучит как хвастовство, – но я хочу, чтобы мои старые друзья поняли, что я сделал. Я знаю, что могу положиться на твою справедливость и ум…
Я не могу больше писать сейчас, но напишу позже. Я все еще работаю в университете, но надеюсь, что книга будет продаваться достаточно хорошо, чтобы освободить меня от работы с бумагами первокурсников. Я хочу закончить новую книгу.
Это письмо написано в большой спешке, но я надеюсь, что ты все поймешь. Дай мне поскорее получить от тебя весточку. С теплыми пожеланиями,
Том
Следующие «Моя писательская биография» и «Мои творческие планы» были поданы вместе с заявкой Вулфа на стипендию Гуггенхейма. Если к стипендии прилагалось сопроводительное письмо с конкретным заявлением, то оно было утеряно.
Джулии Элизабет Вулф
Гарвардский клуб
Западная 44-я улица, 27
Нью-Йорк, 30 Ноября, 1929 года
Дорогая мама:
Я был очень занят своей книгой и проверкой стопок тем первокурсников, и не смог ответить на твое письмо так, как следовало бы. На следующей неделе я отправлю тебе более длинное письмо, в котором расскажу о некоторых вещах, о которых ты упомянула в своем письме. Здесь я могу лишь сказать, касаясь одного момента в вашем письме, что никому из тех, с кем я здесь общался, не приходило в голову, что Элиза [мать Юджина в романе «Взгляни на дом свой, Ангел»] была не кем иным, как очень сильной, находчивой и мужественной женщиной, которая проявила большой характер и решимость в борьбе с жизненными трудностями. Это, безусловно, то, что я чувствовал и чувствую о ней, и, поскольку я написал книгу, мое мнение должно быть таким же хорошим, как и чье-либо другое. Некоторые из самых умных людей в стране прочитали книгу и считают, что это прекрасная вещь, а главные герои – замечательные люди, и если это правда, то я не думаю, что нас должно сильно волновать мнение злобных и мелочных людей в маленьких городках.
Я напишу вам еще через неделю или около того. Вместе с этим письмом я шлю вам привет и пожелания здоровья и процветания. Я устал, но в дальнейшем буду больше отдыхать.
С любовью, Том
Максвеллу Перкинсу
Гарвардский клуб, Нью-Йорк
24 декабря 1929 года
Дорогой мистер Перкинс!
Год назад я не верил в мои творческие возможности и не был знаком с Вами. То, что случилось за этот год, многим могло бы показаться весьма скромным успехом, но для меня это источник восхищения и благоговения. Ибо свершилось самое настоящее чудо.
В моем сознании Вы и моя книга так тесно связаны, что я просто не могу отделить одно от другого. Я прекрасно помню не то, как писал ее, но как Вы впервые говорили со мной о ней и как мы с Вами над ней работали. Так уж я устроен, что помню и понимаю людей лучше, чем события. При слове «Скрибнерз» у меня становится тепло на душе; когда я слышу это слово, я прежде всего вспоминаю Вас, ибо Вы сделали для меня то, что, казалось, никто сделать не в силах: Вы даровали мне свободу и вселили в меня надежду.
В юности мы верим в существование героев-исполинов, тех, кто сильнее и мудрее нас, к кому в трудную минуту мы всегда можем обратиться за помощью и утешением. Потом мы начинаем понимать, что ответы в нас самих, в наших душах и сердцах, но желание верить в таких героев не проходит. Для меня таким героем-исполином являетесь Вы – краеугольный камень моего существования.
Все, что было связано с публикацией моей книги, я принял очень близко к сердцу – и успехи, и радости, и огорчения. Сейчас радость, гордость, торжество, вызванные публикацией, как-то померкли в моем сознании, но, как это всегда бывает, реальная повседневность вытесняет фантазию и наполняет наше существование истинным восторгом.
Даже если бы в этот год я только познакомился с Вами, и то я назвал бы его великим годом. Мне лестно называть Вас моим другом, и я хотел бы передать Вам в этот рождественский день мои самые глубокие и преданные чувства.
Том
Джулии Элизабет Вулф
25 Декабря,1929 года, 12:55
Миссис Джулия Э. Вулф
Спрус-Стрит, 48, Эшвилл, Северная Каролина
Самые сердечные пожелания веселого Рождества и счастливого и процветающего Нового года, я надеюсь, что вы можете наслаждаться многими другими благами в здоровье, счастье и процветании и в тепле.
Люблю вас, напишу на этой неделе
Том
Мэйбл Вулф Уитон
Гарвардский клуб
Нью-Йорк
5 января 1930 года
Дорогая Мейбл:
Длинное письмо, которое я обещал тебе написать, никак не получается. Если бы ты знала, какими были последние два-три месяца, ты бы поняла, почему.
Люди почти свели меня с ума – телефон звонит по двадцать раз на дню, и это кто-то, кого я не знаю, или не хочу знать, или встречал однажды, или кто знает кого-то, кто знает меня. Кроме того, я получаю десятки писем с приглашениями выступить, поужинать, написать. Мне нужно оценить все свои работы, надвигаются экзамены, а из «Скрибнерс» каждый день звонят и просят написать статью для журнала. Единственное облегчение в том, что «Скрибнерс» теперь будут платить мне скромную сумму денег каждый месяц, чтобы я мог жить [18 декабря 1929 года Перкинс написал Вулфу письмо, в котором говорилось следующее: «Мы глубоко заинтересованы в вашей писательской деятельности и уверены в вашем будущем, и мы хотели бы сотрудничать с вами, насколько это возможно, в создании нового романа… Мы с удовольствием возьмем на себя обязательство выплатить вам в качестве аванса за следующий роман сорок пять сотен долларов в рассрочку, из расчета двести пятьдесят долларов в месяц, начиная с 1 февраля». Соответственно, «Скрибнерс» произвел эти выплаты за месяцы с февраля по май 1930 года. К тому времени Вулф получил стипендию Гуггенхайма, а роман «Взгляни на дом свой, Ангел» заработал гонорары в размере 3500 долларов сверх уже выплаченного аванса в 500 долларов. Поэтому ежемесячные выплаты по новому роману были прекращены до 21 июня 1933 года, когда Вулфу начали выплачивать нерегулярные суммы по этой книге], и я прекращаю преподавание в феврале. Я должен немедленно приступить к работе над своей новой книгой, но если люди не оставят меня в покое, мне придется куда-нибудь уехать. Все, чего я хочу, – это немного покоя и свободы для работы – если все они будут покупать мою книгу, что ж, хорошо, но пусть оставят меня в покое. Я не хочу уезжать из Америки, но некоторые люди уговаривают меня уехать в Европу, чтобы жить там, где меня хотя бы не будут беспокоить. Английский издатель [A. С. Фрер-Ривз, редактор «Вильям Хейнеманн», который был наиболее тесно связан с книгами Вулфа. Позже он был председателем совета директоров этого дома] находится здесь и поручил мне работу по внесению некоторых сокращений в книгу. Англичане в восторге – говорят, что люди здесь замечательные, настоящие англосаксы, которых англичане понимают, – и что книга хорошо пойдет в Англии. Она выходит там в марте. [На самом деле она вышла только 14 июля.]
Я получил две или три сотни писем со всей страны. Как, ради всего святого, я буду на них отвечать, не могу сказать. Все это дело так меня взбудоражило, что неделю или две назад я слег с простудой и гриппом и теперь просто выкарабкиваюсь.
Время от времени я получаю письма, открытки и телефонные звонки от жителей Эшвилла. Хочу сказать, что никто не был так удивлен тем, какой эффект произвела моя книга на некоторых людей, как я. Я живу в своем собственном мире. Я ищу, изучаю, наблюдаю, но мир, который я создаю, – мой собственный. Насколько я понимаю, в Эшвилле было продано несколько сотен экземпляров книги. Это слишком много. Пожалуйста, поймите, что я не пытаюсь быть чванливым или высокопарным – я с большим уважением и симпатией отношусь ко многим, очень многим людям дома, – но моя книга не та, которую должен читать каждый риелтор, адвокат, фармацевт или бакалейщик. Они должны придерживаться «Кольерс», «Америкэн» и «С.Э.П.». Есть, возможно, две дюжины людей дома, которые могут прочитать мою книгу и понять, о чем она. И, пожалуйста, поймите, что это не критика многих других людей, которые мне нравятся, но которые читают, возможно, одну или две книги в год, и которые пытаются сделать мою книгу частью местной истории. Если они считают мою книгу непристойной, горькой, сенсационной и так далее, пусть предпочитают Уорика Дипинга и Зейна Грея.
Вы, по крайней мере, знаете, что у меня на сердце: создать перед смертью нечто настолько честное, великое и прекрасное, насколько я смогу это сделать. Если кто-то считает мою первую книгу уродливой и грязной и не видит в ней ни красоты, ни пользы, мне очень жаль; но я продолжу работу над следующей настолько хорошо, насколько смогу, и постараюсь сделать ее настолько хорошей, насколько смогу. Один человек из Эшвилла написал в «Скрибнерс», что, по слухам, Вулф сказал, что хотел вырезать некоторые части книги, но «Скрибнерс» настоял на том, чтобы их оставили, чтобы книга принесла много денег. Подумать только, любой проклятый дурак не мог понять, что эта книга написана не ради денег – что если бы мне нужны были деньги, я бы написал что-нибудь на треть длиннее, полное успокаивающего сиропа, который нужен большинству из них. Мы все здесь рады успеху книги – прекрасным отзывам, а также ее продаже, – но никто не собирается на ней разбогатеть: есть сотни халтурщиков, которые зарабатывают гораздо больше, чем я, и если деньги – моя цель, я могу заработать гораздо больше на рекламе или чем-то еще, чем когда-либо на писательстве.
Разве для людей дома ничего не значит знать, что честные и умные критики по всей стране сочли мою книгу прекрасной и трогательной? Конечно, есть люди, которые достаточно справедливы и великодушны, чтобы понять, что я пытаюсь быть художником, а не сенсационным халтурщиком. Неужели кто-то всерьез думает, что человек будет потеть кровью, терять плоть, мерзнуть и пачкаться, работать всю ночь и почти два года жить в потогонном бараке, как это делал я, если его единственная цель – сказать что-то плохое о Смите, Джонсе и Брауне? Послушай, Мейбл: то, о чем говорится в моей книге в первом абзаце и о чем она продолжает говорить на каждой странице до конца, – это то, что люди – чужие, что они одиноки и оставлены, что они в изгнании на этой земле, что они рождаются, живут и умирают в одиночестве. Я начал писать эту книгу в Лондоне: она так же относится к людям в Лондоне и Айдахо, как и к людям в Эшвилле. Ты говоришь, что женщины в клубах вызывали тебя и читали лекции или сочувствовали. Что ж, пусть. Ты больше, чем любая из них, и они не могут причинить тебе вреда. Полагаю, сочувствие было вызвано тем, что у тебя был такой же брат, как я. Очень хорошо. Это тоже нормально. Очевидно, можно грабить банки, быть жуликоватым адвокатом, пить кукурузное виски, прелюбодействовать с женой соседа и считаться прекрасным, милым, непонятным парнем; но если ты попытаешься сделать что-то истинное и прекрасное, ты «злобный безумец», а твое «большое заросшее тело» должно быть протащено по улицам толпой линчевателей. Эти фразы взяты из одного из писем, присланных мне.
Что ж, они не могут причинить нам вреда. Я не верю, что хоть один хороший человек, достойный быть другом, когда-нибудь ополчится на семью или на меня за то, что я написал книгу, – а тот, кто ополчится, скорее всего, не стоит того, чтобы его знать.
Я – молодой человек, только начинающий свой жизненный путь. Самое печальное во всей этой истории не то, что люди неправильно поняли мою первую книгу, а то, что они вообще не знают, какой я и каковы мои представления о жизни. Много воды утекло с тех пор, как я покинул Эшвилл десять лет назад, но я всегда надеялся, что, представив миру свою первую работу, я найду сочувствие и понимание среди своих старых друзей. Теперь я чувствую себя так, словно меня изгнали: они больше не знают человека, которым я стал, и не узнают меня в той работе, которую я буду делать в будущем. Я говорю, что это самое печальное во всем этом. Это похоже на смерть. Теперь я знаю, что люди умирают не один раз, а много раз, и та жизнь, частью которой они когда-то были и которую, как им казалось, они никогда не смогут потерять, тоже умирает, становится призраком, теряется навсегда. С этим ничего нельзя поделать. Мы можем только любить тех, кто потерян, и скорбеть об их душах. Если же я мертв для людей, которые когда-то знали меня и заботились обо мне, то мне больше нечего сказать или сделать – я должен идти в новый мир и новую жизнь, с любовью и скорбью о том, что я потерял. Если хотите, вспомните ребенка на вишневом дереве, или длинноногого школьника, или парня в колледже – я всегда буду помнить вас всех с любовью и преданностью…
Вулф познакомился с Джеймсом Бойдом, автором «Барабанов, марша», «Долгой охоты» и «Перекати-поле», через Перкинса и попросил Бойда рекомендовать его на получение стипендии Гуггенхайма. Следующая записка была написана в ответ на письмо Бойда, в котором он сообщал, что сделал это, и добавлял: «Взгляни на дом свой, Ангел» стал одним из наших постоянных владений, и хотя в нем есть вещи, за которые я обличаю вас перед троном Формы и Дизайна (без сомнения, это просто табуретка дипломированного бухгалтера), у романа есть простое и неоспоримое достоинство – он содержит элементы величия и всю грозную силу жизни».
Джеймсу Бойду
[15-ая Западная улица, 27]
[Нью-Йорк]
[12 января (?) 1930 года]
Дорогой Джим:
Ты отличный парень, даже если у тебя есть свои теории формы. Это будет гордый день в моей жизни, когда ты протянешь мне руку и скажешь: «Сынок, стиль и структура твоей последней книги делают Флобера похожим на анархиста. Я причинил тебе большой вред».
Если я куплю накладные усы и вернусь в родной штат, ты представишь меня как своего ирландского кузена, Эрнеста? [Джеймс и Эрнест Бойд на самом деле не были родственниками].
Следующее письмо Марджори Н. Пирсон было написано в ответ на одно из писем, в котором она восхваляла «Взгляни на дом свой, Ангел». Мисс Пирсон – дочь мистера Ричмонда Пирсона, чей дом Вулф описывает здесь, и познакомилась с Вулфом лично, когда он вернулся в Эшвилл летом 1937 года.
Марджори Н. Пирсон
15-ая Западная улица, 27
Нью-Йорк
19 января 1930 года
Дорогая мисс Пирсон:
Я хочу сердечно поблагодарить вас за ваше письмо. Я тронут и польщен тем, что вы говорите о моей книге, а тот факт, что вы уроженка Эшвилла, придает вашему письму дополнительную ценность.
Когда я был ребенком, отец часто брал меня с собой в маленький парк развлечений в Риверсайде, через реку от Бингем-Хайтс. Вечером, после кино и фейерверков на маленьком озере, мы стояли у реки и смотрели, как на другом берегу проносятся огромные поезда с пылающими топками, отбрасывающими свет. На холме над нами загоралось несколько огней. Я помню большой, ветхий, великолепный викторианский дом с просторной территорией, и я знал, что там жил мистер Ричмонд Пирсон со своей семьей, и я часто думал, как выглядели бы, говорили и были бы похожи люди, живущие в таком прекрасном месте. Теперь мне кажется, я знаю, какими они должны быть – великодушными и величественными, как старый дом, – ведь вы, как мне кажется, принадлежите к этой семье.
Если я прав, то что я чувствую все больше и больше о странности и тайне жизни, которая ткет наши судьбы из хаоса туда и обратно через весь мир, становится глубже и страннее – ведь после того, как столько воды протекло под мостом Френч-Брод с тех пор, как ребенок и его отец стояли там, и после того, как я положил столько дней, месяцев, лет и тысяч миль скитаний между тем временем и этим, я узнал одного из людей в том доме через мою книгу.
Если я ошибаюсь – то есть если вы принадлежите не к той семье Пирсонов, а к другой, – я все равно испытываю к вам глубочайшую благодарность за ваше прекрасное письмо и знаю, что, сколько бы жителей Эшвилла ни недолюбливали мою книгу, она не потерпела неудачу в своем предназначении, пока у нее есть такой друг, как вы.
P.S. Пожалуйста, простите за торжественный тон этого письма – но я пытался сказать то, что действительно чувствовал, и если я сказал это плохо, думаю, вы поймете, что я хотел сказать.
Джулии Элизабет Вулф
Отель «Бельвью»
Бикон Стрит – Бикон Хилл, Бостон
Пятница, 24 января 1930 года
Дорогая мама:
Спасибо за твое интересное письмо, которое пришло за день или два до моего отъезда из Нью-Йорка. Я приехал сюда во время экзаменационного периода в университете – у меня было несколько дней между экзаменами, и я решил взять небольшой отпуск. Сегодня я позвонила Хильде, а завтра буду обедать с Элейн. В Бостоне очень холодно и сыро, земля покрыта снегом и льдом – в Нью-Йорке было примерно так же, когда я его покидал: этой осенью у нас была самая разная погода – от дождя и тумана до метели и заморозков. Я рад, что вы в таком добром здравии и находите столько интересного в Майами. Думаю, вы правы насчет будущего Майами – богатые люди будут приезжать туда все чаще и чаще, чтобы укрыться от холода.
Не знаю, говорил ли я вам, что подал в отставку из университета, и что моя отставка вступает в силу еще через неделю. Моя книга по-прежнему продается стабильно, и никто не знает, как далеко пойдут продажи, но «Скрибнерс» очень щедро предоставили мне 5000 долларов, они выплатят мне эту сумму по 250 долларов в месяц (я попросил их об этом) – и я собираюсь немедленно приступить к работе над своей новой книгой. Английский издатель [William Heinemann, Ltd., London.] также с энтузиазмом относится к этой книге и считает, что она может иметь значительный успех в Англии. Она выйдет там весной этого года. Они уже выплатили мне 100 фунтов в качестве аванса и сказали, что выплатят еще, если я буду сильно стараться. Так что, как видите, хотя я далеко не богат, у меня есть скромный доход, на который можно прожить, пока я не напишу новую книгу. Конечно, я очень рад, что покончил с преподаванием – мне было очень трудно преподавать и писать одновременно; и теперь у меня будет возможность по-настоящему посвятить свое время писательству.
Я попросил «Скрибнерс» отправить копию книги в «Майами Геральд», как вы и просили. Спасибо за встречу с книготорговцами и за вашу заинтересованность в успехе книги. Рецензий было так много, что я не могу перечислить их вам, но, очевидно, вы видели некоторые из главных – «Таймс», «Мир», «Геральд Трибьюн», «Букмен», «Новая Республика», «Субботнее литературное обозрение», «Простой Разговор» и другие.











