Читать онлайн Драматургия: искусство истории. Универсальные принципы повествования для кино и театра
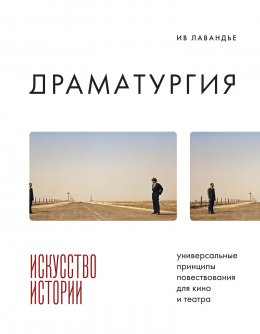
Серия «35 мм. История и теория кино»
Перевод с французского Д. А. Шалаевой
© Шалаева Д., перевод на русский язык, 2025
© Оформление. ООО «Издательство «Эксмо», 2025
Вниманию нарушителей
Дорогой читатель, если у вас в руках официальная версия этой книги, то данное сообщение вас не касается. Я приглашаю вас перейти к основной части книги. Если же нет, позвольте мне сказать несколько слов.
Я родился в 1959 году и большую часть своей жизни прожил без интернета. Я был молод и порой испытывал нужду в те времена, когда нельзя было с легкостью украсть чужую работу, а фотокопии стоили дорого. Но я не чувствовал, что лишен свободы. Если я не мог позволить себе купить пластинку, кассету с фильмом или книгу, то одалживал их у друзей или брал в библиотеке, но никогда не считал, что мне ограничен доступ к культуре.
Вы можете возразить, что времена изменились. Вы правы. Сейчас гораздо больше библиотек и медиатек, чем в прежние времена, и они гораздо богаче. Если там нет того, что вы ищете, то можно попросить их достать это для вас. Но, вероятно, вы подумали о переменах иного рода, а именно, что теперь любые авторские произведения доступны в интернете. Однако прогресс не обязательно означает развитие. Рост технологий не гарантирует больше мудрости или уважения. Наличие новых возможностей не дает больше свободы. Я понимаю, что заманчиво пользоваться интернетом бесплатно, подобно голодному льву, пирующему антилопой, не спрашивая ее мнения. Инструмент есть, он позволяет – как мы полагаем – сэкономить деньги и создает впечатление, что вас никто не видит. Зачем заботиться о морали, если удастся сохранить анонимность? Если бы вы были единственным из тысяч, ворующих файлы, ваш поступок не имел бы никаких последствий – хотя по-прежнему оставался бы бесчестным и предосудительным. К сожалению, тысячи из вас придерживаются той же идеи, той же беспринципности и того же варварства. Копируя книги или воруя файлы из интернета, вы больше не являетесь конкретным человеком, с его богатством и человечностью, а становитесь маленькой частью жестокого суперорганизма, который медленно убивает художественное творчество, и потому ему нет оправдания.
Моя книга – результат многолетней работы, размышлений и, осмелюсь сказать, мастерства. Она продается по разумной цене, доступной малообеспеченным читателям. Я более двадцати лет боролся за то, чтобы эта возможность не иссякла, поскольку считаю, что моя работа заслуживает признания и оценки. Думаю, я заслуживаю того, чтобы продолжать зарабатывать на жизнь своим трудом. Но вы должны понять одну важную вещь: главная проблема не в финансах. Главный ущерб – человеческий. Когда я нахожу на стриминговом канале в интернете мой фильм «Да, но…» или вижу на чужой прикроватной тумбочке ксерокопию одной из своих книг, я чувствую, что меня использовали. Если вы когда-нибудь подвергались какому-либо виду насилия, то знаете, как это больно. В данном случае это обескураживает и лишает желания писать новые произведения. Короче говоря, я предлагаю вам вернуть свою человечность, уважать художников, перестать удаленно оскорблять других, распространяя нелегальные файлы, и купить официальную версию книги «Драматургия». Вы вырастете в собственных глазах, а я, в свою очередь, продолжу получать удовольствие, помогая другим и уважая моих читателей. Всех моих читателей.
Ив Лавандье
Предисловие
Преподавать драму – значит учить понимать человека, познавать смысл жизни.
Сёхэй Имамура[1] [92][2]
Марк писал быстро, соблюдая сроки… Все это было прекрасно при одном условии: оставить амбиции в стороне. <..> Другие производили сковородки, тракторы или доски для виндсерфинга, телевидение производило образы, истории в образах, и у него было свое место в этом процессе, хорошее место, которое он всегда сохранял при одном условии: не торопить события… не делать из себя художника.
От-Пьер, 1985
Несколько определяющих встреч
Эта книга – плод целого ряда самых разных, значительно отличающихся друг от друга встреч, без совокупности которых она никогда бы не увидела свет. Все началось с Франтишека Даниэля, моего преподавателя сценарного мастерства в 1983–1985 годах. В то время он вместе с Милошем Форманом был содиректором киношколы при Колумбийском университете в Нью-Йорке, где я учился на магистра в области написания сценариев и режиссуры. Франтишек считался в США и некоторых европейских странах одним из крупнейших специалистов по преподаванию сценарного мастерства. Отметим, что он был чехом по происхождению и до эмиграции в США преподавал в Пражской киношколе (FAMU).
В 1983 году Франтишек Даниэль горячо рекомендовал нам книгу Эдварда Мэбли «Построение драматического произведения»[3] [118], опубликованную в начале 1970-х годов. В то время тираж был распродан, и найти книгу оказалось нелегко. Сегодня благодаря интернету все стало немного проще, но на французский язык она так и не переведена. В 1983 году в библиотеке Колумбийского университета нашелся один экземпляр, благодаря чему я смог открыть ее для себя. Это замечательное исследование[4].
Помимо прочего, Эдвард Мэбли, в свою очередь, рекомендует несколько книг, в том числе блестящее эссе Уолтера Керра «Трагедия и комедия» [102], которое, к сожалению, никогда не было опубликовано во Франции. Керр также является автором книги «Безмолвные клоуны» [101], посвященной комедиям немого кино, которая примечательна во многих отношениях. Чтобы закончить с книгами, которые помогли мне разобраться в драматургии, я должен упомянуть две работы, пользующиеся заслуженной славой: публикацию интервью «Хичкок/Трюффо» [82] и «О пользе волшебства. Смысл и значение волшебных сказок»[5] [20]. Франтишек Даниэль, Эдвард Мэбли, Уолтер Керр, Альфред Хичкок и Бруно Беттельхейм сформировали основу моих представлений о драматургии[6].
Впоследствии два основных вида деятельности позволили мне максимально уточнить и развить эти идеи. Во-первых, профессия сценариста, что вполне логично. А затем – работа педагога, поскольку с 1987 года я организовывал и проводил различные семинары по написанию сценариев. В итоге это вылилось в две специализации: сценариста и преподавателя драматургии. Свой вклад в рождение этой книги также внесли два человека, первыми доверившие мне место педагога (Франсуаза Вийом из Национального центра сценарного искусства в Вильнёв-лез-Авиньоне и Жаклин Пьеррё из RTBF[7] в Брюсселе), и студенты, прошедшие мои семинары.
Наконец, я немало обязан моей жене Катрин и детям – Баптисте, Орельену, Валентину и Клементине, которые многому научили меня в жизни и, следовательно, в драматургии. Ибо я, как и Имамура [92], верю, что познать одно – значит понять другое. Спасибо всем вам.
Искусство рассказывать истории
До пятого издания у книги был подзаголовок «Механизмы повествования». В конце концов я понял, что он отлично подходит для всех художников (кинематографистов, режиссеров, музыкантов, писателей, создателей комиксов), которые боятся или пренебрегают рассказыванием историй.
Заблуждение часто состоит в том, что умение рассказывать истории объявляется просто ремеслом. Фильм с добротным сценарием, соответственно, относится к области ноу-хау, в то время как фильм, передающий мысли автора, становится искусством в самом благородном смысле слова.
Хочется здесь указать на очевидное: рассказывание историй – одна из важнейших многовековых форм искусства, унаследованная от предков и необходимая для развития человека (см. стр. 17–23).
Рассказывание историй требует мастерства и творческого подхода. Оно позволяет людям испытывать эмоции, воспитывать красоту, расти и общаться. Более того, повествование – один из самых мощных инструментов сохранения и распространения культуры. По всем этим причинам я считаю, что страх перед рассказыванием историй никому не приносит пользы.
Переработанные варианты
Ранние версии книги «Драматургия» (до 2008 года) включали небольшой методологический раздел (главы 16, 17 и 22). Небольшой по количеству страниц, но, на мой взгляд, бесценный для каждого, кто хочет приступить к работе. Мне потребовалось пятнадцать лет, чтобы понять, что эта прикладная часть осталась почти незамеченной и мою книгу порой считают теоретическим трудом. Две другие главы показались мне в равной степени скучными: глава 15, озаглавленная «Анализ произведений», и глава 23, озаглавленная «Чтение пьесы или сценария». Пришло время серьезно отполировать эти важные аспекты моей работы, придав им большую четкость. Таким образом, в основном теоретическая работа по-прежнему называется «Драматургия». Именно эту книгу вы держите в руках. Методологический раздел был преобразован в книгу «Построение сюжета» [111], а 23-я глава превратилась в «Оценку сценария» [112], увеличившись с 40 до 220 страниц и с 6 до 90 страниц соответственно. Наконец, прежняя 15-я глава, в которой я подробно изучил [пьесу Ж.-Б. Мольера] «Школа жен» и [фильм А. Хичкока] «На север через северо-запад», будет дополнена анализом других произведений и также станет самостоятельной книгой («Образцы драматических сюжетов» [113]). Когда-нибудь…
Правила и унификация
Когда в апреле 1994 года книга «Драматургия» была опубликована, во Франции все еще обсуждался вопрос о существовании законов драматургии в контексте преподавания сценарного мастерства. Слово «законы» пугает. Роберт Макки предпочитает говорить о принципах, а кто-то обсуждает мотивы, признаки, конвенции, ожидания, инструменты, уловки, коды. Какая прелесть! Законы предназначены для того, чтобы их соблюдать, тогда как на принципах основана работа чего-либо. Законы сдерживают, принципы стимулируют. Лексикографические тонкости, вероятно, нужны для того, чтобы не разбудить бунтующего ребенка, который дремлет в каждом художнике. Я не боюсь слов «закон» или «правило» и считаю, что можно соблюдать правила, сохраняя при этом свою свободу.
Благодарный зритель
Меня часто спрашивают (с легким беспокойством), можно ли продолжать наслаждаться пьесой, фильмом или комиксом, быть невинным зрителем, когда ты знаешь искусство драматического повествования изнутри. Ответ – да. Без сомнения. Когда я обнаружил фильм «Эта замечательная жизнь» (версия Бениньи-Черами), то смеялся, плакал и, только насладившись им в полной мере, понял, что он дорогого стоит. Когда я в пятнадцатый раз смотрю финал фильма «Огни большого города», он по-прежнему меня трогает.
Сколько бы я ни говорил себе, что это лишь разрешение драматической иронии, я плачу. То же самое происходит, когда я перечитываю «Лучезарное небо». Тем более, конечно, это происходит, если я читаю что-то впервые. Восприятию драматического произведения мешает не знание правил, а обязанность комментировать его, потому что драматическое произведение должно восприниматься сердцем, на интуитивном уровне, а не только мозгом. Но ни автора, ни читателя этой книги данная проблема не касается. С другой стороны, вполне вероятно, что знание механизмов повествования сделает нас более требовательными, нас все сложнее будет удовлетворить. Когда произведение работает, вы принимаете его, как и все остальные. Если оно не работает, у вас есть время проанализировать причины этого и легче увидеть недостатки.
Независимые фильмы и непрофессиональные видео в сравнении с фильмами профессиональных студий
В сентябре 2011 года мне выпала честь возглавить жюри Cœur de vidéo [ «Сердце видео»], ежегодного кинофестиваля, организованного Французской федерацией кинематографии и видео. На нем было показано около ста независимых фильмов и видео, отобранных на уровне федеральных округов: художественные и документальные фильмы, музыкальные клипы. Мне выпала очень поучительная миссия – наблюдать за различиями между «самодельным» и профессиональным кинематографом, но также – и в первую очередь – обнаружить, что у них общего, потому что мне показалось, что у них имеется ряд схожих недостатков и достоинств. Например, с технической точки зрения зависть самодеятельного кино к профессиональному уже сошла на нет. Это, несомненно, связано с усовершенствованием и доступностью оборудования. Добавлю и другое, возможно, менее очевидное объяснение: техника – это самая простая вещь в мире, ее легче всего освоить. Она гораздо проще, чем, например, структура повествования или связность высказывания. В результате создатели фильма оттачивают кадрирование, освещение, звук, монтаж, микширование, цветокоррекцию – все, что видно глазу и слышно уху, и таким образом… упускают из виду главное.
Однако было два заметных различия между двумя названными видами кино. Во-первых, непрофессиональные короткометражные фильмы показались мне в целом менее претенциозными, чем работы их коллег-профессионалов. Мне показалось, что они скромнее и искреннее. С другой стороны, непрофессионалы гораздо менее строго относятся к монтажу. Подавляющее большинство этих фильмов, будь то художественные или документальные, только выиграли бы, если бы их значительно сократили.
Короче говоря, друзья непрофессиональные кинематографисты, у вас не должно возникать никаких комплексов от сравнения с профессиональным кино. Продолжайте быть искренними. Не зацикливайтесь на технической стороне, лучше сосредоточьтесь на смысле и человеческом факторе (см., например, стр. 628). И наймите режиссера монтажа.
Месье Юло[8] пишет сценарий телесериала
В первых двух изданиях книги «Драматургия» (1994 и 1997 годов) имелось приложение, посвященное написанию сценариев для телевидения. Я давал в нем не слишком много технических советов, потому что механизмы повествования телесериала в основном те же, что и в театре или кино. С другой стороны, я очень хвалил сериалы и предложил авторам «действовать как творцы», а тем, кто принимает решения, позволить авторам это делать. Короче говоря, я зря старался.
Так случилось, что ровно в то же время, в 1996 году, на телевидении появились два хита под названием «Друзья» и «Скорая помощь». Вскоре за ними последовал третий: «Элли Макбил». Они стали первыми серьезными пощечинами всем, кто имел отношение к французским телефильмам, включая телекомпании. С тех пор каждый год стало выходить по полдюжины сногсшибательных сериалов: «Во все тяжкие», «Отчаянные домохозяйки», «Декстер», «Доктор Хаус», CSI, «Худшая неделя моей жизни», «Симпсоны», «Клан Сопрано», «Прослушка», «24 часа», и список можно продолжать. Мы должны были посмотреть правде в глаза: французский художественный кинематограф выглядел старомодным, уютным и устаревшим. Чувство стыда пронизало весь французский аудиовизуальный ландшафт и знаменитую PAF [французскую телевизионную продюсерскую компанию].
Если бы американские сериалы ограничились тем, чтобы показать нам, насколько посредственно в художественном отношении французское кино, мы, вероятно, все еще не сдвинулись бы с места. Художественность волнует нас не слишком, это забота философов. Но когда удар приходится по кошельку, сознание просыпается как по волшебству. Однако, прочно заняв первую половину вечернего эфира, американские сериалы попали в точку и выиграли рейтинговую битву.
В фильме «Праздничный день» почтальон, этакий селянин господин Юло в исполнении Жака Тати, впечатлившись методами доставки корреспонденции в Соединенных Штатах, решает начать разносить письма во французской деревне американским способом. За этим следует череда забавных катастроф. Как и почтальон из фильма «Праздничный день», PAF решила, что настало время подражать американцам. Лица, принимающие решения, наконец-то начали понимать то, над чем многие из нас, французских сценаристов, бились последние двадцать лет. Во-первых, нужно вкладывать гораздо больше ресурсов в самую важную часть телевизионного повествования – в сценарий. Во-вторых, пора покончить со снобизмом в отношении единичных и 90-минутных фильмов; сериалы – идеальный формат для телевидения (сериалы с продолжительностью серий 26 или 52 минуты). Великий кинорежиссер Альфред Хичкок одним из первых понял это, когда в 1950-х годах снимал телесериалы. После него тому же принципу следовали столь разные режиссеры, как Дэвид Линч и Стивен Спилберг.
Затем появилось несколько типов подражания. Прежде всего, понятное и простое копирование, адаптация существующих сериалов и откровенное создание ремейков. Не миновали нас и беззастенчивые попытки вдохновиться и создать французскую «Анатомию страсти», французскую «Элли Макбил» и французского «Декстера». Результат предсказуем: получились псевдо-«Анатомия страсти», псевдо-«Элли Макбил» и псевдо-«Декстер».
Мы организовали писательские мастерские, чтобы сценаристы могли работать вместе. Национальный центр кинематографии и анимации (CNC) запустил инновационный фонд, изначально предназначавшийся для финансирования написания отдельных проектов, отобранных по принципу их оригинальности, а не в зависимости от способности авторов развивать их. Мы решили снять сериал с 30-летними героями, чтобы привлечь внимание тех, кто моложе 35 лет и не смотрит телевизор. Это лишний раз подтвердило, что мы ничего не понимали в принципах идентификации в контексте определения потенциальной аудитории. Должны ли вы быть безработным, чтобы в полной мере наслаждаться «Мужским стриптизом», или мертвым, чтобы получить удовольствие от фильма «Мертвые, как я: Жизнь после смерти»? Наконец, мы решили быть смелыми и даже дерзкими. В то время как настоящим прорывом, отвагой века было бы просто блестяще рассказать историю, независимо от ее темы, мы предложили женщину – президента Французской Республики, карлика и транссексуала в эпизоде ситкома, детективный сериал с матерной руганью и крупными планами окровавленных трупов, а также множество сексуальных сцен, чтобы придать всему этому пикантности.
Сейчас мы вступили в фазу сбора урожая, хотя, возможно, еще рано подводить итоги, но мне кажется, что те, кто принимает решения в PAF, не осуществили и трети реформ. Некоторые (более или менее) начали ставить в центр системы сценарий, но забыли о главном: в центр системы также должен быть поставлен и сценарист. И желательно хороший.
Марк Черри, Дэвид Чейз, Мэтт Грейнинг, Дэвид Саймон, Марк Басселл и Джастин Сбресни, Марта Кауффман и Дэвид Крейн не только пишут сценарии созданных ими сериалов, но и продюсируют их как шоураннеры. Они участвуют в кастинге, имеют доступ в монтажную, а зачастую даже режиссируют один-два эпизода. Короче говоря, они принимают решения в ходе работы над сериалом, в том числе наиболее ответственные решения. Это не вопрос эго, а вопрос логики. Дэвид Чейз, сценарист «Клана Сопрано», – идеальный пример такой системы. Чейз написал и срежиссировал пилотную серию и несколько эпизодов, отвечал за кастинг актеров, а также режиссеров. Он руководил монтажом всего сериала. Короче говоря, Дэвиду Чейзу позволили быть творцом. В итоге получился и коммерческий продукт, и произведение искусства, как развлекательное, так и личное, одно из самых сильных произведений в драматическом кино. Мне могут возразить, что «Клан Сопрано» транслируется на платном канале (HBO), который меньше зависит от рейтингов, чем крупные общенациональные каналы. Но тогда давайте рассмотрим пример сериала «Скорая помощь», транслируемого на общенациональном канале (NBC). Причина успеха та же, просто замените имя Дэвида Чейза на имя Майкла Крайтона. Или возьмем пример «Отчаянных домохозяек», выходящих на канале ABC, и заменим Дэвида Чейза на Марка Черри. Или «Симпсонов», созданных Мэттом Грейнингом и выходящих на канале Fox.
Короче говоря, качественные американские сериалы не только расширяют возможности сценариста, но и формируют талантливых творцов. Это тоже один из главных секретов успешных сериалов. Если мы позволим месье Юло доставлять почту «на американский манер», у нас всегда будет почтальон Юло, а не почта США.
Давайте договоримся: я вовсе не хочу сказать, что для написания французских сериалов следует приглашать американских сценаристов. Более того, я считаю, что это было бы ошибкой. В Европе есть талантливые сценаристы.
Встала ли PAF на правильный путь? Пока говорить об этом рано. Даже если вялотекущие французские сериалы, кажется, уже остались в прошлом, американские все еще далеко впереди. За последние годы мне лично понравились первый сезон «Налета», «Бюро легенд», «Давид Ноланд», Kaamelott и 1–4-й сезоны «Французского городка». Я перечислил скорее исключения, чем правила. Но честность заставляет меня признать, что я видел далеко не все.
Снимаю шляпу перед сценаристами!
В 2015 году я создал веб-сериал под названием «Снимаю шляпу перед сценаристами!». Он выходит на английском языке с французскими субтитрами и доступен на YouTube (http://bit.ly/HOTTS). Каждая серия иллюстрирует какой-либо примечательный элемент повествования. Таким образом, сериал служит визуальным дополнением к этой книге и к «Построению повествования» [111]. Это также дань уважения всем великим рассказчикам, художникам, которые придумывают истории, персонажей, вымышленные миры, структуры.
Ив Лавандье, январь 2019
Введение
Я не убью ее, пока не услышу продолжение ее рассказа!
Царь Шахрияр, «Тысяча и одна ночь»
Пьеса – вот на что я поймаю совесть короля.
Гамлет, «Гамлет»
Правда в том, что изобретение драмы – это первая попытка человека стать интеллектуально сознательным.
Джордж Бернард Шоу [173]
Вы должны снимать фильм так, как создавал свои пьесы Шекспир, – для зрителей.
Альфред Хичкок [82]
…развлекать в самом широком и лучшем смысле этого слова, то есть захватывать людей, удерживать их и в то же время заставлять их думать.
Ингмар Бергман [14]
Я ищу то, что в человеческой природе постоянно и фундаментально.
Клод Леви-Стросс [115]
Слово «драматургия» происходит от греческого drama, что означает действие. Таким образом, драматургия – это, если воспользоваться определением Аристотеля [6], имитация и представление человеческого действия. Такая имитация может быть предложена в театре, опере, кино, на телевидении, в новых форматах (интернет, видеоигры и т. д.), где действие можно увидеть и услышать, на радио, где его можно только услышать, и, в меньшей степени, в комиксах, где действие можно не только увидеть, но и прочитать.
Таким образом, драматургия – это такое же искусство, как и литература, с которой ее, конечно, не стоит путать. Литературное произведение пишется для того, чтобы его читали, а драматургическое – для того, чтобы его увидели и/или услышали.
N. B. Сложные взаимоотношения между литературой и драматургией подробно обсуждаются в главе 15.
Таким образом, эта книга посвящена историям, предназначенным для исполнения, а не для того, чтобы их воображать. Иногда приходится слышать, что театр – это искусство устного слова, а кино – искусство изображения. Считать так – значит видеть лишь верхушку драматургического айсберга. Прежде всего, существует театр без слов. Уместно упомянуть работы Роберта Уилсона, Жерома Дешама или Джеймса Тьерре. Во-вторых, театр – это такое же искусство изображения, как и кино. Слово «театр» происходит от греческого theastai, что означает видеть, смотреть. И наконец, кино даже в большей степени, чем искусство изображения, – это искусство монтажа (см. главу 1 книги Évaluer un scénario / «Оценка сценария» [112]). Но в данном случае нас интересует то, что и театр, и кино очень часто являются повествовательными искусствами.
Прежде чем подробно анализировать, из чего состоят человеческие действия, каковы механизмы и смысл их репрезентации, я считаю необходимым в нескольких словах сказать, насколько полезна драматургия и почему ей можно научиться. В этом и заключается цель данного Введения.
Расскажи мне историю
Во время Второй мировой войны в концентрационном лагере Штутгоф женщина по имени Флора создала хлебный театр. Из части своего скудного рациона она лепила маленькие фигурки и по вечерам, прячась в туалете, вместе с несколькими заключенными оживляла своих хлебных актеров перед голодными зрителями, которых вот-вот должны были уничтожить. Эту историю пережившая холокост Ирена Ласки рассказала Джошуа Соболю, когда тот изучал театр Вильнюсского гетто для своей пьесы «Гетто». Существует множество похожих историй. Я вспоминаю о Жермене Тийон, написавшей оперетту в Равенсбрюке, о кинорежиссере Алексее Каплере, заключенном в воркутинском лагере, где он руководил театральной труппой, или о судьбе журнала «Ведем», выходившего в концлагере Терезиенштадт. Как видно, даже в самых ужасных обстоятельствах людям требовались истории.
Это не излишняя потребность. Можно жить, не занимаясь спортом, не путешествуя по стране, не заводя детей… Но без историй жить нельзя. История, рассказанная самому себе или другим, взятая из реальности или выдуманная, литературная или драматическая по форме, реалистическая или символическая (ср. библейские притчи или сказки), так же необходима нашей психике, как кислород организму. В книге «О пользе волшебства. Смысл и значение волшебных сказок» [20] Бруно Беттельхейм показывает, насколько полезна сказка для ребенка. Не только потому, что ее сюжет отвлекает малыша и питает воображение, но и, прежде всего, потому, что сказки помогают разрешать конфликты, дарят надежду на будущее и позволяют повзрослеть. Короче говоря, повествование помогает детям жить.
Увлекательная форма повествований
Став взрослыми, мы по-прежнему нуждаемся в историях. Прежде всего, конечно, они служат для того, чтобы отвлечься, то есть перенестись в другое место, забыть о повседневности. Но они делают гораздо больше. В конце концов, фейерверк, бокал спиртного, футбольный матч, игровое шоу, экскурсия по Лос-Анджелесу или посещение Эйфелевой башни тоже способны нас развлечь. Но чего они не могут сделать, так это заставить нас проникнуть в мысли и, прежде всего, в эмоции другого человека. Это отнюдь не тривиально. Человек хорошо знает собственные мысли, желания и паразитирующие эмоции[9], но не так хорошо знает свой образ.
Для окружающих нас людей все наоборот. Мы знаем об их образе и эмоциях больше, чем об их мыслях или желаниях. Драматургия обладает способностью соединять образ в одно целое, мысль, желание и эмоцию, позволяя зрителю частично слиться с другим. Примечательно, что этот другой – одновременно и персонаж (мы скоро назовем его протагонистом), и автор, который прячется за главным героем, как Флобер прятался за Эммой Бовари («Мадам Бовари»). В драматургии таких примеров предостаточно: Софокл прячется за старым Эдипом («Эдип в Колоне»), Мольер – за Арнольфом («Школа жен»), Хичкок – за Мэнни Балестреро (Генри Фонда в фильме «Не тот человек»), Эрже – за Тинтином, Дюпоном и капитаном Хэддоком, вместе взятыми (комикс «Приключения Тинтина»), и так далее. Между Шарло и Чаплином эта связь еще более очевидна. Драматургия, таким образом, создает двойную связь: между автором и зрителем, что присуще всем искусствам, и между персонажем и зрителем, что называется идентифицированием.
Фрейд [68], Ницше [135] и другие утверждают, что феномен идентификации – одно из основных удовольствий драмы. Вероятно, он имеет биологическое объяснение (зеркальные нейроны, см. ниже), а также представляет терапевтический интерес. Говорят, что в Индии некоторые врачи рассказывают своим пациентам историю, соответствующую их симптомам, вместо того чтобы прописывать лекарства.
Драматургия также имеет поразительное сходство с миром сновидений. Во сне человек одновременно является и действующим лицом, и зрителем собственных снов, даже если в них не всегда рассказывается история. Именно в таком положении находится зритель, когда отождествляет себя с главным героем драматического произведения. А сны, как известно, это еще и жизненно важная подпитка для нашей психики.
Идентификация через образы или через сюжет повествования?
Зеркальные нейроны были открыты итальянскими неврологами в середине 1990-х годов. Это нейроны, которые активируются, когда мы совершаем какое-либо действие сами или наблюдаем за действиями другого человека. Легко представить, в каких условиях зеркальные нейроны используются в образном искусстве: кино, театре, телевидении и комиксах. Мы видим, как люди, похожие на нас, выполняют некие действия. Это позволяет нам почувствовать себя на их месте.
Но есть и другие зеркальные эффекты, в которых изображение непосредственно не участвует. Они создаются с помощью рассказа. Этот прием используется в психотерапии и образовании. Терапевт или учитель излагает историю, в начале которой провоцирует собеседника отождествить себя с ее героем (часто ссылаясь на схожую проблему), а затем доводит повествование до счастливого конца. Пациент или ребенок не видит образов, но представляет их себе, и его зеркальные нейроны активизируются. То же самое происходит, когда вы читаете роман или слушаете рассказ: зрительных образов перед вами нет, но все же идентификация, эмпатия и эмоции вполне могут возникнуть. Является ли идентификация, вызванная рассказом, более сильной, чем та, которую вызывают образы? Мне об этом ничего не известно. Серж Тиссерон в книге «Как Хичкок исцелил меня» [184] показал, что иногда образы обладают неожиданной силой. Но я считаю, что образов без повествования недостаточно. В кино, как и в театре или комиксах, образы, какими бы изобретательными или впечатляющими они ни были, нуждаются в сюжете, чтобы поддержать их и активировать зеркальные нейроны зрителя.
Истоки драмы
Драматургия лежит в основе каждого человека. Историки театра[10] привыкли относить драму к религиозному ритуалу.
Имитация человеческих (или божественных) действий сначала происходила в священном пространстве, а первыми актерами были жрецы, в том числе в так называемых первобытных цивилизациях. Первые сюжеты соответствовали основным видам деятельности человека (рождение, смерть, охота и т. д.) и природным явлениям (буря, солнце, рост растений и т. д.). Постепенно ритуальные представления становились все богаче, а затем, что особенно важно, перешли от сакрального к светскому, хотя, как мы увидим, сохранили нечто от своего религиозного характера. На Западе это произошло дважды: в VI веке до н. э. в Греции и в конце Средневековья в Европе.
Но я вижу другое, возможно, более глубокое происхождение драмы, иное по своей природе. Когда ребенок учится ходить или говорить, им движет инстинктивная сила: подражание. Другими словами, малыш изображает действия своих родителей, братьев и сестер. Зеркальные нейроны маленьких детей, кажется, постоянно включены, настолько, что они проводят все свое время (к лучшему или к худшему), подражая окружающим. Чуть позже дети не просто подражают старшим – они создают для себя более или менее придуманные миры и играют в них определенные роли. Игра воображения и своеобразное раздвоение становится частью их повседневной жизни. В самом деле, помещая нас в ту символическую зону, которая находится между реальностью и фантазией, драма становится сродни детской игре в выдуманное «как будто». Можно даже утверждать, что это эквивалент игры для взрослых. Короче говоря, первым актером-зрителем-драматургом оказался не пигмейский колдун или греческий жрец, а ребенок, каким были мы все. Отчасти именно по этой причине в данной книге часто будет идти речь о детях. Обратите внимание, что ребенок сначала выступает зрителем, затем автором (точнее, переводчиком на доступный ему язык) и, наконец, актером.
Язык
Не все драматурги осознают, что их профессия полезна и удовлетворяет фундаментальные потребности. С другой стороны, все они без исключения пишут для других – тех, кого мы называем публикой. Драматическое произведение существует только в восприятии зрителей и для них. Это игра для двоих: автора и зрителя, а актер/персонаж выступает в качестве посредника.
На самом деле, хотя может показаться, что актеры обращаются друг к другу, все, что они говорят, адресовано одному-единственному слушателю – аудитории. Иногда такое обращение едва замаскировано. В фильме «Шарло и Мейбл на прогулке» трость Шарло (Чарльз Чаплин) случайно приподнимает юбку Мейбл (Мейбл Норман).
Он торопится пройти мимо девушки, гремя своей тростью. Но как только Мейбл поворачивается к нему спиной, он благодарит свою трость сдержанным поцелуем. На кого еще, кроме зрителя, рассчитан этот жест, который никто в здравом уме не сделал бы в реальной жизни?
Если драматургия позволяет нам одновременно и выражать себя, и общаться с другими, то она выполняет функции языка. Пол Вацлавик утверждает, что психотерапевт, который не говорит на языке пациента, обречен на неудачу. На мой взгляд, то же самое относится и к художникам. Авторы, которые недостаточно заботятся о том, чтобы овладеть языком своего искусства, то есть тем, что помогает публике воспринимать драму, слишком часто оказываются непонятыми. Возможно, они считают, что зрители должны интересоваться их творчеством, в то время как именно создателям следует позаботиться о том, чтобы вызвать любопытство публики. Вероятно, творцы опасаются потерять свою душу, свою гениальность, свою спонтанность. Очень жаль! Тем более что ни одна деятельность человека (или животного) не остается неоплаченной или бесполезной. Все служит удовлетворению потребностей – в частности, чтобы избежать смерти, безумия или боли, – даже если это может иметь негативные последствия для себя или для других в долгосрочной перспективе. Иными словами, не драматургия существует потому, что есть драматурги, а драматурги существуют потому, что у человека есть потребность в драме. Нравится это авторам или нет, но драматурги существуют для того, чтобы удовлетворять эту потребность. Однако ориентироваться на аудиторию и учитывать все вкусы публики – это две разные вещи. Позвольте мне объяснить. В каждом зрителе, как и в каждом человеке, есть хорошие и плохие инстинкты, другими словами, бессознательные силы, которые возвышают их носителя или принижают его. И это в равной степени относится как к завсегдатаям галерки (популярной, добродушной публике с самых верхних ярусов театров), так и к культурной элите. К числу дурных инстинктов я бы отнес падкость на сенсации, страх перед новым и неизвестным у одних, что выливается в консерватизм в искусстве, или, напротив, устойчивый аппетит к любым отклонениям у других, что приводит к одержимости авангардом. Таковы две иллюзии свободы. На самом деле, считаться с публикой вовсе не означает потворствовать ее дурным инстинктам или перестать быть самим собой в угоду аудитории. Речь просто идет об удовлетворении трех потребностей – в эмоциях, смысле и развлечении (к ним мы вернемся позже) – путем обращения к зрителям, из которых, собственно, и состоит человечество.
Остаться в истории
Эта книга адресована прежде всего тем, кто хочет рассказать историю в драматической форме и стремится протянуть руку аудитории, доставить ей удовольствие, не заискивая, и верно донести свои мысли до других. Для этого автор раскрывает механизмы драматургии, чтобы дать ее обоснование и предоставить набор теоретических и практических инструментов. Владение этими инструментами должно позволить:
1. Развить разносторонность, чувствительность и культурную специфику каждого драматурга.
2. Четко и эффективно передавать мысли драматурга.
3. Не дать заскучать.
4. Не затягивать повествование без надобности.
Какой автор не хочет или не нуждается в достижении этих целей?
В случае с кино можно добавить, что названные инструменты позволили бы европейцам покинуть пустынные поля сражений, где легко победить (за неимением соперника), и противостоять американцам на поле, которое вскоре останется единственным в аудиовизуальном секторе: на территории повествования.
Внимательный читатель, вероятно, заметил, что в приведенный выше список я не включил цель «стать успешным». Иногда намекают на связь между качеством написания произведения и его успехом у аудитории. Я не думаю, что такая связь существует, как и в случае с ее противоположностью, отстаиваемой некоторыми интеллектуалами, для которых успех – это обязательно провал в глазах публики.
Я вслед за Говардом Блумом [22] считаю, что успех идеи, религии или произведения искусства определяется не их достоверностью или качеством, а способностью служить в определенный период средством социальной консолидации. Если некоторые фильмы не получили заслуженной аудитории, то не потому, что их сценарии были плохо написаны, сыграны или поставлены, а потому, что они не вызвали коллективного отклика в момент выхода на экраны.
Таким образом, качество повествования в драматическом произведении не является гарантией немедленного успеха. С другой стороны, я твердо убежден, что первоклассный сценарий гарантирует, что фильм останется в истории. Кинолента, пьеса или музыкальный альбом могут добиться успеха у публики в момент выхода, но если они плохо написаны, то, думаю, через пятьдесят лет о них забудут, а когда нам доведется к ним вернуться, мы будем задаваться вопросом, что же так привлекало в них наших предшественников. Короче говоря, если автор хочет наилучшим образом выразить свои мысли, заинтересовать непосредственных адресатов (пусть и немногочисленных) и добиться того, чтобы его произведения остались жить во времени, мне кажется, моя книга может ему пригодиться. Если же он намеревается собрать бокс-офис или завоевать расположение тех, кто принимает решения, ему остается лишь молиться.
Наличие правил
Произведение искусства не существует без системы. Если драматургия – это своего рода язык, то он подчиняется грамматике, а значит, правилам. И, как и все правила, их можно выучить. Тут нет ничего удивительного. Помимо основных биологических функций, таких как пищеварение и дыхание, всем остальным видам человеческой деятельности можно научиться: чтению, езде на велосипеде, вождению, кулинарии, музыке, столярному делу, архитектуре и т. д., вплоть до литературы, правила которой – не только письмо, грамматику, но также и композицию – мы изучали в школе. Даже заниматься любовью можно научиться.
Мысль о том, что в драматургии существуют свои правила, долгое время шокировала или беспокоила некоторых профессионалов, особенно во Франции. Возможно, мы забываем или порой просто не осознаем, что правила существуют. Не исключено, что кто-то думает, что правило равнозначно рецепту или предписанию. На самом деле все гораздо сложнее. Слово «правило» включает в себя бесконечное количество трактовок и самые разные степени ограничений. В работе Aspects de la théorie syntaxique [36] / «Аспекты синтаксической теории» лингвист Ноам Хомский проводит различие между правилами владения языком, которые лежат в основе грамматики, и правилами использования языка, лежащими в основе стиля. Механизмы драматургического языка схожи с правилами мастерства, и каждый человек, как исполнитель, оставляет на них отпечаток своего собственного стиля.
Вполне возможно, что истоки сдержанного отношения [моих соотечественников] к правилам восходят к французской классике. «Главное правило – нравиться и трогать; все прочие выработаны лишь затем, чтобы выполнять его», – утверждает Расин [148] в предисловии к «Беренике».
А Мольер устами Доранта заявляет в «Критике „Школы жен“»: «Да разве главнейшее из всех правил не заключается в том, чтобы произведение нравилось, и разве театральная пьеса, достигшая этой цели, находится не на верном пути?» Все верно. Но Мольер тем не менее не сводил все правила к тому, чтобы угодить. Как и Расин, который говорил, что главное правило – нравиться, но добавлял: «…все прочие выработаны лишь затем, чтобы выполнять его», а это явно означает, что существуют и другие правила. Виктор Гюго зашел еще дальше в данном противопоставлении. В знаменитом предисловии к «Кромвелю» [91] он заявил: «Нет ни правил, ни образцов; [или, вернее, нет иных правил, кроме общих законов природы, господствующих над всем искусством, и частных законов для каждого произведения, вытекающих из требований, присущих каждому сюжету]», но в то же время установил несколько правил, таких как единство действия, смешение жанров и сохранение александрийского стиха[11].
Из страха или гордости художники часто притворяются, что обладают врожденным талантом, их гениальность записана в молекуле ДНК или что на них снизошла благодать. Это делает их менее доступными, более уникальными, почти божественными. Реальность не столь лестна. Даже гениям известны правила. Более того, они знают их лучше всех, пусть и подсознательно. Мольер не исключение. Он сам говорит об этом в «Критике „Школы жен“». Спустя несколько минут после произнесения своей знаменитой фразы Дорант косвенно признает существование правил и говорит о «Школе жен»: «Я… легко докажу, что, может быть, это самая правильная пьеса из всех, какие у нас есть».
Конечно, поскольку драматургия остается искусством и никогда не станет точной наукой, а любые правила разнообразны и сложны, их ни в коем случае нельзя уподоблять простым рецептам. Более того, знание правил ничего не меняет в таланте, хотя и помогает его развивать. Успокаивает лишь мысль о том, что нельзя свести талант к правилам или спутать одно с другим. Тем не менее знание, а еще лучше владение правилами написания пьесы – действенный инструмент для любого, кто хочет стать драматургом или сценаристом.
Что это за правила?
Раз уж правила существуют, то как их найти? Принцип прост: если проанализировать драматический репертуар от Софокла до Беккета, от Чаплина до Хичкока, не пропуская Брехта, Мольера или Шекспира, то мы обнаружим, что все произведения, считающиеся значимыми, управляются одними и теми же механизмами.
В этом нет ничего удивительного. Драматургия воспроизводит жизнь людей, но их жизнь в основе своей остается неизменной на протяжении тысячелетий, начиная с первобытных обрядов. Действительно, с тех пор человек:
• рождается способным к самосознанию;
• рождается беспомощным и зависимым;
• переживает череду впечатляющих конфликтов и негативных чувств, два основных из которых – беспокойство и фрустрация, как раз и связанные с осознанием нашего бессилия. Мы увидим, что истории, рассказанные с театральной сцены или показанные на киноэкране, служат для изучения, преодоления и овладения этими двумя фундаментальными эмоциями;
• переживает череду конфликтов, регулируемых причинно-следственными связями, наиболее важной из которых является последовательность «рождение – жизнь – смерть»;
• осваивает драматургию на тех же базовых условиях.
Механизмы драмы основаны на этих константах, которые, за некоторыми исключениями (например, генетическими случайностями), относятся к нескольким сотням миллиардов человеческих существ, населявших Землю с момента ее возникновения. В этой связи интересно отметить, что аристотелевская (а значит, западная) драматургия прекрасно воспроизводится в таких регионах, как Африка, которые, как представляется, обладают рядом нарративных особенностей. Например, короткометражный фильм Goï-goï напоминает тональностью сериал Альфреда Хичкока. Один африканский режиссер экранизирует гоголевского «Ревизора» (Lambaaye), другой – «Визит дамы» (Hyènes) Дюрренматта, а третий подумывает об адаптации Шекспира – говорят, что некоторые нынешние африканские президенты идеально подошли бы на роль Макбета! Короче говоря, хотя культурные проблемы в некоторых частях Африки иногда весьма специфичны (полигамия, противостояние традиций и современности и т. д.), способы их решения те же, что и на Западе. Таким образом, поскольку конфликт и зрелищность универсальны, африканцы чаще всего смотрят те фильмы, которые в наибольшей степени используют эти два элемента, а именно американские и индийские киноленты.
Разумеется, в конечном итоге каждый человек уникален, потому что наряду с общими элементами в нем присутствуют и специфические, связанные с его культурой и воспитанием. Те же причины делают уникальным каждое произведение. Поэтому то, как создается и воспринимается драматическое произведение, зависит, как и все остальное, от этих двух факторов – различий и сходств. Но правила драматургии, сформулированные в данной книге, основаны только на одном из них: на общем знаменателе для всех людей. Соответственно, творчество драматурга, пренебрегающего этими правилами, смогут оценить только созвучные ему зрители, обладающие той же спецификой, чувствительностью и способом видения.
Инструменталистский подход
Аналитический подход, описанный выше, не нов. Чтобы написать «Поэтику» [6], Аристотель изучил греческие пьесы, сочиненные в V веке до нашей эры, и составил свод правил. «Мы будем говорить, как следует слагать фабулы для того, чтобы поэтическое произведение было хорошим», – обещает он во введении к своему знаменитому труду. После него этой темой занимались Гораций [87], Буало [23], Гегель [80] и многие другие.
«Можно собрать в кучу все лучшее, созданное художниками во все века, и, пользуясь научным методом, уловить то общее, что делает их похожими друг на друга и что обусловливает их ценность. Это общее и будет законом», – писал Антон Чехов [183] в 1888 году. В индийском и японском театрах также были свои теоретики. В «Натья-Шастр» [21], индуистском трактате, приписываемом мудрецу (муни) по имени Бхарата, регламентируется написание и постановка пьес. Дзэами [212] [Мотокиё], японский автор XIV века, известен своими трактатами о театре но. Сегодня у нас есть значительное преимущество перед большинством этих авторов: даже если основные сюжеты остаются в принципе теми же и могут варьироваться от одного континента к другому, репертуар значительно обогатился, в частности благодаря кинематографу. Поэтому логично, что константы в двадцатипятивековом репертуаре более надежны, чем в том, который был доступен Аристотелю.
Стоит отметить, что философы не единственные, кто писал про природу драматургии. Подавляющее большинство драматургов[12] тоже размышляли и писали о своем искусстве. Дзэами был известен не только как актер и драматург театра, но также и как теоретик.
Можно ли быть творцом, не анализируя как работы своих предшественников, так и свои собственные? Анализ существует во всех видах искусства. Как говорит Анна М. в фильме «Душа Вечного города»: «Все всегда начинают с того, что крадут чужое ремесло». Как мы увидим ниже, это «воровство» происходит на двух уровнях – сознательном и бессознательном.
Синтетическая модель
Если воспользоваться подходом Аристотеля к поиску постоянных механизмов в наиболее значимых произведениях, то в итоге мы получим прототип, своего рода каноническую форму, которую я назову «синтетической моделью». Другими словами, мы выводим из практики теорию, которая, предположительно, должна привести к новой практике.
Первая часть процесса немного напоминает анекдотический эксперимент, проведенный фотографом Кшиштофом Прушковским, который совместил лица де Голля, Помпиду, Жискара д'Эстена и Миттерана, чтобы получить своего рода собирательный портрет президента Французской Республики. Получившийся синтезированный портрет не был похож ни на одного из четырех президентов, но тем не менее было достаточно близко.
Таким образом, синтетическая модель – это своего рода идеальное произведение, которое не может полностью совпадать с каким-либо конкретным драматическим примером, даже если такие произведения, как «Сирано де Бержерак», «Школа жен», «Огни большого города» или «На север через северо-запад» очень близки к идеалу. Слово «синтетический» означает не только полученный путем синтеза, но и искусственный. Парадоксально, но большинство великих произведений представляют собой исключения из созданной на их основе модели. Значит ли это, что надо поставить под сомнение саму ценность синтетической модели? Не рискует ли драматург, пытающийся до мелочей следовать образцу, создать холодное, механистическое произведение, из тех, что иногда называют слишком совершенными? Нет. Во-первых, потому что синтетическая модель – это всего лишь основа, каркас, а каждый автор должен вложить в произведение свое. Во-вторых, любой модели невозможно следовать буквально. Опять же это не просто рецепт. В итоге автор неизбежно напишет нечто нарушающее модель. Это нормально. Лучше аккуратно нарушать классический язык, чем доводить его до совершенства.
За пределами инструментализма
Как быстро поймет читатель, мой подход выходит за рамки банального обобщения, приукрашенного примерами, поскольку я считаю, что нельзя просто сказать: «Я вижу, что это используется, и потому выведу отсюда правило». Я предпочитаю говорить: если вижу, что это используется, то спрашиваю себя, почему. И если я нахожу причину этого присутствия разумной и логичной, то я вывожу отсюда правило. Я даже думаю, что чем более значимо обоснование, тем больше вероятность того, что описанный механизм действительно окажется справедливым и полезным. Отчасти именно потому, что я убежден в необходимости подвергать сомнению обоснованность правил, эта книга получилась такой толстой.
Меня критиковали за ее объем. Я бы предложил всем, кто не хочет читать много, но все-таки ищет способ рассказать историю, довольствоваться главой Construire un récit [111] / «Построение сюжета». Но я считаю, что они кое-что потеряют, поскольку промежуточный этап, который заключается в понимании наличия констант, необходим.
Не только для теоретиков, но и для практиков. Автор не может просто доверять теоретикам, кем бы они ни были. Его мотивы должны исходить изнутри. Он должен понять причину существования правил и принять их (или нет).
Связующий ключевой момент
Для некоторых привлекательность драматического произведения, его величие, сила, гениальность состоят исключительно в различиях, а не в общих чертах. Я прекрасно понимаю страх перед стандартизацией и считаю его вполне обоснованным. Различия необходимо культивировать. С другой стороны, я считаю, что для человеческого равновесия необходимо, чтобы эти различия имели общую основу. Величие произведения заключается как в том, что делает его непохожим на другие, так и в том, что сближает его с аналогами. Даже необходимо, чтобы произведение имело что-то общее с себе подобными. Ведь, как говорил Чехов [183], «у произведений, которые зовутся бессмертными, общего очень много; если из каждого из них выкинуть это общее, то произведение утеряет свою цену и прелесть».
Подобно тому, как человек стремится одновременно быть уникальным и универсальным, как он нуждается в постоянстве не меньше, чем в переменах, как в его интересах питать и сторону инь, и ян, использовать как левое полушарие, так и правое (см. ниже), я считаю фундаментально необходимым развивать как общие черты, так и различия и между двумя людьми, и между двумя произведениями. Интерес только к различиям ведет к элитарности или расслоению; интерес только к общим чертам приводит к обнищанию или тоталитаризму.
А как же спонтанность творения? Еще одно серьезное препятствие для ознакомления с правилами – идея о том, что они мешают творческой интуиции. С тех пор как существует мир, художники и философы из самых разных слоев общества, будь то Дидро, Ницше или Леонардо да Винчи, высказывали мысль о том, что знание правил не препятствует спонтанности творчества.
Научные эксперименты, проведенные в основном в Калифорнийском технологическом институте лауреатом Нобелевской премии по медицине Роджером Сперри, позволили нам лучше понять справедливость этой идеи. В двух словах, его исследования показали, насколько два полушария человеческого мозга различны в своих функциях.
Одно из них (левое – у 95 % людей, правое – у остальных) отвечает за анализ и логические рассуждения. Именно в этом полушарии развивается речь. Другое полушарие (правое у большинства людей) служит средоточием всеобъемлющей интуитивной и творческой деятельности. Между ними проходит мостик, состоящий из тысяч [нервных] волокон и называемый мозолистым телом. Для меня этот орган является анатомическим воплощением союза и. Он позволяет двум полушариям не только общаться, но и помогать, дополнять друг друга. Именно потому, что знание правил обеспечивается левым полушарием, а спонтанное художественное творчество связано с правым, одно не мешает другому. И именно благодаря наличию мозолистого тела правила, вместо того чтобы быть помехой, служат художнику незаменимым инструментом.
Более того, в истории искусства нет ни одного хорошего художника, который не знал бы правил. Знание правил может быть неосознанным, но тем не менее оно существует. Тот факт, что художнику не удается сформулировать правила, еще не доказывает, что он их не придерживается.
На самом деле существует два способа изучения правил. Самый очевидный – это школа (или книга). Изначально ставка здесь делается на осознанное усвоение правил. Второй способ – бессознательный. Он состоит в изучении трудов своих предшественников и, конечно же, в большой практике, позволяющей бессознательно извлекать уроки, а значит, и понимать правила.
Чаплин, Ибсен или Сартр никогда не изучали драматургию в школе. Тем не менее когда мы обращаемся к мастерству повествования в фильмах «Цирк», «За закрытыми дверями» или в пьесе «Привидения», становится ясно, что их авторы были знакомы с классическим репертуаром начиная с «Царя Эдипа» – и воспользовались им. Помимо этого они должны были обладать выдающимся талантом, какой достается немногим, поэтому история знает не так уж много Чаплинов, Ибсенов и Сартров.
В некоторых обществах (в том числе и в том, к которому принадлежал Декарт) принято развивать у детей левое полушарие, отдавать предпочтение аналитическому обучению и пренебрегать возможностями интуиции.
Для большинства людей это заканчивается крайней рационализацией, боязнью или презрением к интуиции и, если левое полушарие недостаточно стимулируется, к обеднению ума. Для тех, кто восстает против рационализированного образования, а это прежде всего большинство художников, результатом становится отказ от анализа и осознанного знания.
Драматург всегда может проигнорировать успехи Фрейда, Сперри и других, отдавая предпочтение бессознательному усвоению правил. Но при этом он делает гигантскую ставку на собственный талант. С другой стороны, автор может считать, что художник – прежде всего ремесленник, который заинтересован в том, чтобы задействовать оба полушария, и решает «пойти в школу», чтобы в каком-то смысле специализироваться, подобно тому, как музыканты поступают в консерваторию или художники в студию, чтобы подпитать свое левое полушарие знанием правил. Тем лучше для сценариста, если к тому же он обладает талантом Чаплина, Ибсена или Сартра. Сомнительно полагать, что эти авторы были бы менее гениальны, если бы осознанно учили правила. Моцарт, архетипический гениальный творец, не является исключением из этого принципа. В раннем возрасте ему посчастливилось сочетать исключительный талант с одним из лучших технических курсов обучения, который проводил его отец Леопольд, сам композитор и автор высоко оцененного метода игры на скрипке. Затем последовало педагогическое влияние Иоганна Христиана Баха, Иоганна Шуберта и Иоганна Михаэля Гайдна. Короче говоря, Моцарт не был неискушенным необразованным человеком, которого случайно поразила божественная искра.
Учимся пользоваться пультом дистанционного управления
Представьте себе человека, который только что купил проигрыватель дисков Blu-ray. К нему прилагается пульт дистанционного управления со множеством кнопок. Некоторые из них обозначены знакомыми покупателю символами (воспроизведение, пауза, быстрая перемотка вперед и т. д.). Другие кнопки гораздо менее понятны интуитивно и даже загадочны. Поэтому наш покупатель сперва обращается к инструкции и начинает шаг за шагом скрупулезно ей следовать. Поначалу это трудоемко. Его глаза постоянно блуждают от инструкции к гаджету, не торопясь, он нащупывает путь. Постепенно ему становится легче – настолько, что однажды, после долгих тренировок, он даже перестает смотреть на кнопки, не говоря уже об инструкции по эксплуатации.
То, что начиналось как осознанное действие, превратилось в бессознательный автоматизм.
У каждого из нас был аналогичный опыт. Если не с пультом дистанционного управления, то с музыкальным инструментом, приборной панелью автомобиля, кулинарным рецептом. Любое сознательное обучение человека происходит точно по такой же схеме. Мы постепенно переходим от прочного усвоения к интуитивной спонтанности. Конечно, научиться рассказывать историю дольше и сложнее, чем научиться пользоваться пультом ДУ. Во-первых, потому что «кнопок» больше и овладеть ими труднее. Во-вторых, потому что для этого требуются начальные навыки, которые есть не у всех и приобрести которые не помогут даже время и упорство. Но для тех, кто обладает необходимыми навыками от природы, переход от сознательного обучения к бессознательному мастерству работает чудесным образом.
Вот почему я считаю, что драматурги, осознанно изучившие правила, могут продолжать писать спонтанно. Но поскольку спонтанность не всегда приводит к хорошим результатам – она состоит из разнообразных автоматизированных навыков и иногда сбивает с толку своего обладателя, – знание правил позволяет направить эту спонтанность в нужное русло. Ведь работа автора – это постоянное движение вперед и назад между спонтанным творчеством и анализом его итогов.
Содержание книги
В этой книге подробно описывается то, что я только что назвал синтетической моделью. Речь идет не только о перечислении необходимых констант, но и о понимании их обоснования – важном условии, на котором я настаиваю, для установления правил. Мы увидим, что интерес к драматургии равнозначен интересу к жизни людей.
В главе 15 рассматриваются взаимоотношения между драмой и литературой, которые часто объединяют в ущерб первой. Главные вопросы основной части книги в равной степени касаются и автора, и аудитории, к которой он обращается. Эта аудитория, как правило, состоит из взрослых и подростков.
Все те же аспекты применимы и к короткометражным фильмам, но приходится признать, что они редко используются. Этой особенности посвящена глава 17. Наконец, в четвертом приложении (глава 18) объясняется, почему механизмы драматургии подходят для сценариев документальных фильмов.
Предостережения
Сценарий к «Гражданину Кейну» – это работа двух человек.
Джон Хаусман [89]
Если Марло написал произведения Шекспира, то кто написал произведения Марло?
Вуди Аллен [2]
Успешные пьесы заслуживают того, чтобы их авторы, как и создатели великих храмов, оставались неизвестными.
Жан Жиродо [72]
Ищите автора
Споры о том, кто написал «Гражданина Кейна» или кто автор «Гамлета», небезынтересны. Но для драматурга важнее всего то, что эти произведения существуют и служат нам путеводителями. Поэтому, чтобы не задеть ничье тщеславие, я буду использовать для обозначения создателя всего, что имеет значение в драматическом произведении, только одно слово: автор. Относится ли это слово к драматургу или к другим участникам (актеру, редактору, художнику, режиссеру и т. д.) – вопрос, который я рассматриваю в Évaluer un scénario [112] / «Оценке сценария».
Американец греческого происхождения
Большинство театральных пьес или опер, используемых мной в качестве примеров, являются европейскими (сначала греческими, затем английскими, французскими, итальянскими, норвежскими, русскими, ирландскими, немецкими и т. д.), тогда как большинство кинематографических примеров – американские. Это не случайно. Европейским киносценаристам, возможно, есть что сказать, но слишком часто им это плохо удается. В результате если характеры персонажей и диалоги иногда блестящи, то все остальное зачастую выглядит неуклюже. Мы еще вернемся к этому в главе 7 о творчестве (стр. 378–384).
Кроме того, стоит также спросить себя, что такое американское кино. В Европе само слово «американец» вызывает множество эмоций, от ненависти и страха до восхищения и преклонения. Если послушать некоторых европейских интеллектуалов, то выяснится, что наши дети становятся необратимо тупыми из-за посещения раз в год парижского Диснейленда, а мясо в бургерах содержит гены культурного империализма янки! Тот же бред распространяется и на американские фильмы и сериалы.
Мы охотно путаем американский сценарий с голливудским и забываем, что Спайк Ли, Роберт Олтман и Джон Кассаветис – такие же американцы, как Джон Бэдхэм, Генри Левин и Дон Сигел. Наконец, мы упускаем из виду, что многие выдающиеся пионеры американского кино – европейского происхождения. Капра, Чаплин и Казан провели детство в Италии, Англии и Турции. Ланг, Любич, Мурнау, Премингер, фон Штернберг, фон Штрогейм, Уайлдер и другие родом из Австрии или Германии.
Если бы мне пришлось отбросить личные вкусы и выбрать образцовые американские сценарии, я бы не остановился на вечно популярных кинолентах «Касабланка», «Крестный отец» и «Тутси», а предпочел бы фильмы «В джазе только девушки», «Окно во двор», «Холостяцкая квартирка», «На север через северо-запад», «Ниночка» и «Быть или не быть». Без сомнения, это прекрасные образцы сценарного мастерства. Но их режиссеры и главные сценаристы (Хичкок, Любич и Уайлдер) родились не в Соединенных Штатах. Более того, если мы проанализируем творчество Хичкока и Любича, оказавших огромное влияние на американский кинематограф, то поймем, что они черпали вдохновение и мастерство в европейском театральном репертуаре: Гоголь, Уайльд (для Любича) и английские авторы широко известных пьес Кауард, Моэм и Пинеро (для Хичкока).
Мы могли бы довести нашу маленькую генеалогическую игру до конца [скорее, до истоков], через Дидро, Плавта и Менандра добравшись до Эсхила. Мы увидим, что Чехов занимался доработкой сценариев, что греки привыкли к ремейкам и сиквелам, что у Еврипида и Корнеля мы находим happy ending, экшен – у Мольера, саспенс – у Брехта, клиффхэнгеры[13] – у Расина и Ибсена и так далее. Короче говоря, истоки того самого порицаемого американского стиля сценария, которого так опасаются в Европе, именно в ней и можно найти.
Когда Куросава экранизирует Горького («На дне»), Шекспира («Макбет» – «Трон в крови, или Паучий замок») или Эда Макбейна («Между небом и адом»), так ли важно знать национальность [авторов] этих произведений и культуру, которую они передают? Разве хорошая история не должна уметь путешествовать? При этом в книге представлен весь репертуар, что должно позволить каждому читателю найти свой путь, соответствующий его культуре и личным вкусам.
Уэллс и Софокл
Кинодраматургия представлена лучше, чем драматургия театральная. На то есть две причины. Во-первых, не исключено, что, несмотря на его юный возраст, кинематограф благодаря богатству своих возможностей имеет больший опыт повествования, чем театр. Примерно в 1930 году, с появлением звукового кино, Марсель Паньоль [140] уже предчувствовал, что авторы смогут создавать «произведения, попробовать поставить которые не могли ни Мольер, ни Шекспир из-за отсутствия у них соответствующих средств».
Во-вторых, кино материально доступнее, чем театр. У любого жителя Марселя, желающего посмотреть «Царя Эдипа», вряд ли будет шанс увидеть его в ближайшем к дому театре. Ему придется читать текст. С другой стороны, если он захочет посмотреть «Гражданина Кейна», а ни в одном местном кинотеатре фильм в данный момент идти не будет, то его легко посмотреть на видео. Пуристы скажут, что домашний просмотр портит впечатление от фильма. Как это часто бывает, пуристы преувеличивают. Домашний экран безжалостен к исполнительским живым искусствам, таким как театр, потому что лишает зрителя реального присутствия актеров. С другой стороны, домашний экран вполне уважительно относится к драме. Короче говоря, если фильм не изуродован (цензурой, панорамированием и сканированием, сокращением, колоризацией или рекламой) и если зрители посмотрят его за один присест и в хороших условиях, они уловят суть произведения.
Последняя проблема заключается в том, что существует тысяча постановок пьесы Софокла, и мы не знаем, какая из них в наибольшей степени удовлетворила бы автора. С другой стороны, существует только одна версия фильма, снятого режиссером Орсоном Уэллсом.
Несколько примеров можно привести из комиксов. Комиксы – это самостоятельная форма повествовательного искусства, находящаяся на полпути между драматургией, поскольку в них показаны действия, и литературой, поскольку диалоги читаются, а не прослушиваются. Более того, изображение в комиксе (рисунок) гораздо менее реалистично, чем изображение, представленное в театре или кино. Вот почему, хотя комиксы подчиняются многим правилам, общим для всех драматических искусств, у них есть несколько специфических особенностей.
Наконец, в качестве примера приводится несколько сказок, некоторые из которых никогда не были адаптированы для театра или кино и, следовательно, относятся к литературе, а не к драматургии. Но мы увидим, что структура сказок очень близка к структуре драматического произведения. Возможно, это связано с тем, что сказки, отражающие фундаментальные человеческие структуры и не обремененные культурными отсылками, являются основой любого повествования. По мнению Марии-Луизы фон Франц, «сказки кажутся международным языком, независимо от возраста, расы или культуры».
Путешествие в воображение авторов
Обилие примеров служит нескольким целям:
1. Чтобы каждый мог понять и найти что-то себе по душе. Кто-то может знать произведения Вуди Аллена, Дзиро Танигути или Бернара-Мари Кольтеса, а кто-то – Джеймса Кэмерона, Жан-Мишеля Шарлье или Жоржа Фейдо.
2. Показать, что механизмы, описанные в этой книге, применимы ко всем произведениям драматического репертуара. Такую работу можно написать, взяв небольшую горстку справочников, но это опасно. Чем больше произведений проанализировано, тем богаче и надежнее будет результат. Возвращаясь к образу типового портрета Кшиштофа Прушковского (см. стр. 28), чем больше фото президентов Французской Республики вы возьмете, тем достовернее будет итоговый портрет. Полученная таким образом синтетическая модель не является слишком жесткой и обязательной для копирования. Она остается достаточно гибкой, чтобы позволить сценаристу писать и как Бергман, и как Брехт, Эрже, Ануй, Моничелли и т. д. Другими словами, она достаточно гибкая, чтобы помочь каждому писать в своем собственном ключе.
Таким образом, я постараюсь показать, что существует только одна модель драматического повествования (иногда ее называют классической или аристотелевской) и что все произведения, в которых делается попытка рассказать историю, являются лишь более или менее счастливыми исключениями из этой модели.
3. Продемонстрировать богатство драматического репертуара и в то же время развивать и стимулировать читательское творчество. Если читатель хочет писать, ему полезно знать, что уже сделано другими. Более того, эта книга предлагает отправиться в сказочное путешествие в воображение авторов и побуждает читателя (заново) открыть для себя некоторые произведения. Обилие примеров, некоторые из которых не иллюстрируют какие-либо конкретные теоретические положения, делает путешествие еще более насыщенным.
Терминологические вопросы
Драматургия не похожа на биологию, астрофизику или морскую навигацию: ее язык еще не был универсально кодифицирован. Каждый теоретик дает терминам «акт», «экспозиция» или «саспенс» собственное определение, и они не всегда согласуются между собой. Читателям рекомендуется сосредоточиться на понятиях, определения которых даны в этой книге, а не на словах, используемых для их описания, особенно если они уже привыкли к иной терминологии.
Справочные материалы
Вы можете обратиться к этой книге, имея не слишком богатое представление о драматическом репертуаре. Наиболее важные примеры описаны подробно, чтобы каждый читатель мог их понять. Тем не менее для тех, кто хочет сделать свое чтение более ясным и насыщенным, здесь приведены работы, наиболее часто цитируемые в качестве примеров и/или наиболее поучительные. Я бы рекомендовал читателям ознакомиться с ними, особенно с теми, что представлены в первом списке, прежде чем продолжить чтение этой книги.
• «Амадей» (Питер Шаффер или Милош Форман и Питер Шаффер),
• «Астерикс и тайное зелье» (Рене Госкинни и Альберт Удерзо),
• «Драгоценности Кастафьоре» (Эрже),
• «В джазе только девушки» (Билли Уайлдер и И. А. Л. Даймонд),
• «Сид» (Пьер Корнель),
• «Гражданин Кейн» (Орсон Уэллс и Герман Манкевич),
• «Сирано де Бержерак» (Эдмон Ростан),
• «Школа жен» (Мольер),
• «В ожидании Годо» (Сэмюэл Беккет),
• «Дети райка» (Марсель Карне и Жак Превер),
• «Окно во двор» (Альфред Хичкок, Джон М. Хейс, Корнелл Вулрич),
• «Холостяцкая квартирка» (Билли Уайлдер и И. А. Л. Даймонд),
• «Гамлет» (Уильям Шекспир),
• «За закрытыми дверями» (Жан-Поль Сартр),
• «Огни большого города» (Чарльз Чаплин),
• «Кукольный дом» (Генрик Ибсен),
• «К северу через северо-запад» (Альфред Хичкок и Эрнест Леман),
• «Смерть коммивояжера» (Артур Миллер),
• «Царь Эдип» (Софокл),
• «Психо» (Альфред Хичкок, Джозеф Стефано, Роберт Блох),
• «Ромео и Джульетта» (Уильям Шекспир),
• «Святая Иоанна» (Джордж Бернард Шоу),
• «Тартюф» (Мольер),
• «Быть или не быть» (Эрнст Любич, Эдвин Юстус Майер и Мельхиор Ленгиел),
• «День сурка» (Гарольд Рамис и Дэнни Рубин),
• «Жизнь Галилея» (Бертольт Брехт),
• «Эта замечательная жизнь» (Фрэнк Капра, Филипп Ван Дорен Стерн, Джо Сверлинг, Альберт Хакетт и Фрэнсис Гудрич).
И в меньшей степени:
• «Антигона» (Софокл),
• «Бал пожарных» (Милош Форман, Иван Пассер, Ярослав Папоусек, Вацлав Сасек),
• «Придворный шут» (Мелвин Фрэнк и Норман Панама),
• «Во все тяжкие» (Винс Гиллиган),
• «Кинооператор» (Бастер Китон, Эдвард Седжвик, Клайд Брукман, Лью Липтон),
• «Касабланка» (Майкл Кертиц, Джулиус и Филипп Эпштейн, Говард Кох, Мюррей Бернетт и Джоан Элисон),
• «Кавказский меловой круг» (Бертольт Брехт),
• «Вишневый сад» (Антон Чехов),
• «Цирк» (Чарльз Чаплин),
• «Папаши» (Франсис Вебер),
• «Любовь под вязами» (Юджин О'Нил),
• «Диктатор» (Чарльз Чаплин),
• «Ужин с придурком» (Франсис Вебер),
• «Дон Жуан» (Мольер),
• «Школа мужей» (Мольер),
• «Обгон» (Дино Ризи, Этторе Скола, Руджеро Маккари, Родольфо Сонего),
• «Торжество» (Томас Винтерберг и Могенс Руков),
• «Великая иллюзия» (Жан Ренуар и Шарль Спаак),
• «Зеленая карта» (Питер Вейр),
• «Троянской войны не будет» (Жан Жироду),
• «Гедда Габлер» (Генрик Ибсен),
• «Песочный человек» (Энтони Шаффер или Джозеф Л. Манкевич и Энтони Шаффер),
• «Макбет» (Уильям Шекспир),
• «Мамаша Кураж и ее дети» (Бертольт Брехт),
• «Сотворившая чудо» (Уильям Гибсон или Артур Пенн и Уильям Гибсон),
• «Мизантроп» (Мольер),
• «Ничья земля» (Данис Танович),
• «Странная парочка» (телесериал) (Нил Саймон, Джерри Белсон и Гэри Маршалл),
• «Отелло» (Уильям Шекспир),
• «Где дом моего друга» (Аббас Киаростами),
• «Запах женщины» (Дино Ризи, Руджеро Маккари и Джованни Арпино),
• «Принцип Питера» (Марк Бертон, Джон О'Фаррелл и Дэн Паттерсон),
• «Злоумышленники, как всегда, остались неизвестны» (Марио Моничелли, Эйдж, Скарпелли и Сузо Чекки д'Амико),
• «Отрава» (Саша Гитри),
• «Родители» (Рон Ховард, Лоуэлл Ганц, Бабалу Мандел),
• «Стальные магнолии» (Герберт Росс и Роберт Харлинг),
• «Погоня» (Артур Пенн, Лилиан Хеллманн и Хортон Фут),
• Pour un oui ou pour un non (Натали Сарро),
• «Пигмалион» (Джордж Бернард Шоу),
• «Далеко по соседству» (Дзиро Танигути),
• «Назад в будущее» (Роберт Земекис и Боб Гейл),
• «Ревизор» (Николай Гоголь),
• «Роберто Зукко» (Бернар-Мари Кольтес),
• «Король Лир» (Уильям Шекспир)
• Série noire (Ален Корно, Жорж Перек, Джим Томпсон)
• «Клан Сопрано» (Дэвид Чейз),
• «Головокружение» (Альфред Хичкок, Алек Коппель, Сэмюэл Тейлор, Буало-Нарсежак)
• «Читай по губам» (Жак Одиар и Тонино Бенаквиста),
• «Соломенная шляпка» (Эжен Лабиш, Марк-Мишель),
• «Виктор/Виктория» (Блейк Эдвардс и Райнхольд Шюнцель),
• «Жизнь других» (Флориан Хенкель фон Доннерсмарк),
• «Эта замечательная жизнь» (Роберто Бениньи и Винченцо Керами),
• «Под звуки меди» (Марк Херман),
• «Пролетая над гнездом кукушки» (Кен Кизи, Бо Голдман, Лоуренс Хаубен и Милош Форман),
• «Путешествие месье Перришона» (Эжен Лабиш и Эдуард Мартен).
I. Основные механизмы
Мне захотелось написать пьесу так, как строят сарай, то есть сначала возвести конструкцию, идущую от фундамента до крыши, еще не зная, что именно там будет храниться… форму, достаточно прочную, чтобы в ней можно было разместить другие формы.
Бернар-Мари Кольтес [103]
Форма, которую хотел получить Кольтес, действительно существует. Она позволяет рассказать любую историю, включить в нее любые формы и сделать это любыми желаемыми средствами, подобно тому как в хорошо построенном сарае можно хранить как хлопок, так и тракторы. Вкратце эту форму можно представить в виде следующей схемы:
персонаж – цель – препятствия.
Таков основной принцип драматургии, содержащий все фундаментальные структурные механизмы: характеристики героев, структуру, единство, подготовку. Он следует из сущности драмы – конфликта, который сам же и порождает.
Поскольку существует бесконечное множество вариантов выбора персонажа, его цели и препятствий, эта простая и единственная форма позволяет создать бесконечное количество сюжетов.
1. Конфликт и эмоции
Роль эмоций заключается в том, чтобы помогать организму поддерживать жизнь.
Антонио Дамасио [46]
Главная цель – вызвать у зрителя эмоцию, и эта эмоция возникает от того, как разворачивается сюжет.
Альфред Хичкок [82]
Даже в этом мире торгашей у некоторых есть чувствительность к несчастьям других, сила сострадания…
Теннесси Уильямс [209]
Это сострадание (в смысле сочувствия) обозначает высшую способность к эмоциональному воображению, искусство эмоциональной телепатии. В иерархии чувств оно является высшим чувством.
Милан Кундера [106]
Жанну сожгут прямо на глазах у публики, исходя из принципа, что неважно, по какому поводу сжигают женщину, лишь бы сжигали, а зрители платили за это денежки.
Джордж Бернард Шоу [175]
Зорко одно лишь сердце. Самого главного глазами не увидишь.
Лис, «Маленький принц»
А. Базовый элемент
При рассмотрении драматического репертуара нас поражает повсеместное наличие элемента, характерного для подавляющего большинства произведений: конфликта. Различный по интенсивности и своей природе, конфликт лежит в основе драматических произведений, независимо от того, длятся ли они две минуты или два часа. Это поистине основной элемент драматургии. Следует отметить, что конфликт встречается не только в драматических повествованиях. Литературные произведения (мифы, басни, сказки, рассказы, романы и т. д.) полны всевозможных конфликтов.
Мы будем понимать под конфликтом любую противоречивую ситуацию или чувство. Это может быть борьба, испытания, трудности, различные проблемы, такие как опасность, неудача, несчастье или страдания. Конфликт вызывает у переживающих его людей неприятные ощущения (физиологический аспект) или эмоции (психологический аспект), среди которых наиболее распространенными являются разочарование и тревога. Мы вернемся к этому позже.
О проявлении конфликта
Как вы уже поняли, слово «конфликт» вызывает в памяти не только образы плачущих, кричащих или бьющих друг друга людей. Конфликт может быть внутренним, сдержанным, незаметным, без каких-либо внешних подчеркивающих его проявлений. Сотрудник, который не решается попросить начальника о повышении зарплаты, переживает конфликт. Более того, бесконечная драка редко является самой интенсивной формой конфликта. Это хорошо видно в фильме «Восьмая миля»: 5-летняя малышка Лили (Хлоя Гринфилд) приходит в ужас, когда оказывается свидетелем семейных ссор и избиения ее старшего брата (Эминем). Ее страдания сильнее конфликтов, свидетелем которых она становится. В фильме «Воины» британские солдаты, выполняющие миссию ООН в бывшей Югославии, беспомощно наблюдают за зверствами, которые совершают воюющие стороны, но они тоже переживают внутренний конфликт, который оставит в них свой след.
В «Сирано де Бержераке» (акт II, сцена 6) Сирано радуется, узнав, что Роксана влюблена, и уверен, что счастливый избранник – это он. Внезапно девушка дает понять, что это кто-то другой. Он понимает намек. Таков незаметный, но конфликт. В фильме «Погоня» родители Баббера Ривза (Мириам Хопкинс, Малкольм Аттербери) чувствуют себя виноватыми: их сын не такой, как все. Пришедший к ним агент по продаже недвижимости Бриггс (Генри Халл) сыплет соль на их рану. Мистер и миссис Ривз ничего не говорят и внешне никак не реагируют, но мы понимаем, что для них это пытка. Это и есть конфликт. В фильме «Жить» Ватанабэ (Такаси Шимура) хорошо проводит время в ночном клубе. На первый взгляд, ничего особенного. Но мы знаем, что он болен раком и жить ему осталось недолго. Его попытка развлечься – это тоже конфликт. В фильме «Дети райка» сын Батиста и Натали (Жан-Пьер Бельмон) по научению матери приходит к бывшей любовнице отца (Арлетти), чтобы сообщить ей, что он и его родители счастливы. Издалека атмосфера выглядит спокойной, но подтекст ситуации жестокий.
В фильме «Черные и белые в цвете» два западных священника (Жак Монне, Питер Берлинг) объясняют африканцам, что белые сильнее черных, потому что их бог лучше. Доказательство? Бог белого человека позволяет ему ездить на велосипеде. Значит, чернокожий, который верит в бога белых, тоже сумеет прокатиться на велосипеде и не упасть. Чернокожие, наблюдающие за ситуацией, кивают в знак согласия. Хотя все персонажи довольны, эта сцена вызывает смесь улыбки и дискомфорта. Такова одна из форм конфликта. При этом любая шутка, каждая юмористическая реплика и комическая ситуация вытекают из конфликта (см. главу 9).
Конфликт и перспективы конфликта
Возьмем, к примеру, двух случайных людей, Альфреда Хичкока и Франсуа Трюффо, беседующих сидя за столом. Трюффо указывает Хичкоку на то, что тот, должно быть, не заинтересован в съемках фильмов «Мистер и миссис Смит» или «Венские вальсы», и Хичкок [82] отвечает: «Здесь я полностью согласен». В этой сцене нет ничего конфронтационного. Теперь предположим, что под столом спрятана бомба, но оба режиссера не знают об этом. Все согласятся, что такое дополнение добавляет в сцену конфликт, хотя два персонажа, продолжающие дружелюбно общаться и соглашаться друг с другом, не конфликтуют. Конфликт переживает за них зритель этой сцены. В подобном случае мы бы сказали, что существует перспектива конфликта. На протяжении всей этой книги, если не указано иное, слово «конфликт» будет использоваться для обозначения реального конфликта или его перспективы (опасности, риска, угрозы и т. д.).
В основе всего сериала «Клан Сопрано» лежит тонкая, но напряженная перспектива конфликта. Как только зрители понимают, что имеют дело с психопатами, способными мгновенно взорваться и справиться со своим разочарованием путем расправы над другими, постоянное напряжение начинает пронизывать все эпизоды, включая и самые внешне спокойные. Зритель постоянно задается вопросом, не выйдет ли ситуация из-под контроля. Действительно, так регулярно и происходит! В этом отношении грандиозны эпизоды 4.10 («Музыкальное вмешательство») и 6.13 («У Сопрано»). В первом из них главных героев собирает вместе бывший алкоголик (Элиас Котеас), чтобы разработать стратегию борьбы с зависимостью Кристофера (Майкл Империоли). Сцена, в которой Кристоферу противостоит вся его семья, вошла в антологию кино. Предполагается, что участники хотят добра Кристоферу, но у зрителя сразу же возникает острое предчувствие, что им будет трудно долго сохранять благие намерения…
Во втором эпизоде Тони (Джеймс Гандольфини) и Кармела (Эди Фалько) отправляются провести выходные с сестрой Тони Дженис (Аида Туртурро) и ее партнером Бобби (Стив Ширрипа) в доме у озера. Обстановка идиллическая. Персонажи расслаблены. Тони предлагает Бобби повышение по службе. В общем, никакого конфликта. Пока Дженис не рассказывает семейный анекдот, который вызывает недовольство ее брата…
Информированность зрителя
Во всех приведенных выше примерах мы видим, как важно, чтобы зритель был правильно проинформирован. Если нам неизвестно, что под столом спрятана бомба, то мы не будем переживать за героев. Если вы не понимаете, что главным героям «Клана Сопрано» катастрофически не хватает строгих рамок и гражданской ответственности, вы не будете начеку в любой момент. Если вы не в курсе, что Сирано влюблен в Роксану, то не сумеете разделить его сентиментальное разочарование. Если вы не знаете, что Ватанабэ серьезно болен («Жить»), то увидите просто развлекающегося человека. Если вы проигнорируете сомнительную связь между религиозной верой и велоспортом, то решите, что фильм «Черные и белые в цвете» о том, что надо тренироваться, чтобы чему-то научиться.
В некоторых случаях герои не испытывают конфликта и в произведении нет перспективы его возникновения. Например, повествования, основанные на ностальгии, вызывают у зрителя эмоции, противоречивые по своей природе. Старики, наслаждающиеся жизнью в полной мере, как в фильме «Кокон», напоминают нам о печали человеческого бытия. На самом деле они не испытывают конфликта, но заставляют нас его пережить. То же самое можно сказать и о жалком персонаже. Он может считать себя совершенно счастливым, и все же благодаря тому, что нам известно его прошлое, мы переживаем определенную форму конфликта.
Эмоция
Для такого партнерства есть веская причина: драматургия способна заставить зрителя испытать одну или несколько эмоций, порожденных конфликтом, его перспективой или его разрешением, в том числе и тогда, когда конфликт является источником комического.
У людей, особенно в так называемых развитых странах, неоднозначные отношения с собственными эмоциями.
Мы часто скрываем их, иногда даже подавляем, но при этом неизбежно ощущаем их огромную силу. Особенно это касается негативных эмоций. Какой ребенок, например, имеет право на грусть или страх? Большинство родителей уверены, что дети должны научиться контролировать свои эмоции, быть нечувствительными. Единственная негативная эмоция, которая разрешается детям, – это чувство вины. Иногда – гнев. В результате многие люди заменяют свои подлинные эмоции паразитическими (см. Фанита Инглиш [54]). Но эмоции, все эмоции, естественны, справедливы и… сильны. Игнорировать их, пытаясь понять человеческую жизнь и имитирующие ее искусства, так же нелепо, как и постоянно прыгать на одной ноге. Мы знаем, что на протяжении всей истории человечества большие и малые события порождались эмоциями (см. Говард Блум [22]). Но эмоции можно найти и там, где мы меньше всего ожидаем их обнаружить. Португальский невролог Антонио Дамасио в книге L'erreur de Descartes [45] / «Ошибка Декарта» доказывает, что способность выражать и испытывать эмоции необходима для реализации рационального поведения. Короче говоря, без эмоций нет интеллекта!
Символическая игра позволяет детям исследовать ощущения и чувства. Вполне вероятно, что драматургия выполняет аналогичную роль как для детей, так и для взрослых. Фильм или пьеса позволяют нам чувствовать и, главное, контролировать все виды эмоций. Мы можем спокойно ненавидеть, учиться преодолевать страх или разочарование, плакать от радости или грусти, не подвергаясь при этом презрению. Несомненно, таково одно из важнейших достоинств драмы.
Конечно, конфликт и драма не единственные вещи, способные вызывать эмоции. В живописи и музыке нет драматургии, но им все равно удается нас тронуть. В театре или кино музыкальная мелодия, игра актера, продуманная последовательность кадров и многое другое вызывают эмоции у зрителя. Важно понимать, что здесь нет противоречий. Вполне возможно позаботиться о языке фильма или художественном направлении, не жертвуя эффективной драматургией (см. главу 1 книги «Оценка сценария» [112]). Жан-Поль Торок [187] рассказывает о том, как некоторые французские режиссеры отказались принять эту идею в начале XX века и способствовали тому, что часть французского кино зашла в тупик.
О природе конфликта
Если бы мы изучили самые трогательные (или напряженные) сцены конфликта в кино, то поняли бы, что 99 % из них – психологические конфликты.
Это неслучайно. Насколько легко заставить зрителя переживать какие-либо чувства, настолько же сложнее заставить его испытывать негативные физические ощущения – жажду, голод, холод, вонь, невралгию и так далее. Можно заставить людей понять, что кому-то больно или хочется есть, – Чаплин блестяще делает это в «Золотой лихорадке», но трудно вызвать у зрителя те же ощущения. В некоторых исключительных случаях сильный зрительный образ может вызвать у зрителя тревогу. Так было с первым убийством в фильме «Психо», открытым переломом у Льюиса (Берт Рейнольдс) в «Избавлении» или ушибленными ногами Пола Шелдона (Джеймс Каан) в «Мизери». Но понятно, что зритель не испытывает и сотой доли того, что чувствует жертва.
Однако есть два физических фактора, которые драматургия вполне может разделить со зрителем: шум и свет, например, когда в каких-то сценах они оглушают.
Статический и динамический конфликты
В кино (и в жизни) существует два типа конфликтов: статический и динамический. Статический конфликт переживается пассивно, либо через торможение, либо через бессилие. Персонаж узнает о смерти близкого ему человека; он опустошен, он страдает, но ничего не предпринимает. С другой стороны, когда персонаж, переживающий конфликт, активно реагирует на него, конфликт динамичен. Так происходит, например, если протагонист пытается защитить любимого человека. В небольшом триллере 1950-х годов под названием «Пустынный пляж» отдыхающий (Барри Салливан) оказывается в ловушке, застряв под причалом. Его жена (Барбара Стэнвик) должна найти помощь, пока не начался прилив и море не утопило ее мужа. Муж переживает статический конфликт, а жена – динамический. Точно такой же принцип мы видим в середине «Титаника», когда Джек (Леонардо ДиКаприо) беспомощно привязан в наполняющейся водой каюте, в то время как Роуз (Кейт Уинслет) пытается его спасти. Хотя сочетание этих двух типов конфликтов желательно, очевидно, что произведение не может просто накапливать статические конфликты. Лишь динамические конфликты двигают сюжет вперед.
Именно поэтому такая пьеса, как «Детский час», может показаться сильно мелодраматичной. Лилиан Хеллман тратит некоторое время на то, чтобы собрать воедино события, в результате которых двух школьных учительниц подозревают в лесбиянстве – речь о 1930-х годах, – и, как только слухи распространяются, обе главные героини мало что делают, чтобы избавиться от преследования. Автор просто описывает последствия ужасного конфликта, разрушающего их жизни. Если бы героини боролись, чтобы предотвратить злонамеренность и впоследствии выбраться из сложившейся ситуации, конфликт был бы динамическим.
Обратите внимание, что слово «динамический» необязательно означает, что персонажи движутся, как в автомобильной погоне. Два человека, которые спорят и изо всех сил пытаются переубедить один другого, сидя на диване, тоже переживают динамический конфликт.
Б. Ценность конфликта
Конфликт лежит в основе жизни
Почему конфликт лежит в основе драмы? Конфликт, вероятно, лежит в основе драмы потому, что он лежит в основе жизни, которую драма воспроизводит. Можно даже утверждать, что именно конфликт или его перспектива мотивируют животных и людей. Их первоначальные действия направлены на то, чтобы избежать голода, холода, физической и душевной боли. Сразу за этим следует размножение, цель которого – предотвратить исчезновение вида.
«Человеческая беда невероятно объединяет», – говорит Себастьян Салгадо [159], который на протяжении сорока лет фотографировал самые разные уголки нашей планеты. В книге Le principe de Lucifer/ «Принцип Люцифера»[14] [22] Говард Блум показывает, что зло, насилие и жестокая конкуренция заложены в нашем рептильном мозге, а потому присутствуют повсюду, в каждом человеке, в каждой цивилизации, включая примитивные, которых иногда изображают как добрых дикарей, живущих в гармонии с природой. Среди сотни примеров Блум приводит случай африканского народа кунгов. В первые годы этнографического изучения кунгов антропологи увлеклись идеей, что эти простые люди, не знавшие ни сельского хозяйства, ни шоу Джерри Спрингера[15], не знакомы и с насилием.
В итоге исследования показали, что членов племени кунг наказывают за прелюбодеяние убийством. Уровень убийств среди кунгов выше, чем в Чикаго! Поскольку природа жестока и служит источником всевозможных конфликтов, после тщательного рассмотрения действительно можно сказать, что кунги живут в гармонии с природой.
N. B. Другие примеры первобытного варварства можно найти в работах антрополога Мориса Годелье, который изучал, например, папуасское племя баруя. В книге Psychanalyse des contes de fées [20] / «О пользе волшебства. Смысл и значение волшебных сказок» Беттельгейм показывает, что жизнь ребенка не является благословенным и привилегированным временем беззаботного изобилия, некоторые люди ностальгически приписывают детству. Каждый ребенок, даже если он не подвергается жестокому обращению и не оказывается жертвой злоупотребления властью, испытывает всевозможные конфликты: страх, разочарование, обесценивание, чувство вины, боязнь остаться брошенным, Эдипов комплекс, соперничество между братьями и сестрами, трудности с интеграцией различных сторон своей личности и т. д. Дональд Винникотт [210] зашел так далеко, что сравнил внутренний мир ребенка с внутренним миром психотика. В дальнейшем на подростковый возраст также приходится своя доля конфликтов, и так до самой смерти, которую большинство людей тоже считают конфликтом, жизнь человека представляет собой череду испытаний.
В христианской религии притча о потерянном рае символизирует идею о том, что конфликт – это суть жизни. Считается, что первые люди были изгнаны из места, где все шло хорошо и не было конфликтов, и попали на Землю, где все оказалось гораздо хуже.
При этом, несмотря на то что в краткосрочной перспективе конфликт служит источником страданий, он может привести и к положительным последствиям. В каждом конфликте есть потенциал несчастья и разрушения, но также и возможность объединения, понимания и обогащения. Конфликт способен изменить ситуацию к лучшему. Он помогает нам расти. Как гласит пословица, моряком на суше не станешь. Если, например, мы помогаем бабочке выбраться из кокона, то, конечно, избавляем ее от трудностей, но заодно лишаем усилий (конфликта), которые должны были прогнать жидкость через крылья насекомого и укрепить их. В результате бабочка не сможет летать и вскоре станет чьей-нибудь добычей. Таким образом, конфликт часто является источником жизни. Конечно, стремление к удовольствию также является мощной движущей силой для живых существ. Но если мы признаем, что удовольствие и боль находятся на противоположных концах одной оси, то увидим, что стремление к удовольствию равносильно бегству от боли. Так что и в этом случае нас мотивирует конфликт (или перспектива его возникновения).
Уже упоминавшийся принцип Люцифера демонстрирует, что зло не является уникальной составляющей, встроенной в нашу базовую биологическую структуру с целью ее разрушения. С помощью зла, утверждает Блум [22], природа «выводит человеческий мир к более высоким уровням организации, сложности и власти. <..> Зло – это фундаментальный инструмент природы для совершенствования ее творений».
Конфликт – фактор правдоподобия
Поскольку в повседневной жизни мы сталкиваемся со всевозможными конфликтами, допустимо ли считать, что имитация жизни, каковой является драма, должна быть лишена их? Конечно же, нет. Мы сочли бы ситуацию неправдоподобной или, по крайней мере, слишком упрощенной, если бы на сцене или экране все было иначе. Наличие конфликта в драматическом произведении делает его правдивым.
Конфликт как фактор интереса
Хорошо продаются газеты с плохими новостями. Людей интересуют поезда, сошедшие с рельсов, а не те, что прибывают по расписанию. Когда кто-то привлекается судом к ответственности за серьезное преступление, об этом пишут на первой полосе. Если впоследствии дело закрывают, то две строчки об этом удастся отыскать на последней странице. Маленькие дети, играющие перед телевизором, внезапно прекращают свои занятия, если в новостях вдруг показывают плачущих людей. Является ли это проявлением сострадания? Ответ, возможно, кроется в антропологии. Люди запрограммированы на выживание и склонны обращать больше внимания на конфликты и возможные источники опасности, чем на то, что гармонично.
Еще один фактор интереса: зрелищность
На этом этапе необходимо сделать важное замечание. Конфликт не единственный элемент, привлекающий внимание как в драме, так и в других произведениях. Второй фактор, также обладающий мощной силой притяжения, – зрелищность. Я называю зрелищным – также говорят «сенсационным» – все, что является оригинальным, в смысле редким, и по этой причине привлекает, отвлекает, а иногда даже очаровывает или гипнотизирует зрителя. Фильм или пьеса – безусловно, впечатляющие зрелища, но из предлагаемого мной определения ясно, что не всякое зрелище обязательно является впечатляющим.
Всесторонний обзор!
Примеров предостаточно: закат, Ниагарский водопад, реалити-шоу вуайеристов, автомобильная авария, посещение парка «Футуроскоп» в Пуатье – все это зрелища. Магнитофон или фотоаппарат мгновенного действия также могут показаться чрезвычайно впечатляющими для тех, кто никогда раньше их не видел и не слышал (например, для жителя Новой Гвинеи). Все грандиозные творения, по крайней мере отчасти, относятся к зрелищным: пирамиды, соборы, картины импрессионистов, римские скульптуры, военные парады, музыкальные шоу и так далее. Все книги рекордов привлекательны по одним и тем же причинам. Это царство сверхценного: самый татуированный человек, самая дорогая картина, самый древний старец и так далее. Другие подобные издания – «Знаете ли вы, что?». Из них мы узнаем, например, что большинство белых кошек с голубыми глазами страдают глухотой. Невероятно, но факт!
В кино отточенные кадры, экзотические декорации, спецэффекты, великолепные трюки и тысячи статистов впечатляют зрителя по тем же причинам. В конце XIX века киноизображение было очень зрелищным – настолько, что зрители отшатывались, когда на экране показывали приближающийся поезд (см. L'arrivée d'un train à La Ciotat / «Прибытие поезда в Ла-Сьота» или Empire State Express / «Эмпайр-Стейт-Экспресс»), или были загипнотизированы, видя, как шевелятся листья на ветру (Repas de bébé / «Завтрак младенца»). Сегодня мы привыкли к этому. Обычный, классический образ очаровывает нас все меньше, вот почему мы все дальше и дальше продвигаемся в его воспроизведении (3D, сферические экраны и т. д.) и в спецэффектах. Часто они просто отвлекают от происходящего. Мел Брукс великолепно высмеял это в фильме «Страх высоты»: в середине фильма камера медленно приближается к дому, и мы привычно ожидаем, что она пройдет через окно, чтобы попасть внутрь, но вместо этого она со звоном врезается в стекло.
Еще один тип зрелищности – оригинальные персонажи, особенно когда автор не прилагает усилий, чтобы понять самому и объяснить нам, в чем состоит их оригинальность. Дэвид Линч, чье увлечение аномалиями хорошо известно, нагромождает их в сериале «Твин Пикс». Все его герои причудливы, нездоровы, неполноценны. Лично я почти не вижу в этом сострадания и простоты, которые можно обнаружить в «Человеке-слоне» или в «Правдивой истории».
Как видите, использование зрелищности в качестве драматического приема способно обеспечивать легкость восприятия. Когда Луис Бунюэль, Федерико Феллини, Терри Гиллиам, Жорж Мельес, Каро и Жене или Кен Рассел создают необычные (и потому зрелищные) идеи и миры, им в заслугу, по крайней мере, можно поставить то, что они предлагают нам результат своего личного творчества. Не все авторы обладают таким богатством воображения. То же самое происходит и с цирковыми артистами, заслуга которых состоит в том, чтобы применить свое мастерство и создать нечто. Но когда в кино речь идет лишь о том, как потратить кучу денег на то, чтобы «взорвать мозг» зрителя и скрыть скудость сюжета или персонажей, зрелищность в таком случае идеально сочетается с вуайеризмом, мечтой о всемогуществе и культурой разрушения.
Несмотря на то что кино – идеальный носитель зрелищности, театру она тоже не чужда. Есть множество пьес, которые полагаются на световые эффекты, великолепные костюмы и оригинальную сценографию, вплоть до какофонии, так что в суматохе иногда теряется смысл. У этой тенденции, безусловно, есть несколько причин. Одна из них – потребность многих режиссеров проявить оригинальность, когда они ставят 456 321-ю сценическую версию «Гамлета». Поскольку текст Шекспира не менялся с 1601 года, они вынуждены найти то, что поможет им выделиться и ошеломить зрителей. Еще в 1957 году Ролан Барт [11] осуждал эти режиссерские «находки» (например, спуск мебели с потолка в каждом акте), «явно продиктованные отчаянным воображением, которое хочет добиться чего-то нового любой ценой».
«Что касается зрелища, – писал Аристотель [6], – которое оказывается наиболее обольстительным, то оно совершенно чуждо искусству и не имеет ничего общего с поэтикой. <..> Для технического исполнения спектакля искусство бутафора важнее, чем искусство поэтов». Это было отмечено более двадцати трех веков назад, в то время, когда греческий театр, к большому огорчению философа, начал приходить в упадок и уступать место вульгарным удовольствиям.
Когда зрелищность выходит из-под контроля
Желание произвести впечатление привело к тому, что кино и телевидение стали представлять ложную реальность, последствия чего неоспоримы, даже если их невозможно измерить. Я не имею в виду космические корабли, которые без труда достигают скорости света, или прибывающих сюда целыми вагонами инопланетян, каждый следующий из которых выглядит оригинальнее предыдущего. В таких случаях остается надеяться, что подавляющее большинство зрителей понимает метафорическое значение этих образов.
Я говорю о незаметном искажении реальности, создаваемом впечатляющим зрелищем и его естественным спутником – стремлением к власти. В так называемых боевиках, например, герои с обескураживающей легкостью убивают. Лишь немногие художественные произведения показывают, насколько трудоемким порой оказывается убийство (см. «Разорванный занавес», «Кровь за кровь», «Не убий»).
Если герои не обмениваются выстрелами, то они с упоением избивают друг друга, отделываясь при этом несколькими ушибами. По правде говоря, пятая пястная кость должна бы заставить их кричать от боли, и они не смогут пользоваться руками в течение нескольких недель. То же самое происходит, когда они получают пулю в плечо. Это травма, которая должна искалечить их на всю жизнь. Или когда их подбрасывает (разумеется, в замедленной съемке) красивым взрывом. Их барабанные перепонки должны бы кровоточить. Но ничего подобного не происходит ни в кино, ни на телевидении: к концу фильма или в следующей серии наш герой свеж, как ромашка. Парадоксально, но, как писал в 1984 году врач Майк Оппенгейм [139], проблема аудиовизуальных художественных произведений состоит не в избыточном изображении жестокости, а в том, что насилие представляется в смягченном виде, – короче говоря, что они недостаточно жестоки. Если бы кино и телевидение полностью честно показывало реальные последствия насилия, авторы были бы вынуждены сократить количество драк и представить менее всемогущих героев. Плюс в том, что зрители быстро поймут, что насилие – это негламурно, ничего не решает и чаще всего приводит к страданиям и опустошению. Недостаток: результат будет менее зрелищным, а значит, менее привлекательным.
Конфликт против зрелищности
Чтобы заинтересовать зрителя, множество драматических произведений, особенно фильмов, предлагают сочетание конфликта и зрелищности. Последняя, безусловно, несет более тривиальное, поверхностное и менее полезное удовольствие, чем первый, но продолжает ему противостоять. С момента появления кинематографа мы наблюдаем избыток зрелищности как по содержанию, так и по форме. Это можно рассматривать как симптом сдвига определенного типа фильмов в направлении коммерциализации и бессилия некоторых сценаристов. С другой стороны, это также выглядит как фундаментальная характеристика зрелищности: она обречена лишь нарастать. Зрители быстро устают от трюков, красивых декораций или сложных технических решений, но если именно таким способом привлекают их внимание, то приходится постоянно увеличивать дозы. Психическое возбуждение в данном случае подобно наркотику. Давно прошли те времена, когда один только вид поезда, въезжающего на станцию, производил впечатление на весь зал. Сегодня вам приходится выкладываться на полную катушку. Столь высокая цена часто связана со зрелищностью, но надо признать, что она может быть основана и на конфликте, точнее на физическом конфликте, до такой степени, что некоторые художественные фильмы сегодня граничат со снафф-фильмами[16]. Вскоре единственным отличием вымышленных сюжетов от снафф-фильмов станет то, что первые будут законными (потому что их истории выдуманы).
Но есть и другой путь: просто рассказать историю о человеке, испытывающем противоречивые эмоции – серьезные или комические, – оказывается эффективным приемом, работающим уже двадцать пять веков, и нет необходимости добавлять к нему что-то еще. Возможно, так происходит потому, что эмоции и юмор более созвучны жизни, чем гиперреалистичное воспроизведение космоса при помощи супертехнологичных очков.
Будем честны, встречаются моменты, когда конфликт и зрелищность удачно дополняют друг друга. Вспомните сцену с самолетом в фильме «На север через северо-запад», эпизод с нападением на грузовик в киноленте «Индиана Джонс: В поисках утраченного ковчега», сцену с машиной для приготовления тортов в комедии «Побег из курятника» или всю концовку фильма «Безумный Макс 2: Воин дороги». В пьесах Шекспира также найдется немало дуэлей, бурь и многочисленных сражений. В этих случаях все идет на пользу представлению, и оно становится только лучше. Тем не менее не стоит отказывать себе в некоторых удовольствиях или вовсе отвергать зрелищность как таковую.
Конфликт против зрелищности, продолжение
Но бывает и так, что зрелищность порой отвлекает от основной идеи произведения – именно она превращает «Апокалипсис сегодня» в грандиозное шоу, не говоря уже о нем как о милитаристском фильме, – или попадает в центр внимания авторов в ущерб драматургии. Эпизод из «Морпехов», кажется, подтверждает этот тезис. Мы видим, как морские пехотинцы приходят в восторг от отрывка из фильма (нападение на вьетнамскую деревню под музыку Вагнера). Эта знаменитая сцена из «Апокалипсиса сегодня» напоминает мне комментарий Галеаццо Чиано, зятя Муссолини, который счел красивым вид с самолета на взорвавшуюся бомбу.
Можно ли тем не менее надеяться, что конфликт и вытекающие из него эмоции, а значит, и драма в конце концов возобладают в качестве главного фактора, стимулирующего интерес? Первой подсказкой служит то, что поразило Лелуша в фильме «Баловень судьбы»: оказалось, что наибольшее впечатление на зрителей произвела сцена, в которой Сэм (Жан-Поль Бельмондо) учит Альбера (Ришар Анконина) здороваться и не выглядеть удивленным. Хотя действие фильма происходит в красивейших местах мира, самая запоминающаяся сцена разыгрывается в гостиничном номере, между двумя людьми, сидящими на стуле. Лелуш приписывает ее успех искренности актеров.
Объяснение, вероятно, кроется в другом: сцена, которая превзошла эпизоды с красотами, достойными почтовых открыток, просто оказалась самой противоречивой, смешной и лучше всего написанной в фильме.
Вторая подсказка – документальный фильм о диких гусях в Канаде, который я видел в середине 1990-х годов. Изображение, занимавшее несколько сотен квадратных метров, было грандиозным. Так вот, несмотря на все попытки пустить пыль в глаза, больше всего зрителей тронул момент, когда хрупкий голенастый птенец пытался пройти по берегу реки. Упадет он или не упадет?.. Внезапно в кинотеатре возникло напряжение и даже наконец легкий смех, когда птенец споткнулся, поскользнулся и упал в воду вверх тормашками. Короче говоря, ничто не может сравниться со щепоткой драматизма, способной заставить зрителя заволноваться. «Так как лучшая трагедия по своему составу должна быть не простой, а запутанной и воспроизводящей страшные и вызывающие сострадание события – ведь это отличительная черта произведений такого вида, – то прежде всего ясно, что […] сострадание возникает при виде того, кто страдает невинно, а страх – из-за того, кто находится в одинаковом с нами положении»[17] (Аристотель [6]).
Драматургия критикует зрелищность
Подобно Мелу Бруксу (см. выше), некоторые авторы используют кино, чтобы высмеять порой нездоровое увлечение людей зрелищами. Эта тема затрагивается в фильмах «Роллербол» и «Загнанных лошадей пристреливают, не правда ли?». В киноленте «Детство, призвание и первые опыты Джакомо Казановы, венецианца» люди стекаются посмотреть на хирургическую операцию – и не зря, это настоящая кровавая бойня. В фильме «Бал пожарных» любопытных привлекает пожар в доме. В «Ярости», «Панике» и «Погоне» авторы показывают зевак, наслаждающихся зрелищем несчастья, например автомобилистов, которые притормаживают, чтобы полюбоваться впечатляющей аварией. Наконец, зрелище самолета, врезавшегося в горящий бензовоз, стоит того, чтобы фермер (Энди Албин) угнал свой фургон у Роджера Торнхилла (Кэри Грант) в фильме «На север через северо-запад».
Другие авторы не критикуют зрелищность, но предпочитают избегать ее. В начале фильма «Дипломная работа» происходит инцидент в мадридском метро: человек бросился на рельсы, и поезд вынужденно остановился. Пассажиров просят выйти и не смотреть на разрубленное пополам тело самоубийцы. Разумеется, все хотят взглянуть на него, в том числе и главная героиня (Ана Торрент). Как раз в тот момент, когда она пытается что-то разглядеть, офицер отталкивает ее. Ни ей, ни зрителям фильма не дадут увидеть травмирующее зрелище. Часто в отсутствии зрелищности кроется большая элегантность.
Давайте закроем эту затянувшуюся скобку и вернемся к конфликту. У нас еще будет возможность поговорить о зрелищности.
Конфликт как средство идентификации
Если конфликт – это фактор, провоцирующий интерес публики, то логично, что зритель больше интересуется персонажем, переживающим конфликт, чем всеми остальными. В его интересе есть сострадание, и эта связь, которая может оказаться очень сильной, создается эмоцией. Когда зритель переживает эмоцию, испытываемую жертвой конфликта, между ними возникает глубокая связь – отождествление. Этот феномен настолько силен, что способен сработать на пользу даже несимпатичному персонажу. По поводу бомбы под столом Хичкок [82] объяснил Трюффо, что в такую конфликтную ситуацию может быть вовлечена группа злодеев и даже Гитлер в момент теракта 20 июля 1944 года. Но и тогда зритель сказал бы себе не «Ну все, их сейчас раздавит», а «Осторожно, там бомба!». И Хичкок приводит второй пример – вора, роющегося в ящиках, пока хозяин дома поднимается по лестнице. «Человек, который ищет, что бы украсть, – говорит он, – необязательно должен быть персонажем, вызывающим сочувствие. Но зрители всегда будут переживать за него». Очевидно, что если человек, роющийся в ящиках, положительный персонаж, то сила эмоций зрителя удваивается, как это было, например, с Грейс Келли в фильме «Окно во двор».
Мы могли бы повторить эту фразу Хичкока, заменив «человека, который ищет» на «человека, который переживает конфликт». Или даже на «живой организм, который существует в конфликте». Ведь феномен отождествления может проявиться и по отношению к животному или даже к машине, как в фильме «Молчаливое бегство», где нас трогает вывод из эксплуатации дрона (неантропоморфного робота). Мы словно бы становимся свидетелями смерти близкого нам человека. В рекламном ролике для сети магазинов Ikea под названием «Лампа» авторы очень ловко обыгрывают этот феномен. Молодая женщина избавляется от старой лампы. Бедная лампа оказывается на тротуаре, под дождем, одинокая и брошенная. И это работает! В итоге мы начинаем ей сочувствовать, вплоть до кульминации, которая, по сути, гласит: «Разве вы не чувствуете себя смешным, жалея лампу?» Неужели создатели этой рекламы считают себя хитрецами, сумевшими использовать инструменты драматургии для того, чтобы растрогать нас судьбой куска металла?
Короче говоря, конфликт заставляет зрителя испытывать эмпатию к переживающему его герою, независимо от того, нравится этот персонаж или нет.
Вспомните Макмерфи (Джек Николсон), обаятельного нарушителя спокойствия из фильма «Пролетая над гнездом кукушки». В конце концов, ему сорок с небольшим и он переспал с 15-летней девочкой. То же самое можно сказать и о Нике Нейлоре (Аарон Экхарт), который блестяще защищает табачное лобби в фильме «Кофе и сигареты». Несмотря на то что он оправдывает отравление миллионов людей, мы всегда на его стороне, когда у него возникают личные трудности. Нам не доставляет удовольствия видеть, как его избивают под мелодию песни Bien fait pour toi! / «Так тебе и надо!», зрители по-настоящему сочувствуют его трудностям. Вспомните также Бри (Марсия Кросс) и Габриэль (Ева Лонгория) из «Отчаянных домохозяек». На бумаге они вызывают меньше симпатии, чем Сьюзан (Тери Хэтчер) и Линетт (Фелисити Хаффман), но конфликт делает их столь же привлекательными. Хичкок не раз забавлялся, доказывая свою теорию, особенно в фильме «Безумие», где он заставляет злодея пережить конфликт: это сцена, в которой Раск (Барри Фостер) пытается найти компрометирующую его булавку для галстука в грузовике с картошкой.
Эмпатия и отождествление
Фильм «Безумие» далеко не единичный случай. В киноленте «Сокровища Сьерра-Мадре» наступает момент, когда Доббс (Хамфри Богарт) предстает перед нами откровенно отвратительным: он ограбил двух своих компаньонов (Тим Холт, Уолтер Хьюстон) и даже зашел так далеко, что хладнокровно застрелил одного из них. По меньшей мере, мы можем констатировать, что он не вызывает интеллектуальной симпатии. Тем не менее, когда ему угрожают мексиканские бандиты, мы переживаем за него. Он вдруг становится нам эмоционально симпатичен, и это сочувствие перевешивает антипатию, которую мы испытывали к нему раньше.
Фильм «Песни для кита» дает похожий пример. Действие пьесы разворачивается перед домом, по одну сторону от которого стоит пожилая мать, а по другую – ее дочь и старший сын. Они пытаются убедить мать переехать в дом престарелых. С самого начала понятно, что они постыдно стремятся избавиться от нее, но мать сопротивляется и заставляет их пережить несколько тяжелых моментов. Таким образом, именно дети переживают наибольший конфликт. Несмотря на внутренний протест, который у нас вызывает их поведение, мы испытываем к ним и эмоциональную симпатию, – настолько, что вскоре оказываемся на их стороне, против матери.
Наконец, упомянем пластилиновый мультфильм «Уоллес и Громит: Неправильные штаны», в котором злодей совершает ограбление. Несмотря на нашу неприязнь к нему, мы переживаем за него, когда едва не срабатывает сигнализация, и авторы забавно используют эту ситуацию.
Сила эмоционального отождествления неслучайна, поскольку связана с силой наших эмоций, а в них много энергии. Перефразируя Паскаля [142], можно сказать, что у наших эмоций есть причины и силы, о которых разум ничего не знает – или против которых он зачастую совершенно бессилен.
Некоторые люди (в том числе Бертольт Брехт) находят эту силу драмы близкой к злоупотреблению властью. Нельзя сказать, что они полностью неправы, одной из сильных сторон драматургии является то, что она умеет заставить зрителя проявить интерес к несимпатичным персонажам, таким как Макбет («Макбет»), Альцест («Мизантроп»), Арнольф («Школа жен»), Вилли Ломан («Смерть коммивояжера»), Гарсен («За закрытыми дверями»), Сальери («Амадеус»), Хаус (Хью Лори в «Докторе Хаусе»), все неудачники, недотепы, злодеи и несчастные так же важны для человечества и являются такой же его частью, как Рэмбо (Сильвестр Сталлоне), Джон Данбар (Кевин Костнер в «Танцах с волками»), Джон Китинг (Робин Уильямс в «Обществе мертвых поэтов») или Жак Майоль (Жан-Марк Барр в «Голубой бездне»).
Привлекательность зла
Вполне вероятно, что в самоотождествлении со злодеем есть нечто большее, чем сострадание. Зло и насилие зачаровывают всех, возможно, потому, что они являются нашей неотъемлемой частью. Таким образом, отождествление себя с преступником позволяет нам творить зло «через прокси» и выпускать пар. Это согласуется с принципом катарсиса или очищения от страстей, своего рода эмоциональной разрядкой, которой дорожил Аристотель [6]. Соответственно, киноленты «Доктор Джекил и мистер Хайд», «Ад принадлежит ему», «Макбет», «Роберто Зукко» или «Подглядывающий» – перечень можно продолжать долго – обладали бы терапевтическими свойствами как для автора, так и для зрителя.
Разумеется, я говорю о преступниках, которые живут за счет конфликта, как главный герой, и не довольствуются тем, что заставляют жить за счет него других. В последнем случае, проиллюстрированном, в частности, фильмом «Генри: портрет серийного убийцы», увлечение злом выглядит самодовольным, а его терапевтический характер весьма сомнителен.
Конфликты без отождествления
Бывают случаи, когда конфликт, переживаемый отрицательными героями, вызывает скорее удовольствие, чем сострадание или восхищение. Речь о тех ситуациях, когда злодеи несут наказание. Такой конфликт обычно возникает в конце произведения и служит не фактором идентификации, а средством облегчения. Он позволяет зрителю выпустить пар, выплеснуть ненависть, которую он накопил по отношению к злодею.
Кроме того, наказание злодеев удовлетворяет этическое чувство зрителя и его потребность в справедливости. Насколько это необходимо в сказках, потому что они помогают детям взглянуть в лицо реальности и усвоить понятия добра и зла, настолько же может выглядеть уступкой в произведениях, рассчитанных на подростков или взрослых, даже если это явно приносит определенное удовлетворение. После выхода фильма «Эта замечательная жизнь» (1946) Капра получил огромное количество писем от зрителей, недовольных тем, что злодей фильма (Лайонел Бэрримор) остался ненаказанным.
Забавно отметить, что наказание злодеев должно быть соразмерно их преступлениям, чтобы удовлетворить публику, – как на суде. Если злодей получает меньше положенного, аудитория разочарована. Когда он получает больше, чем должен, зритель испытывает к нему сострадание, и тогда мы вновь возвращаемся к описанному выше явлению. К теме злодеев мы вернемся в главе 3 (стр. 136–141).
«Познай самого себя…»
…сказал Сократ, а Томас Хора [86] добавил: «Чтобы понять себя, человек должен быть понят другим. А чтобы быть понятым другим, он должен понять другого». В то же время известно, что виновные в геноциде всегда начинали с предотвращения идентификации с другим, с дегуманизации своих будущих жертв (например, сравнивая их с крысами), чтобы иметь возможность убивать их. Драма – необыкновенный инструмент, позволяющий поставить себя на место других людей, понять человека, будь то мы сами или другие. И возможно, речь идет о крайне несимпатичных персонажах, потому что у них больше всего проблем и они больше всего нуждаются в понимании. Так что конфликт, изображенный на сцене или экране, может стать мощным инструментом сострадания. «Пусть другие снимают фильмы о великих событиях в истории, – говорил Фрэнк Капра [28], – а я хотел снимать фильмы о парне, который подметает. И если этот парень представляет собой скопление противоречивых импульсов, если гены побуждают его к выживанию, к пожиранию ближнего, в то время как его разум, воля и душа побуждают его к любви к ближнему, я чувствовал себя способным понять его проблему».
Конфликт как средство создания характера
Наконец, конфликт – это еще и мощный инструмент для создания характеров. Когда дела идут хорошо, большинство людей реагируют примерно одинаково.
Именно когда возникает проблема, мы отличаем умного от глупого, оптимиста от пессимиста, скрягу от расточительного человека, прогрессивного от консерватора и так далее. Конфликт, таким образом, служит проявлению личности. Это, несомненно, одна из причин, объясняющих, почему великие драматурги так широко его использовали.
Тем не менее бывает, что иногда конфликт, если он слишком силен, мало что раскрывает. Когда человек держит голову под водой, трусливый он или храбрый, мягкий или агрессивный, у него есть только одна цель, только одно желание: высунуть голову из воды, чтобы вдохнуть воздух. И это верно даже для самоубийцы. В фильме «Король-рыбак» Джек (Джефф Бриджес) собирается покончить с собой, когда на него нападают бандиты. Тут появляется мистический бомж Пэрри (Робин Уильямс) и защищает его. Затем он подходит к Джеку. Тот реагирует испугом: «Не причиняйте мне вреда!» Пэрри иронизирует: «Почему? Хочешь, чтобы тебе хватило сил убить себя?» Реакция Джека нелепа, но она вполне человеческая. Отчасти именно потому, что у всех нас одни и те же базовые инстинкты, и они чрезвычайно сильны, боевики, фильмы о приключениях и выживании часто оказываются неудачным средством для создания характеров.
В. Примеры конфликтов
В начале фильма «Африканская королева» бутлегер Чарли (Хамфри Богарт), торговец, такой же незатейливый, как и его выпивка, обедает со священником (Роберт Морли) и чопорной старой девой (Кэтрин Хепберн). Внезапно его настигает громкое урчание в животе. Смущенные сотрапезники делают вид, что ничего не произошло.
В начале «Амадея» Сальери сочиняет короткий марш в честь Моцарта. Вскоре после этого Моцарт сыграл его по памяти, но, сочтя посредственным, внес изменения. Под гениальными пальцами импровизирующего Моцарта произведение Сальери превратилось в знаменитый свадебный марш из «Женитьбы Фигаро». Сальери почувствовал себя униженным.
В конце фильма «За наших любимых» отец (Морис Пиала) неожиданно возвращается в семейное гнездо, которое покинул несколько месяцев назад. Он приехал, чтобы показать квартиру другу. Момент выбран крайне неудачно: он попадает на небольшую вечеринку, организованную его женой (Эвелин Кер) и двумя детьми (Сандрин Боннэр, Доминик Беснехард). Он бессовестно садится за стол, ест торт, изрекает прописные истины, раскрывает секрет, унижает сына и в конечном счете ссорится с женой. И гости, и зритель испытывают сильный дискомфорт.
В фильме «Кафе „Багдад“» Жасмин (Марианна Зегебрехт) навела порядок в офисе Бренды (К. Ч. Паундер) и тщательно все вычистила. Бренда приходит домой, обнаруживает перемены и в ярости отчитывает бедную Жасмин.
В начале фильма «Арвернский щит» Астерикс и Обеликс обедают в столовой для пациентов санатория, которые вынуждены соблюдать строгую диету. Наши герои обжираются свининой с пивом, а окружающие с завистью смотрят на них.
В фильме «Сука» Люсьенна (Жани Марез) сообщает Морису (Мишель Симон), что никогда его не любила. «Посмотри на себя в зеркало», – говорит она. Раздосадованный Морис оскорбляет ее, но в конце концов успокаивается, встает на одно колено и спрашивает, любит ли она его по-прежнему. Она жестоко смеется ему в лицо.
В пьесе «В ожидании Годо» Владимир и Эстрагон переживают острый конфликт: скуку. Поскольку публика тоже немного (много? сильно?) скучает, а персонажи пытаются избавиться от уныния, можно сказать, что пьеса Беккета – единственное в мире произведение, в котором скука зрителя оправданна. Однако, как правило, скука – это очень щекотливый конфликт, с которым непросто справиться. В фильме «Счастливые дни» Беккет, возможно, зашел слишком далеко. Персонажам скучно: они ждут финала, но он запаздывает, и они мало чем занимаются, кроме разговоров, чтобы убить время. Конфликт слишком статичен. Будем честны, многим зрителям это надоедает.
В конце фильма «Жена пекаря» Орели (Жинетт Леклерк) возвращается домой после романтической отлучки. Ее муж Эмабль (Райму) делает вид, что все забыл, но он глубоко уязвлен. Воспользовавшись очередным возвращением кошки Помпонетты, он намеками рассказывает жене обо всем, что у него на душе. От стыда она разрыдалась.
Упомянутая выше сцена из «Окна во двор» – превосходный пример конфликта. Лиза (Грейс Келли) обыскивает квартиру предполагаемого убийцы, а Джефф (Джеймс Стюарт), застрявший в своей студии с загипсованной ногой, наблюдает за происходящим. Внезапно убийца (Рэймонд Берр) возвращается домой. Джефф видит, как он поднимается по лестнице, а ничего не подозревающая Лиза вот-вот будет поймана. Джефф хочет предупредить ее, но он не может ни закричать – это выдало бы его в глазах убийцы, – ни сдвинуться с места. Он совершенно беспомощен и, по сути, находится в положении зрителя, который, сидя в зале, наблюдает за опасной сценой, но не может ничего сделать, кроме как ждать, что произойдет дальше. Вот почему мы почти полностью отождествляем себя с Джеффом.
В конце фильма «Торжество» Кристиан (Ульрих Томсен) спрашивает отца (Хеннинг Моритцен), почему тот подвергал сексуальному насилию их с сестрой, когда они были детьми. Отец отвечает, что ни на что другое они не годились.
В сцене из фильма «Женские глупости» Хелен (мисс Дюпон) роняет сумочку на глазах у офицера (Харрисон Форд). Тот не нагибается, чтобы поднять ее. Хелен возмущена. Много позже в фильме она снова сталкивается с офицером, который от ее толчка роняет плащ с плеч. И тут женщина обнаруживает, что у него больше нет рук. Смущенная, она накидывает плащ на плечи офицера и просит у него прощения. В этой двойной сцене присутствует несколько конфликтов. Сначала больше всего переживает Хелен, она возмущена. В конце она на краткий миг ошеломлена, а затем очень смущена, в то время как офицер унижен. Стоит отметить, что если бы мы знали о его инвалидности с самого начала, то переживали бы конфликт беспомощности и унижения вместе с ним, что практически свело бы на нет впечатление от негодования Хелен.
В фильме «Холостяцкая квартирка» Шелдрейк (Фред Макмюррей) заставляет свою любовницу Фрэн (Ширли Маклейн) поверить, что он готов расстаться с ней. В канун Рождества, когда она только что узнала, что он водит ее за нос, она все же находит способ между приступами рыданий преподнести ему подарок. Он не успел ничего купить, а потому с отстраненным видом достает стодолларовую купюру и протягивает ее Фрэн.
В книге «Смерть трагедии» [180] Джордж Стайнер вспоминает особенно трогательную сцену в пьесе «Мамаша Кураж и ее дети»: «Когда солдаты приносят труп Швейцеркаса, они предполагают, что это сын мамаши Кураж, но не совсем уверены. Ей приходится опознать его. Я видел, как Хелен Вайгель играла эту сцену с труппой Берлинского ансамбля, хотя слово «играла» преуменьшает великолепие ее исполнения. В тот момент, когда ей предъявили тело сына, она просто покачала головой, не произнеся ни слова. Солдаты заставили ее взглянуть еще раз. И снова она не выказала никакого признака узнавания, только смотрела пустым взглядом. Когда труп уносили, Вайгель отвернула голову и широко открыла рот. Эта гримаса повторяла выражение морды визжащей лошади с картины Пикассо «Герника». Звук был ужасен и не поддавался описанию. На самом деле никакого звука не было слышно. Ничего. Вместо звука стояла полная тишина. Тишина, которая кричала на весь театр, пронзив его до такой степени, что зрители опустили головы, как будто под порывом ветра».
В фильме «Займемся любовью» богатый бизнесмен Жан-Марк Клеман (Ив Монтан) пытается соблазнить певичку из музыкального ревю без гроша в кармане Аманду Делл (Мэрилин Монро).
Поскольку она презирает богатых, он заставляет ее поверить, что по профессии он стекольщик. Показывая девушке бриллиантовый браслет, который, как мы знаем, стоит десять тысяч долларов, он говорит, что тот стоит пять. Аманда очень впечатлена. Она отдает драгоценность подруге за пятидолларовую купюру и просит Клемана попробовать достать ей другой браслет. Клеман разочарован.
В фильме «Рожденный 4 июля» Рон Ковик (Том Круз) навещает мистера и миссис Уилсон (Тони Фрэнк, Джейн Хэйнс), сына которых он случайно убил во Вьетнаме. Сцена, в которой он делает это признание, довольно болезненна для всех: Рона, родителей и зрителя.
В фильме «Где дом моего друга» Ахмад (Бабак Ахмадпур) просит у своей матери (Ирана Утари) разрешения выйти из дома, чтобы вернуть тетрадь однокласснику. Мы знаем, что ставки высоки. Мать отказывает и просит сына выполнить домашнее задание, а также помочь ей по хозяйству. Он настаивает, она отказывает. Так продолжается с полдюжины раз. То, что на первый взгляд может показаться утомительным, на самом деле создает непреодолимое напряжение. Подобный конфликт довольно часто встречается у Киаростами: герои просят о чем-то; им отказывают или не отвечают. Вместо того чтобы остановиться на достигнутом или попробовать что-то еще, они снова просят. И, кажется, к шестому или седьмому разу ответ вполне способен измениться.
Эпизод с булочками в «Золотой лихорадке» – не только прекрасное произведение циркового искусства, но и сцена конфликта. Шарло (Чарльз Чаплин) должен исполнить свой номер, чтобы соблазнить любимую женщину. Мало того что это всего лишь сон, но мы догадываемся, что она не придет на назначенное им свидание.
Откровения
В «Царе Эдипе» момент, когда герой наконец осознает, что он убийца, является периодом напряженного конфликта. Так часто бывает в минуты откровения, к которым мы еще вернемся в главе 8, посвященной драматической иронии. Когда Нора («Кукольный дом») понимает, что ее муж эгоистичен и снисходителен, когда Роксана осознает, что автором писем был Сирано («Сирано де Бержерак»), когда цветочница (Вирджиния Черрилл) в «Огнях большого города» узнает своего спасителя (Чарльз Чаплин), эмоции захлестывают.
Сентиментальные разочарования
В «Детях райка» Батист Дебюро (Жан-Луи Барро) разыгрывает на сцене пантомиму, когда замечает за кулисами любимую женщину Гаранс (Арлетти), флиртующую с его другом Фредериком Леметром (Пьер Брассёр).
Он опустошен. Натали (Мария Казарес), которая играет с ним в мизансцене и безответно в него влюблена в жизни, замечает смятение партнера. Она пугается и кричит (в разгар пантомимы!). Эта знаменитая сцена иллюстрирует двойное страдание в любви.
Сентиментальное разочарование – классический пример конфликта. Примеров тому множество. Мы увидим его особенно трогательный вариант (стр. 332) в «Холостяцкой квартирке». Я уже упоминал выше Сирано де Бержерака. В «Двойной жизни Вероники» Вероник (Ирен Жакоб) влюбилась в кукольника (Филипп Вольтер), о котором ничего не знает. Она пытается встретиться с ним снова и получает от него шнурок, который заставляет ее поверить, что кукольник тоже хочет увидеться с ней, и после долгих бесплодных поисков она находит его. Когда Вероник наконец видит его снова, она глубоко взволнована. Мы чувствуем – благодаря Ирен Жакоб, – что сердце героини бьется с частотой 180 ударов в минуту. Она едва сдерживается, чтобы не вскочить и не поцеловать его, но тут кукольник сообщает, что намеревается написать роман и послал ей шнурок, чтобы проверить, сможет ли женщина найти его. Это был просто эксперимент. Вероник падает в обморок. Еще один пример сентиментального разочарования – Сабрина (Одри Хепберн в одноименном фильме). Она встречает Дэвида (Уильям Холден), в которого влюблена, а тот не в силах придумать ничего лучше, чем сказать: «О, это ты, Сабрина! Я думал, что мне послышалось».
Неэффективные конфликты
Случается, что конфликты, возникающие в жизни, порой не имеют драматического эффекта. Так бывает, если их используют не по назначению и ситуация не находит отклика у зрителя, оставляя его равнодушным. Так же происходит, когда сама природа демонстрируемых конфликтов не вызывает эмоций. В предыдущих примерах сцены получились сильными, потому что конфликты (стыд, смущение, разочарование, досада, унижение) были правильно драматизированы. Недостаточно, чтобы конфликт был сильным сам по себе, его нужно еще и хорошо обыграть. «Выбор Софи» – хороший пример конфликта, который, на мой взгляд, испорчен тем, как он представлен. Это тем более прискорбно, что конфликт, о котором идет речь, – унижение, вызванное отрицанием человеческого достоинства, – один из самых жестоких, которые только приходится переживать человеку. По прибытии в лагерь смерти офицер СС заставляет Софи (Мерил Стрип) выбрать, кто из ее двоих детей останется в живых. Эта ужасная сцена не столько показана, сколько обсуждается, так что конфликт носит скорее концептуальный, чем эмоциональный характер, но, что принципиально важно, эпизод появляется в конце фильма как объяснение странного отношения Софи, которое не позволяло зрителю понять ее и, следовательно, разделить ее боль на протяжении большей части фильма. Другими словами, совершенно необходимо, чтобы эмоция переживалась не только одним из персонажей. Автор должен убедиться, что ее испытывает и зритель.
Вот почему скрыть конфликт от зрителя – это «хороший» способ не дать ему его пережить. Другой способ – показать, что человек, который, как предполагается, должен переживать конфликт, на самом деле к нему безразличен. Пощечина, например, не достигнет своей цели, если сценарист забудет показать, как страдает получивший ее человек. Если бы семья в фильме «За нашу любовь» не обратила внимания на обидные слова отца и продолжила спокойно болтать, а не криво улыбаться, зритель не испытывал бы дискомфорта. Если бы Джефф («Окно во двор») потенциально мог помочь Лизе, рискующей своей жизнью в квартире убийцы, тревога зрителя была бы значительно меньше. Именно поэтому такой фильм, как «Парад идиотов» (версия 1992 года), не срабатывает. Его главный герой (Жан Рошфор) становится жертвой различных злоумышленников, но создается впечатление, что это его больше забавляет, чем по-настоящему беспокоит. Если кто и должен забавляться, так это зритель, а не жертва конфликта. Та же проблема и в фильме «Эд Вуд». Главный герой (Джонни Депп), режиссер сериала Z, переживает впечатляющую череду разочарований, но кажется, будто в глубине они его не трогают. В результате зритель не сочувствует персонажу, а просто наблюдает за действием, не вовлекаясь в него. Последний пример: в «Сообщении Адольфу» персонаж по имени Сохей подвергается жестоким пыткам со стороны японской тайной полиции (дело происходит в конце 1930-х годов). К сожалению, Сохей – умница, или, может быть, таков его создатель Осаму Тэдзука. Получив жестокий удар, Сохей с окровавленным лицом говорит: «Вы ошибаетесь, я мечтаю о супе с лапшой». Или: «Я все равно предпочитаю это тому, что попробовал в гестапо…» Эти неуместные фразы полностью снижают накал конфликта и даже делают сцену невероятной. Сомневаюсь, что в самый разгар пыток даже у величайшего комика планеты хватило бы присутствия духа и силы характера, чтобы сказать: «Даже неплохо! Биск, суп-пюре, ярость…»
Г. Механизм конфликта
Основной принцип драмы
Конфликт означает противодействие или столкновение с препятствием, которым может быть человек, предмет, ситуация, черта характера (недостаток, но иногда и положительное качество), случайный поворот судьбы, природное явление и т. д., а порой даже чувство или ощущение.
Но все эти причины конфликта сами по себе не способны служить препятствиями. Например, стена – это препятствие для того, кто хочет перебраться на другую сторону, но не для того, кому нужно прислонить к ней лестницу. Обжорство – препятствие для того, кому нужно сесть на диету, но не для того, кто не набирает вес. И если можно утверждать, что рак – препятствие для всех, то лишь потому, что никто не хочет страдать.
Таким образом, препятствие определяется по отношению к воле, желанию, потребности или стремлению. Личность, объект, черта характера, ситуация, чувство являются препятствиями только потому, что они противостоят тому, что мы будем называть целью. Именно так возникает конфликт: когда наличествует противостояние между целью и препятствием.
Что касается цели, то, по логике вещей, она относится к тому, кто переживает конфликт: человеку, животному или тому, кто их замещает, – короче говоря, к персонажу. Таким образом, анализируя конфликт, мы только что раскрыли основную цепочку драмы:
персонаж – цель – препятствие – конфликт – эмоция.
Персонаж стремится достичь цели и сталкивается с препятствиями, что порождает конфликт и вызывает эмоции как у персонажа, так и у зрителя.
Универсальный принцип
Каким бы ни был персонаж, какой бы ни была цель и препятствия к ее достижению, интересно отметить, что, согласно этому принципу, самая первая возникающая эмоция – разочарование (или, по крайней мере, неудовлетворенность). Желание и невозможность немедленно получить что-то – вот причина фрустрации. Это чрезвычайно сильное чувство, которое способен понять и, соответственно, испытать каждый человек. Именно таково первое негативное чувство, которое переживает младенец. Когда ребенок начинает ощущать голод, его мама редко стоит наготове, чтобы покормить его грудью. Обычно об этой необходимости ее оповещает детский плач, и проходит некоторое время, прежде чем мама начинает кормить малыша. Между моментом, когда ребенок чувствует потребность в еде, и моментом, когда его потребность удовлетворяется, он испытывает два чувства: сначала разочарование, а затем тревогу. Так происходит потому, что младенец представляет себе самое худшее и боится, что его потребность никогда не будет удовлетворена. На самом деле, один из самых страшных страхов ребенка – оказаться брошенным.
Нет нужды говорить, что чувство разочарования не спешит покидать человека. Мы проводим жизнь, желая получить то, чего у нас нет, или, что еще хуже, чего быть не может.
Речь необязательно о вещах, но и о профессии, романтических отношениях, внутреннем покое и т. д. По Фрейду [64], противопоставление человеческих желаний реальности или моральному сознанию создает психическую энергию, которая является источником серьезного напряжения. Подавление этой энергии избавляет человека от напряжения и фрустрации, но не решает всех проблем. Более того, оно способно даже вызвать побочные эффекты.
Поэтому легко понять причину универсальности и демократичности этого великого движущего принципа драматургии (персонаж – цель – препятствия). «Достаточно» взять персонажа, поставить ему цель и – не забудьте – создать на его пути препятствия, чтобы каждый житель планеты сразу понял, что тот чувствует, и, следовательно, заинтересовался бы им. Другими словами, если ситуация или характер персонажа могут сделать его концептуально универсальным, то цель и препятствия делают его эмоционально универсальным, что гораздо эффективнее.
N. B. Слово «достаточно» здесь стоит в кавычках, потому что эта операция, которая выглядит довольно простой, очевидно, требует работы и определенных навыков.
Конфликт и драма, драма и конфликт
Вместо того чтобы начинать с вездесущности конфликта, я мог бы начать книгу, собственно, с определения слова «драматургия»: это имитация человеческих действий. Затем я бы отметил, что в основе любого действия лежит намерение, импульс – короче говоря, цель, и у этой цели обязательно есть владелец (персонаж), а ее достижение может быть легким или трудным. Поскольку первый случай не представляет особого интереса для зрителя, я бы сделал вывод, что драма – это рассказ о персонаже с труднодостижимой целью, которая порождает конфликт и вызывает эмоции.
Так что я бы пришел к такому же выводу. Единственный небольшой недостаток этой отправной точки состоит в том, что она недостаточно акцентирует конфликт, который, как мы уже видели и еще увидим, является жизненно важным инструментом. Всем известны знаменитые слова мистера X (Жана Габена, Говарда Хоукса или Дэррила Занука, в зависимости от источника): «Чтобы сделать великий фильм, нужны три вещи – сценарий, сценарий и еще раз сценарий»[18]. Это забавно и напоминает некоторым режиссерам о том, что им стоило бы уделить больше внимания работе со сценарием, но для сценариста фраза не слишком полезна, поскольку не помогает ему сдвинуться с мертвой точки. В основе хорошего фильма лежит хорошая история, но что такое хорошая история? Преимущество конфликта в том, что он служит первым приходящим в голову ответом.
Чтобы написать хорошую драматическую историю, вам нужны три вещи: конфликт, конфликт и еще раз конфликт. Желательно динамичный.
Что превыше всего: цель или препятствие?
Подчеркивание важности конфликта тем более оправданно, что конфликт и эмоции чаще всего предшествуют действию. Правда, иногда у персонажа изначально есть цель, а препятствия к ее реализации появляются позже. Например, герой что-то ищет, но это что-то спрятано. Обратный порядок – «раз что-то спрятано, я буду это искать» – не имеет смысла. Однако чаще всего именно конфликт или препятствие порождают цель, а значит, и действие. В таком случае цель (на начальном этапе) всегда одна и та же: избежать конфликта. Так происходит с человеком, который внезапно узнает, что у него рак. Эта реактивная цель может затем привести к другим препятствиям, отличным от тех, которые ее породили.
Если конфликт стоит на первом месте, то, вероятно, потому, что мы лучше умеем лечить или подавлять, чем предотвращать, и профилактикой мы занимаемся обычно для того, чтобы избежать проблемы. Следовательно, нами движет страх, а раз так, то на первом месте стоит эмоция.
Специфические конфликты
В процессе достижения цели персонажи могут вовлекаться в конфликт, не связанный с противостоянием между целью и препятствием. В фильме «Жизнь Галилея» ученый сталкивается с опасностью чумы. Это порождает конфликт, не имеющий отношения к цели, которая заключается в общественном признании его теорий. Он просто подчеркивает, насколько Галилей стремится достичь своей цели.
В сцене из фильма «Холостяцкая квартирка» Си Си Бакстер (Джек Леммон) пытается защитить Фрэн (Ширли Маклейн). Для этого он притворяется хамом и в результате получает удар по лицу от шурина Фрэн (Джонни Севен). Так проявляется конфликт, очевидно, не имеющий прямого отношения к его цели (защитить Фрэн). На самом деле, протагонист достигает этой цели в тот самый момент, когда получает пощечину. Аналогично, в других моментах фильма упреки квартирной хозяйки (Фрэнсис Вайнтрауб Лакс) и соседа (Джек Крушен) вызывают у Бакстера конфликт, но не мешают ему достичь главной цели – соблазнить Фрэн.
В фильме «Град камней» Томми (Рики Томлинсон) – безработный, а его дочь Трейси (Джеральдин Уорд) неплохо зарабатывает на жизнь продажей косметических средств.
Однажды, столкнувшись с бедой своего отца, Трейси предлагает ему немного денег. Томми отказывается, чувствуя себя неловко, но она настаивает. Он взял деньги, а потом, как только дочь ушла, разрыдался.
В фильме «Тутси» Майкл Дорси (Дастин Хоффман) – безработный актер, который переодевается в женщину, чтобы иметь возможность работать. Он влюбляется в свою коллегу Джули (Джессика Ланж). Эта невозможная любовь причиняет ему боль, но не является непосредственным препятствием на пути к цели. То, что он любит Джули, не мешает ему работать. Он даже может попытаться соблазнить Джули в нерабочее время, когда он не переодет в женское платье, – что Дорси однажды безуспешно делает, и что при схожих условиях в течение долгого времени проделывает Джо (Тони Кертис) в фильме «В джазе только девушки».
Хотя подобный вид конфликта (иногда статичный, иногда динамичный) не связан напрямую с целью персонажа, он не лишен смысла. В действительности он выполняет четыре важные функции:
1. Привлекает внимание зрителя, как и любой конфликт.
2. Вызывает сочувствие зрителя к персонажу, усиливая эмоции.
3. Испытывает волю персонажа к достижению цели и через реагирование показывает его решимость.
4. Направлен на определенную черту персонажа, которая, вероятно, будет трансформирована.
2. Протагонист – цель
Каждое действие должно иметь определенную цель.
Г. В. Ф. Гегель [080]
С послезавтрашнего дня я буду вести себя так, как будто покойный никогда не жил в этом доме. Здесь не останется никого, кроме моего сына и его матери.
Миссис Алвинг, «Вернувшиеся»
Я люблю Гвендолин. Я приехал в город только для того,
чтобы попросить ее выйти за меня замуж.
Джек, «Как важно быть серьезным»
Они хотят, чтобы ты завладел Ковчегом до того, как он достанется нацистам.
Маркус (Денхолм Эллиотт), «Индиана Джонс: В поисках утраченного ковчега»
В тот день я принял решение. Чего бы мне это ни стоило, я должен был остановить исчезновение моего отца. У меня были на это силы и возможности.
Хироси, «Далеко по соседству»
А. Определение и свойства
Мы будем называть протагонистом (от греческого prôtos – первый и agônizesthai – борющийся или страдающий) персонажа драматического произведения, который переживает наиболее динамичный конфликт, и, следовательно, именно с ним зритель в наибольшей степени отождествляет себя. Чаще всего этот конфликт очень специфичен. Иногда его называют центральным конфликтом. Именно потому у главного героя обычно есть одна и только одна цель, которую он пытается достичь на протяжении всей истории и на пути к которой встречает препятствия. Его попытки и трудности в достижении этой цели определяют ход сюжета, который мы называем действием.
Протагонист также, вероятно, является персонажем, с которым больше всего отождествляет себя автор. Поскольку он одновременно и персонаж, с которым максимально идентифицирует себя зритель, протагонист служит одним из важнейших связующих звеньев между автором и зрителем.
Другие критерии
Для некоторых теоретиков протагонист – это, по определению, движущая сила действия, тот, кто движет повествование вперед. Такой критерий очень часто перекликается с предложенным выше, но не всегда. В «Отелло» движущей силой действия является Яго, в фильме «Склока» движущая сила – Детрит, в «Дуэлянтах» – Феро (Харви Кейтель), в киноленте «Поменяться местами» – братья Дьюк (Ральф Беллами, Дон Амече). Но они явно не являются протагонистами. Не они переживают наибольший конфликт и не с ними отождествляет себя зритель. Таким образом, в нашем определении протагонист существует в двух вариантах: он может быть либо активным (и в этом случае он является движущей силой действия), либо пассивным.
Важно, чтобы протагонист был активным или пассивным. Это не персонаж, который переживает больше всего конфликтов, а тот, который переживает наиболее динамичный конфликт. Вернемся к примеру с «Белыми дюнами» (см. стр. 47). Совершенно очевидно, что наибольший конфликт переживает муж (Барри Салливан), поскольку ему грозит опасность утонуть через несколько часов. Но он не является протагонистом фильма, потому что абсолютно бессилен, его конфликт статичен. Протагонист «Белых дюн» – жена (Барбара Стэнвик), пытающаяся его спасти. Она активна и единственная, кто способен изменить ситуацию. Тот же принцип прослеживается и в киноленте «Тропы славы». Больше всего конфликтов переживают три солдата (Тимоти Кэри, Ральф Микер, Джо Теркел), которые, например, рискуют быть расстрелянными. Их арестовывают, но их конфликт статичен. Единственный, кто обладает хоть какой-то властью, – их адвокат, полковник Дакс (Кирк Дуглас).
Обязательно ли протагонист меняется в ходе развития сюжета? Есть еще один спорный критерий определения, на который часто ссылаются американские теоретики: протагонист – это персонаж, который меняется психологически (обычно в лучшую сторону). Повторюсь, иногда так и происходит, но есть слишком много исключений, чтобы считать это правилом. Начнем с того, что существует множество произведений, включая комедии или эпизоды сериалов, в которых не меняется ни главный герой, ни любой другой персонаж. Главные герои фильма «Голубь» в конце остаются такими же невежественными, как и в начале. Не меняются главные герои «Ничьей земли», «Макбета», «Детей райка», «Взвода» или «Жизни Галилея».
Кроме того, случается, что трансформации подвергается не главный герой, а другой персонаж. В «Антигоне» главная героиня остается верна своим убеждениям до самой смерти, а ее антагонист Креон в конце смягчается. В «Школе жен» Арнольф – неуклюжий и властный сексист до самого финала, а Аньес превращается из бесхитростной в жестокую. В «Тартюфе» единственный персонаж, который меняется, – Оргон: он превращается из слепого в ясновидящего. В фильме «Пролетая над гнездом кукушки» протагонист Макмерфи (Джек Николсон) с самого начала бунтует и заканчивает бунтарем. В то время как Вождь (Уилл Сэмпсон) начинает с покорности, а заканчивает освобождением. В «Истории игрушек» протагонистом выступает Вуди, но персонаж, который развивается, – Базз. В начале истории он считает себя спасителем галактики. В середине он понимает, что он всего лишь игрушка. В фильме «Приключения Флика» протагонист – Флик, а Дот – персонаж, который эволюционирует. «Сначала мы думали, – рассказывает Эндрю Стэнтон [178], – что характер Флика должен меняться на протяжении фильма. Но когда я писал сценарий, то понял, что это неверная динамика. Не протагонист меняется, а он меняет мир всех остальных персонажей». Можно привести и другие примеры:
• «Бейб», где протагонист – поросенок Бейб, а Рекс – персонаж, который эволюционирует. Точнее, Бейб развивается социально, а Рекс – психологически;
• «Милионер поневоле», в котором протагонист – Дидс (Гэри Купер), а Бэйб (Джин Артур) – персонаж, который развивается;
• «Окно во двор», где протагонист – Джефф (Джеймс Стюарт), а Лиза (Грейс Келли) – персонаж, который эволюционирует;
• «Зарубежный роман», где протагонистом является Джон (Джон Лунд), а развивающийся персонаж – Фиби (Джин Артур);
• «Жизнь других», где протагонист— драматург (Себастьян Кох), а меняющийся персонаж – капитан Штази (Ульрих Мюэ).
В большинстве сериалов протагонист не развивается ни на йоту, поскольку должен оставаться прежним до следующего эпизода. «Отчаянные домохозяйки» ехидно жонглируют этим правилом. Во многих сериях протагонисты проходят через небольшое испытание, в конце которого они приходят к необходимому осознанию и меняют свое отношение к происходящему. Если бы сериал остановился на этом моменте, можно было бы сказать, что героини эволюционировали. Но в следующем эпизоде природа снова дает о себе знать, и наши милые Сизифы вновь отправляются штурмовать гору.
Короче говоря, наступает момент, когда исключений становится так много, что они не подтверждают правило, а опровергают его. Другие примеры и другие наработки на эту тему читатель найдет в главе 4 «Построение сюжета» [111], полностью посвященной внутренней траектории.
Главный герой, протагонист и заглавная роль
С моей точки зрения, главный герой повествования – это персонаж, соответствующий теме произведения. Так, Тартюф, набожный лицемер, является главным героем пьесы «Тартюф», которая стремится обличить лицемерие. Очевидно, что Тартюф не является ее протагонистом. Робот в исполнении Арнольда Шварценеггера – главный герой «Терминатора» и… его антагонист.
Таким образом, протагонист – это необязательно самый важный персонаж в произведении или заглавный герой, хотя, конечно, часто так и бывает. Альцест («Мизантроп»), Антигона, гражданин Кейн, Сирано де Бержерак, Дон Жуан, Фауст, безумная из Шайо, Галилей, Гамлет, Медея, Мамаша Кураж, Месье Верду, Эдип («Царь Эдип» или «Эдип в Колонне», Отелло, Пер Гюнт, король Лир и т. д. – главные герои произведений, названных по их именам.
Случай с «Похитителями велосипедов» сложнее, ведь протагонист не вор, а Антонио Риччи (Ламберто Маджорани), рабочий, у которого в начале фильма крадут велосипед. Но в финале Риччи сам совершает кражу. Становится ли он вором из названия фильма?
Фильм «Федра» назван по имени протагониста, в то время как пьеса Еврипида, по которой снят фильм, называется по ее сюжету – «Ипполит». Пьеса Расина, на написание которой у него ушло более двух лет, первоначально называлась «Ипполит». Затем она называлась «Федра и Ипполит» и наконец просто «Федра». Сравнение этих двух пьес интересно не только в плане названия. В пьесе Еврипида Федра и Ипполит переживают почти такой же конфликт: сначала Федра страдает от любви к зятю, затем Ипполита обвиняют в том, что он обесчестил свою тещу. Расин явно сделал выбор: больше всех страдает Федра. Именно поэтому ее смерть наступает не в середине пьесы перед смертью Ипполита (как у Еврипида), а в конце.
Герои и протагонисты
Мы не будем использовать слово «герой» для обозначения протагониста, потому что оно сбивает с толку. В зависимости от теорий или здравого смысла его можно применить к нескольким типам персонажей, которые, как мы только что убедились, необязательно совместимы:
• сам протагонист (Любовь в «Вишневом саде» или Альцест в «Мизантропе»);
• протагонист, если он герой (Сирано де Бержерак или Индиана Джонс);
• и даже иногда главный герой не-протагонист (Лаура в «Лауре» или Юло в «Моем дядюшке»).
Множественные протагонисты
Протагонистов может быть несколько, если все они преследуют одну и ту же цель. В фильме «У каждого своя правда» главный герой – семья, проводящая время за сплетнями. Их общая цель – раскрыть секрет соседей. В «Самом длинном дне» главный герой – армия союзников. Ее цель – высадиться на побережье Нормандии и закрепиться там.
В фильме «Спасательная шлюпка» коллективный протагонист – это наиболее сочувствующие друг другу спасшиеся после кораблекрушения, их цель – выжить. Общая цель Ромео и Джульетты – любить друг друга. В фильме «Внутреннее приключение» есть забавный пример сопротагонистов. После несчастного случая солдат (Деннис Куэйд) попадает в тело обычного парня (Мартин Шорт), который на такое не рассчитывал. Их общая цель – спастись и вернуться к нормальной жизни.
Главный герой «Тартюфа» – это не Тартюф, который переживает очень мало конфликтов и появляется только в третьем акте, и не Оргон, переживающий меньше конфликтов, чем он заставляет пережить других, а семья Оргона: Эльмира, Клеанта, Дамис и Марианна, к которым присоединяются служанка Дорин и Валер, любовник Марианны. Их общая цель – избавиться от Тартюфа и, в частности, предотвратить его брак с Марианной. Это не единственная пьеса Мольера, где протагонист состоит из нескольких человек, не являясь центральным персонажем. Так, в пьесах «Ученые женщины» и «Мнимый больной» главными героями являются не Триссотен и Арган, а влюбленные пары и их служанка (Туанетта).
В фильмах «Чужой», «Звездный крейсер „Галактика“», «Избавление», «Большой побег», «Семь самураев» и «Ходячие мертвецы» в качестве протагониста также выступает группа.
В фильме «Папаши» Пиньон (Пьер Ришар) и Лукас (Жерар Депардье) отправляются на поиски своего сына. Оказывается, что они ищут одного и того же человека (Стефан Бьерри), и каждый из двух протагонистов убежден, что именно он отец. Таким образом, они становятся сопротагонистами. В «Путешествии месье Перришона», напротив, Арман и Даниэль хотят жениться на дочери заглавного героя, но им обоим трудно достичь этой цели. Поэтому протагонистом становится тот, кто сталкивается с наибольшим количеством препятствий, в данном случае Арман. И снова стоит отметить, что протагонист – это не заглавный персонаж.
Будьте осторожны и не путайте случаи с множественными протагонистами, как те, что мы только что рассмотрели, с несколькими протагонистами – довольно нежелательным вариантом, когда у зрителя есть выбор между несколькими протагонистами, у каждого из которых своя цель. В начале фильма «Каспер», например, неясно, кого следует считать протагонистом: призрака, семью, переехавшую в дом с привидениями (Билл Пуллман, Кристина Риччи), или пару, ищущую сокровища (Кэти Мориарти, Эрик Айдл). См. также примеры «Чайки» (стр. 142–143) и «Бури в Вашингтоне» (стр. 148).











