Читать онлайн Культовые корпорации. Как менялись большие организации со времен Римской империи до Кремниевой долины
- Автор: Уильям Магнусон
- Жанр: Истории успеха, Зарубежная деловая литература, Зарубежная образовательная литература, История экономики, Популярно об истории, Просто о бизнесе
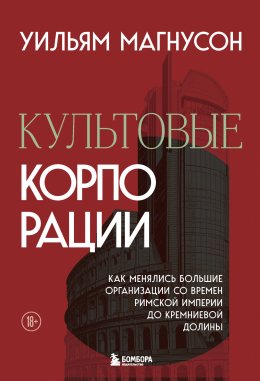
For Profit: A History of Corporations
William Magnuson Copyright
© 2022 by William Magnuson
This edition published by arrangement with Basic Books, an imprint of Perseus Books LLC, a subsidiary of Hachette Book Group, Inc. New York, NY, USA via Igor Korzhenevskiy of Alexander Korzhenevski Agency (Russia)
All rights reserved.
* Упоминаемые в книге социальные сети Facebook и Instagram запрещены на территории Российской Федерации на основании осуществления экстремистской деятельности.
© Перевод, П. Мананникова, 2025
© ООО «Издательство «Эксмо», 2025
Введение
Корпорации всегда и во все времена оказывали огромное влияние на мировые события. В Древнем Риме они помогли превратить римскую армию в самое эффективное войско в истории. Во Флоренции эпохи Возрождения обеспечили такой расцвет художественного гения, который никому не удалось превзойти. А в наше время дали начало эре господства технологий: смартфоны и интернет перевернули наши представления о взаимодействии с миром.
Роль корпораций в подобных событиях, разумеется, не всегда была положительной. Римские мытари прославились своей жадностью и коррупцией, они навечно стали ассоциироваться с библейскими грешниками. Банк Медичи во Флоренции был осужден за ростовщичество, а доминиканский монах Савонарола устраивал демонстративные сожжения предметов роскоши, когда выступал против пороков богачей.
Технологические гиганты подвергаются нападкам по различным поводам, начиная с политики конфиденциальности и монопольных позиций, заканчивая отношением к вопросам свободы слова. Иногда корпорации становятся героями, иногда – злодеями. В любом случае они всегда имеют большое влияние.
Эта книга расскажет о том, как появились корпорации, какие люди за ними стояли – от акционеров, которые занимались финансированием, до управляющих руководителей и служащих, которые обеспечивали работу. По сути, это история о торговцах, банкирах и инвесторах, которые со временем сформировали современный экономический ландшафт. Она рассказывает как о богатых, могущественных, находчивых людях, так и о коварных, порочных мошенниках. О работорговцах и баронах-разбойниках, об ученых и новаторах. Мы пройдем от залов римских дворцов до сборочных конвейеров заводов Детройта. Узнаем, как предприятия работают, как терпят крах, какие качества и обстоятельства создают великих, а какие – бездарных лидеров.
Книга состоит из восьми глав, каждая из которых посвящена истории одной организации. Возможно, корпорации лежат в основе капитализма. Но не всегда все было устроено так, как сегодня. В Римской республике они действовали в рамках аграрной экономики и занимались исключительно государственными заказами на строительство дорог и сбор налогов. Деятельность компаний времен елизаветинской Англии была направлена на исследования и торговлю, что отвечало лишь интересам политики меркантилизма. Зачастую это можно было описать одним словом – пиратство.
Сегодня корпорации конкурируют в условиях комплексной мировой экономики, предоставляют бесчисленное множество товаров и услуг, имеют доступ к невиданным объемам капитала. По мере прочтения этой книги мы узнаем, как протекала эта эволюция.
Прежде чем мы начнем, не будет лишним определиться с понятиями. Для начала, что такое корпорация? Сегодня мы часто приравниваем ее к бизнесу, в то время как это особый вид, со своей специфической формой и структурой. Идея корпорации впервые возникла в Римской республике, и данному термину вполне подходит буквальный перевод латинского слова corpus – «тело». Получается, это группа людей, которая функционирует как единый организм.
В других языках «корпорация» ближе к оригинальному римскому термину societas, что обозначает «компания». Например, в итальянском это società per azioni – «компания с акциями». И тут мы подходим к еще одному важному признаку корпораций – наличию акций и акционеров.
Корпорации могут выпускать акции как для частных, так и для институциональных инвесторов, которые взамен отдают свои деньги. Это позволяет не только «залезать в карманы» тех, кто управляет компанией, но и осваивать бескрайние запасы капитала, что принадлежит всему обществу.
Наконец, последняя характеристика, которая делает корпорацию особенно привлекательной формой для ведения бизнеса, – ограниченная ответственность. В отличие от товариществ, где каждый участник может быть привлечен к ответственности в случае неудачи, акционеры не обязаны удовлетворять дальнейшие финансовые потребности компании. Кредиторы не посягнут на их личные кошельки, как бы плохо ни шли дела.
Совокупность этих качеств превращает корпорации в мощнейший двигатель коммерции. Такой набор характеристик настолько исключителен, что английский политик XVIII века Уильям Блэкстон посвятил их описанию значительную часть своего знаменитого трактата «Комментарии к законам Англии». «Привилегии, иммунитет и собственность корпорации, которые однажды закрепились за ней, будут закреплены навеки и не перейдут к новым правопреемникам. Так как все отдельные члены, которые существовали с момента основания до настоящего времени или которые будут существовать в будущем, по закону являются одним лицом, которое никогда не умирает. Подобно тому, как река Темза остается той же самой рекой, хотя части ее меняются каждый миг». Другой выдающийся английский юрист сэр Эдвард Кок выразился просто: корпорации «незримы и бессмертны»[1].
Развитие корпораций проложило путь к появлению совершенно нового класса граждан – капиталистов. Хотя богатые люди существовали всегда, корпорации дали им новую возможность стать еще богаче. Вместо того чтобы копить свое состояние или тратить его на роскошь и разгульную жизнь, богачи смогли инвестировать в компанию. После этого они могли спокойно наблюдать за тем, как их инвестиции увеличиваются день за днем за счет труда других людей, практически без участия самих акционеров. Все это привело к коренным изменениям в природе бизнеса.
С появлением капиталистического класса, который владел акциями компаний, но не принимал никакого участия в управлении ими, в экономике возникла новая мощная сила, имеющая свою логику и методы. Оказалось, что капиталистов зачастую больше заботили дивиденды и цены на акции, чем заработная плата сотрудников или успех бизнеса в долгосрочной перспективе. Это не всегда хорошо отражалось на организациях, а также создавало возможности для нового вида мошенничества. Капиталисты могли воздействовать на биржевой курс и накапливать богатства, просто меняя мнение других людей о стоимости своих корпораций.
Один из известных акционеров Ост-Индской компании сэр Джозайя Чайлд был печально известен тем, что распространял ложные слухи о начале войны в Индии. Это приводило к падению курса акций. Затем он скупал их почти задаром. Подобные манипуляции сеяли хаос среди фондовых рынков и наивных инвесторов на протяжении столетий.
Адам Смит считал, что все это к лучшему. В его работе «Богатство народов» есть знаменитое высказывание о том, что рынок управляется невидимой рукой. Она следит за тем, чтобы эгоистичные индивиды, которые заботятся только о себе, в конечном счете действовали ради высшего блага всего общества. Как именно работает невидимая рука – остается неясным. Но зачастую этому способствует некоторое сочетание спроса и предложения. В условиях конкуренции корпорации старались отвечать на запросы потребителей, это давало обществу необходимые товары и услуги высокого качества по разумной цене. С тех пор идея невидимой руки капитализма поразила воображение экономистов, политиков и руководителей по всему миру. Она вошла в предвыборные кампании президентов, государственную политику и официальные сообщения аналитических центров. Мы слышим ее отголоски каждый день: «пусть рынки решают проблему», «нам нужен рыночный подход», «мы должны приватизировать это».
Экономист Милтон Фридман сделал вывод о том, что «существует одна и только одна социальная ответственность бизнеса – использовать свои ресурсы и заниматься деятельностью, которая направлена на увеличение прибыли, при условии, что этот бизнес играет по правилам». Немногие экономические теории оказали столь заметное влияние на мир[2].
С другой стороны, есть те, кто сомневается, насколько благосклонна невидимая рука и существует ли она вообще. На протяжении сотен лет люди обвиняли корпорации во всех смертных грехах, однако сейчас действия капиталистов стали обыденностью. Бесконечная жажда наживы заставляет эксплуатировать рабочих. Потребность в сырье приводит к загрязнению окружающей среды. Недобросовестные методы производства наносят ущерб потребителям и приводят к росту цен. Этот список нарушений бесконечен и дает немало поводов для критики.
Томас Джефферсон писал, что надеется «уничтожить в зачатке аристократию состоятельных корпораций, которые уже осмеливаются проверять наше правительство на прочность и ни во что не ставят законы своей страны»[3].
Карл Маркс подчеркивал, что корпорации – это «новая разновидность паразитов в лице учредителей, спекулянтов и подставных директоров; оно [противоречие внутри акционерных обществ] воспроизводит целую систему мошенничества и обмана в области учредительства, выпуска и торговли акциями».
Недовольства в сторону отдельных предприятий, были еще более красочными. Так, Эдмунд Бёрк писал об Ост-Индской компании: «Эта проклятая компания наконец, подобно гадюке, станет гибелью для страны, которая взрастила ее в своем лоне».
Совсем недавно журналист Мэтт Тайбби представил Goldman Sachs в виде «огромного адского кальмара-вампира, который обернулся вокруг лица человечества и неустанно пьет кровь из всего, что пахнет деньгами».
Но, пожалуй, наибольшее количество непрестанной критики в адрес корпораций вызывает то, что они направляют свою прибыль на подрыв институтов демократии. Подкупают политиков, чтобы получить государственные контракты, нанимают лоббистов ради искажения общественного мнения и жертвуют деньги избирательным кампаниям в обмен на благоприятные условия регулирования рынка.
Вполне естественно, что корпорации – влиятельные политические игроки. Демократические правительства должны отражать интересы, предпочтения и амбиции общества, которое они представляют. И по мере того как корпорации становились неотъемлемой частью общества, их интересы неизбежно приобретали все бо́льшую значимость на мировой арене. Было бы более странно, если правительства не меняли свою политику в соответствии с интересами крупных компаний, которые находятся на их территории. Корпорации, безусловно, изменили демократию, однако на повестке дня стоит вопрос, как именно они это сделали и насколько велико вмешательство. Ответы явно не понравятся многим людям, в том числе удивительному количеству сотрудников корпораций, которые на собственном опыте убедились в их неумолимой силе. То, что однажды было создано ради расширения и обогащения республики, стало командовать ею и обеднять народ.
Циник, взглянув на эту ситуацию, может пожать плечами: «Конечно, корпорации разбогатели на страданиях других людей, подкупили политиков и извратили понятие демократии. А чего еще вы ожидали?» Однако история показывает, что не нужно делать поспешных выводов. Раз за разом после обнародования очередного корпоративного скандала или нового злоупотребления полномочиями общество не оставалось в стороне и находило решения.
Когда рухнул фондовый рынок в 1929 году, был выявлен широко распространенный вид мошенничества при продаже населению акций. Тогда Конгресс принял Закон о ценных бумагах и Закон о торговле ценными бумагами, чтобы привлечь капиталистов к ответственности за введение общественности в заблуждение. Это поразительные изменения в мире капитала, и тем не менее часто им не придают значения.
Сегодня стало привычным, что налоги с нас собирает не корпорация, а правительство. Мы воспринимаем как должное, что у большинства компаний имеются постоянные акции, а не проценты от прибыли в отдельных проектах. Все привыкли, что корпорации должны предоставлять доступ к информации своим акционерам. Однако так было не всегда.
В основе этой книги лежит незамысловатый спор. Многие люди полагают, что корпорации – это бездушные организации, для которых получение прибыли превыше всего. Некоторые развивают эту мысль дальше и утверждают, что корпорации не просто извлекают выгоду – это их прямая обязанность. Все они неправы. С самого начала своего существования корпорации были созданы для того, чтобы служить общему благу. От Древнего Рима до Флоренции эпохи Возрождения и елизаветинской Англии компании были рабочими лошадками, в задачи которых входило построение и поддержание процветающего общества.
Корпорации – это публичные организации, которые имеют общественную ценность, наделены особыми правами и привилегиями именно потому, что правительства считают их помощниками в развитии государства. И хотя часто они отступают от этой цели, их изначальным и неизменным оправданием всегда была способность содействовать всеобщему благу.
Исторически связь между корпорациями и общественным благом была гораздо более явной, чем сегодня. Изначально компании должны были обращаться к монарху или правительству с просьбой о выдаче хартии. Чтобы получить ее, нужно было убедить государство в том, что их бизнес не просто прибыльный, но и несет пользу для страны.
Участники Ост-Индской компании в 1600 году пообещали королеве Елизавете I, что будут действовать «во имя чести королевства Англии, а также развития нашего мореплавания». Конгресс выдал хартию компании Union Pacific Railroad в разгар Гражданской войны. По мнению правительства, строительство трансконтинентальной железной дороги должно было объединить разобщенную нацию.
За последнее столетие мы утратили представление об истинном духе корпоративного предприятия. Стремление к прибыли превратилось из средства достижения цели в самоцель. Частично это изменение было обусловлено законодательством. В ХХ веке корпорациям уже не нужно было обращаться к монархам с просьбой о выдаче хартий. Вместо этого их стали получать с помощью некоторых документов, которые предоставляли в местные органы самоуправления, и больше не нужно было оправдывать свое существование. Но еще более важные изменения произошли под влиянием политики.
Угроза благополучия корпораций, вызванная коммунизмом и Холодной войной, заставила западные страны удвоить свою веру в достоинства капитализма. Корпорации стали рассматривать не как полезные для объединения человеческих усилий организации с определенными недостатками, согласно Адаму Смиту, а скорее как отличительную черту западного образа жизни, как то, что возвышает нас над приверженцами коммунизма. Демократия и капитализм стали синонимами. В результате корпорации из орудий труда превратились в героев. Они определили наш путь, а мы, в свою очередь, превознесли их.
Но эти перемены привели к опасным последствиям. Корпорации росли и множились, и от их действий и решений стали требовать меньшей общественной направленности. Моральные принципы сменились на рыночную эффективность. Если компания прибыльна – должно быть, она эффективна, а эффективность – это то благо, за которым мы гонимся. Такое убеждение пронизывает не только общество, но и самих руководителей корпораций. Это привело к тому, что управляющие компаний стали меньше задумываться о серьезных проблемах общества и больше концентрироваться на извлечении прибыли. Возник рост финансового капитализма. Это вид корпоративной деятельности, которая ориентирована не на материальное производство, а на финансовый инжиниринг. В Кремниевой долине распространился принцип «Двигайся быстро и совершай ошибки», где быстрый технологический рост важнее ответственного поведения. И хотя руководители корпораций время от времени разглагольствуют о своей роли защитников общественных интересов – за редким исключением, они вспоминают об этом все меньше и меньше.
Сегодня мы свидетели того, что корпорации и их титаны-владельцы обладают невообразимым богатством и властью, бо́льшим, чем можно было представить во времена Ост-Индской компании. Но все мы забыли основную миссию корпорации: быть инструментом для создания процветающего общества. И в этом заключается опасность. Со временем появлялись все более изощренные способы, с помощью которых недобросовестные менеджеры могли перехитрить систему, чтобы нажиться на людях. Будущее глобальной экономики зависит от того, вернемся ли мы к первоначальному замыслу создания корпораций или же окончательно погрузимся в болото максимизации прибыли любой ценой.
В этой книге я попытался изобразить мир корпораций, изучению которого посвятил свою карьеру. После окончания юридического факультета Гарвардского университета права я работал юристом в отделе слияний и поглощений Sullivan & Cromwell. Это одна из самых известных юридических фирм Уолл-стрит. Ее юристы выступали консультантами при строительстве Панамского канала и создании компании U.S. Steel.
Среди ее выпускников – судьи Верховного суда, руководители ЦРУ, государственные секретари. Сегодня эта организация консультирует крупнейшие мировые корпорации по наиболее значимым сделкам, и в свое время я работал над некоторыми из них. И хотя в итоге я оставил эту сферу ради научной карьеры, всегда буду благодарен за предоставленную мне возможность увидеть внутреннюю кухню корпораций: как они работают, что ими движет и чего они хотят.
Фактически идея этой книги впервые пришла мне в голову, когда я работал в Sullivan & Cromwell. Это случилось примерно в час ночи, в будний день. Я сидел в своем кабинете на 36 этаже, где располагалась знаменитая группа слияний и поглощений. На столе лежал недоеденный ужин из доставки тайской кухни, который оплатила компания. Над головой на стене висела картина Ротко. Мой коллега ушел домой, и в кабинете стояла жуткая тишина. Я был напряженным и усталым. Просмотрев свой наспех набросанный список дел, я понял, что мне предстоит еще несколько часов работы, прежде чем я тоже смогу уйти. В порыве чего-то похожего на экзистенциальный кризис я отодвинул стул и подошел к окну. Вдалеке блестела статуя Свободы. Внизу, у обочины, длинная вереница черных машин замерла в ожидании, чтобы развезти сотрудников по домам. То, что я видел, обладало некоторым великолепием и в то же время давило.
Я спросил себя: «Как же так вышло? Как мы пришли к этому? Целое поколение умной, добросовестной молодежи посвящает каждый час своего дня тому, что преследует цели корпораций? Что все это значит?» В этот момент озарения я понял, как необходима такая книга. Нам нужно рассказать историю корпораций, поместить их в исторический контекст, показать, каким образом они стали – к сожалению или счастью – тем, чем являются сейчас. Их история поможет нам понять наш собственный путь.
В конце концов я ушел из Sullivan & Cromwell и стал профессором права. Теперь я веду занятия по корпоративному праву, слиянию и поглощению, международному бизнесу. Рассказываю анекдоты о своем опыте работы на Уолл-стрит, по мере сил и возможностей консультирую своих студентов по вопросам ориентирования в мире, где доминируют корпорации. Но я никогда не забывал о тех больших идеях, которые не лежат на поверхности. Каждый год я начинаю первую лекцию курса корпоративного права с простого вопроса студентам: «Какая у корпораций миссия?» Подавляющее большинство отвечает: «Получение прибыли». Если на них надавить, они могут уточнить: «Получение прибыли акционерами». Как мы узнаём в течение семестра, это более или менее правильный ответ с точки зрения современного законодательства.
Суды неоднократно давали постановление, что генеральные директора компаний прежде всего обязаны защищать интересы акционеров, а те, в свою очередь, прежде всего заинтересованы в получении прибыли. Однако из этой книги мы узнаем, что это совершенно неверно с исторической точки зрения. Для Елизаветы I стало бы большой неожиданностью обнаружить, что она учреждает Ост-Индскую компанию, чтобы набить карманы кучке лондонских торговцев. Авраам Линкольн тоже очень бы удивился тому, что создает железнодорожную компанию Union Pacific, чтобы обогатить нескольких бостонских капиталистов. Их целью было нечто гораздо более великое и важное – благо своих народов.
Я надеюсь, что эта книга станет своего рода путеводителем. Она покажет, как с течением времени корпорации приобрели ту форму, в которой они существуют сегодня, в чем они преуспели и в чем потерпели поражение, как они возвышались и как разрушались. Но самое главное: мы вернемся к мудрости Диккенса и рассмотрим сложную, противоречивую, постоянно меняющуюся роль корпораций в создании и поддержании «богатства, счастья, комфорта, прав, свобод и самого существования великого народа».
Глава 1
Корпус экономики
В 215 году до н. э. империи находились в состоянии войны. Рим и Карфаген, две великие державы Средиземноморья, вели ожесточенную борьбу за выживание. Эпический конфликт распространялся от берегов Испании до земель Греции и песков Туниса. В нем участвовали народы Галлии, Нумидии, Македонии и Сиракуз. Победитель претендовал на огромные территории Европы, Африки и Азии, а проигравший мог быть стерт с лица земли. Это была самая настоящая борьба за будущее западного мира.
Война длилась десятилетиями. Но теперь Карфаген оказался на пороге победы. В 218 году до н. э. карфагенский полководец и военный гений Ганнибал совершил рискованный маневр и перешел через Альпы в Италию. Его огромная армия состояла из тяжелой пехоты, конницы и боевых слонов. С минимальными потерями он быстро разгромил римлян в сражениях при Треббии и Тразимене. Затем в битве при Каннах одержал сокрушительную победу над самым большим войском, которое когда-либо собирала Римская республика, – численностью 86 000 солдат. Ущерб Риму был огромный: около 76 000 человек убили, и 10 000 оказались в плену. За один день погибла пятая часть мужчин призывного возраста, в том числе 80 из 300 сенаторов республики. После этого Ганнибал свободно разорял деревни, опустошал поля и набирал войска в городах южной Италии. Союзники Рима массово дезертировали, когда увидели, что произошел перевес в пользу Карфагена. Для молодой республики ситуация была плачевной.
История о том, как Рим оправился от поражений, изгнал Ганнибала из Италии и в конце концов уничтожил его армию, хорошо известна любому студенту исторического факультета. Римляне применили знаменитую Фабиеву тактику. Они избегали крупных изнурительных столкновений и вместо этого участвовали лишь в небольших стычках. В результате война затянулась. Ганнибал и его войско застряли в полевых условиях вдали от дома на неопределенный срок. Талантливый римский полководец Сципион Африканский выиграл крупные сражения в Испании, а затем отплыл в Африку, где создал угрозу самому Карфагену. Ганнибал был вынужден покинуть Италию, чтобы защитить свою родину. И в конце концов потерпел поражение от Сципиона в битве при Заме.
Однако немногие знают о роли капиталистов в этой победе. Именно они позволили Риму продолжить войну. В 215 году до н. э., когда Ганнибал свободно находился в Италии, Публий Корнелий Сципион (отец Сципиона Африканского) сообщил в Сенат из Испании плохие новости. Ему отчаянно не хватало припасов, больше невозможно было содержать войска. Он рисковал потерять и армию, и всю Испанию. Но поскольку римская казна была почти пуста, государство не могло предоставить все необходимое. Пойдя на крайние меры, Сенат обратился к жителям Рима с отчаянной просьбой: обеспечить солдат одеждой, зерном, а также снаряжением из своего кармана и получить компенсацию, как только казна пополнится. В ответ на это три компании (или же в оригинале на латыни – societates), которые состояли из 19 человек, согласились снабдить армию. Взамен они попросили лишь освободить их от воинской повинности и возместить убытки в случае утери груза в море из-за шторма или вражеских действий. Сенат согласился на эти условия.
Компании выполнили свое обещание. В «Истории Рима» Ливий писал: «Все припасы были великодушно закуплены по соглашению и добросовестно доставлены, солдатам была оказана не меньшая щедрость, чем если бы они содержались, как и прежде, за счет изобильной казны». Сципион с братом получили провизию и смогли перейти в наступление. В нескольких сражениях они разгромили войска Гасдрубала. Такая череда побед убедила «почти весь народ Испании» перейти на сторону Римской республики. Ливий писал, что эта ситуация стала свидетельством добродетели римских граждан и подчеркивала бескорыстность частных компаний, которые снабдили армию не ради наживы, а из чувства долга перед своей страной. «Этот нрав и любовь к отечеству, – говорил Ливий, – в равной мере пронизывали все сословия».[4][5]
То, что случилось, говорит не только о характере римских граждан, но и проливает свет на еще одну важную особенность античного мира – мощь экономики и частного предпринимательства. Группа из всего трех компаний смогла обеспечить необходимыми припасами армию Публия Корнелия Сципиона в Испании. Это говорит о том, что предприятия были крупными и наверняка имели доступ к капиталу, зерну, одежде, кораблям, человеческим ресурсам и многому другому. Они должны были прочно закрепиться в структуре римского общества, раз Сенат решил заключить контракты. И их вмешательство изменило ход войны.
Это был знаменательный момент в истории Римской республики. Правительство на грани краха выручила группа могущественных компаний. Как писал Ливий, во время одного из серьезнейших кризисов «республика воспрянула благодаря частным деньгам»[6].
Сегодня мы определяем корпорацию как деловую организацию, которая обладает определенным набором признаков. Наличие акционеров, бессрочное действие, ограниченная ответственность у ее владельцев. Она даже приравнивается к человеку – в том смысле, что у нее есть обязательства по своему счету и возможность совершать сделки. Кроме того, корпорация имеет конституционное право на свободу слова, согласно известному высказыванию судьи Верховного суда Энтони Кеннеди в его решении по делу «Citizens United против Федеральной избирательной комиссии». Эти организации легко определить по названиям, которые заканчиваются на Inc, Corp, Co или производные.
Однако римские корпорации значительно отличались. Они занимались исключительно государственными заказами: строили дороги, собирали налоги, содержали армию. В управлении стояли представители одного социального класса – римские всадники. Не на всех владельцев распространялась ограниченная ответственность. К тому же они были печально известны своим воинственным настроем, их часто обвиняли в лоббировании новых завоеваний.[7]
Однако наследие римских корпораций позволяет понять, почему эти организации сохранились до наших дней и именно в той форме, которую имеют сегодня. Государство и корпорация в Древнем Риме были хорошими партнерами в масштабном проекте построения процветающего и благополучного общества. Правительство предоставляло особые права и привилегии в обмен на заслуги перед республикой. Эти отношения были взаимовыгодными. Льготы повышали эффективность и стабильность предпринимательской деятельности, которая в свою очередь шла на благо республики.
В книге «О монархии» Данте Алигьери пишет о римлянах следующее: «Этот святой, благочестивый и славный народ подавлял всякую алчность, вредную для общества, и ценил всеобщий мир и свободу настолько, что, кажется, пожертвовал собственные преимущества ради всеобщего благоденствия человечества». Несмотря на свою гениальность, в этом Данте оказался неправ. Римляне на протяжении всей своей истории проявляли постоянную – порой поразительную – тягу к богатству и роскоши. Также в их жизни было много насилия и жестокости. Однажды величайший римский завоеватель Юлий Цезарь отрубил руки всем мужчинам призывного возраста, которые остались в капитулировавшем галльском городе. Самый богатый человек Рима Марк Лициний Красс создал частную пожарную службу, которая отказывалась тушить горящие дома до тех пор, пока хозяева не продавали их Крассу за гроши. Выдающийся государственный деятель Рима Катон Старший видел процветание соседнего города Карфагена и, независимо от темы выступления, всегда заканчивал свои речи фразой “Carthago delenda est” – «Карфаген должен быть разрушен». Возможно, у Данте было богатейшее воображение, которое позволило ему нарисовать картину того, что римляне подавили в себе алчность и пожертвовали собой ради общего благополучия человечества[8].
В то же время в представлении Данте о Древнем Риме содержится важная крупица истины, которую часто упускают из виду. Может, римляне и не избавились от жажды наживы, но они прекрасно понимали, насколько важно направлять ее на благо общества. Действительно, связь бизнеса с государством была настолько тесна, что в определенные моменты истории разница между ними в некоторых сферах исчезала. К примеру, это случилось во время Второй Пунической войны, когда, как писал Ливий, страна продолжала существовать только за счет частных средств. Предприниматели всегда играли важную роль в римских войнах – как в их ведении, так порой и в разжигании. Со временем такие отношения привели к разработке продуманных и изощренных механизмов, которые позволяли бизнесу получать прибыль и одновременно приносить пользу самой империи. Мы обязаны римлянам всем: и языком, и правительством, и законами. Поэтому неудивительно, что идея корпорации также произошла из Древнего Рима.
Роль корпораций в Римской республике стала предметом некоторых дискуссий. Во-первых, всегда возникает проблема, как использовать современные термины для описания древних реалий. Были ли римские societates тем же самым, что и современные корпорации? Конечно, нет. Тогда не существовало ни государственных секретарей, которые выдают свидетельства о регистрации, ни обширных бизнес-кодексов для регулировки размещения ценных бумаг, ни судебных исков акционеров и обязанностей директоров. Но обладали ли societates основными чертами того, что мы сегодня называем корпорацией? Похоже, что да, особенно в случае отдельного типа обществ, которые называли societas publicanorum. Но о них чуть позже.
Во-вторых, возникает вопрос, связанный со структурой и функциями римского бизнеса. Некоторые исследователи считают, что дошедшие до нас записи римских писателей подтверждают то, что в Древнем Риме был большой и активный фондовый рынок, на котором акции компаний могли торговаться среди населения примерно так же, как на современной фондовой бирже. Другие не согласны с этим и считают, что такие исследования искажают известные данные. Эта книга не разрешит дискуссию, но стоит иметь в виду, что существуют определенные разногласия по этим и другим важным фактам экономической жизни Древнего Рима[9].
Учитывая это, мы можем обратиться к тому, что уже знаем об устройстве римских предприятий.
С момента своего мифического основания братьями-близнецами Ромулом и Ремом в 753 году до н. э. и до становления империи при Августе в 27 году до н. э. Древний Рим так и не обзавелся атрибутами большого государства. Этот факт поразителен. Рим вырос из небольшой деревушки на берегах Тибра и превратился в огромную мировую державу, которая правила на территориях от плоскогорий Испании до побережья Сирии, от пустынь Сахары до берегов Франции. При этом в республике практически не было бюрократии – лишь горстка государственных служащих. Управляли страной в основном сенаторы и несколько назначенных ими чиновников. Также отсутствовал институт гражданского администрирования, который должен был решать многочисленные повседневные задачи – а их становилось все больше. Поэтому возник вопрос: как Римская республика контролировала свое стремительно растущее могущество? Окончательный ответ так и не был найден. Пока на смену республиканской форме правления не пришла империя с ее захватнической политикой, одним из кусочков пазла было то, что правительство привлекало все больше предпринимателей, для того чтобы выполнять государственные обязанности. В частности, через так называемые societas publicanorum.
Societas publicanorum дословно переводится как «общество мытарей». Кем же они были? Для христиан это название имеет явно негативный оттенок. В Библии они упоминаются много раз – и ни разу в положительном свете. Апостол Лука, например, рассказывает о том, как Иисус встретил мытаря по имени Левий и устроил в его доме большой пир. Фарисеи, когда увидели Иисуса в таком обществе, спросили его: «Для чего ешь и пьешь Ты с мытарями и грешниками?» Иисус ответил: «Не здоровые имеют нужду во враче, а больные. Я пришел призвать не праведников, но грешников к покаянию». С тех пор мытари и понятие греха были тесно связаны[10].
Однако римляне, которые жили во времена Римской республики, относились к мытарям совершенно иначе. Это сословие уважали и даже почитали в обществе. Их название говорит о тесной связи с государством: publica означает «государственный», а res publica – «государственное дело» или «республика». Сами publicani были государственными подрядчиками, то есть частными лицами, которым поручали выполнять государственные обязанности. Поскольку бюрократия была не сильно развита, республика в значительной степени зависела от мытарей, которые помогали ей функционировать.
Мытари появились на заре существования республики. Блэкстон даже утверждал, что их создал мифический римский царь Нума Помпилий. Однако первое историческое упоминание о них встречается в труде Дионисия Галикарнасского, который писал, что в 493 году до н. э. правительство заключило договоры с частными лицами на строительство храмов в честь римских богов Цереры, Либера и Либеры. Плиний указывал, что мытари были обязаны поставлять лошадей для скачек, а также кормить гусей на Капитолийском холме. Возможно, звучит как что-то незначительное, но в Риме это считали очень важным и даже почетным делом, поскольку гуси предупредили римлян о нападении галлов во время захвата города в 390 году до н. э.[11]
К III веку до н. э. мытари прочно укоренились в рабочих процессах римского государства. Например, во время Второй Пунической войны они были достаточно организованны, чтобы коллективно влиять на правительство и заставить его продлить контракты на восстановление храмов и поставку лошадей для скачек. Но их деятельность к тому времени была гораздо шире. Они одновременно удовлетворяли общественные интересы (opera publica et sarta tecta) и развивали государственную собственность, например рудники и каменоломни (ager publicus). На самом деле, поражающая искусность римских городов – во многом заслуга мытарей. Они сооружали и содержали практически все, что древний римлянин мог увидеть во время прогулки, включая дороги, городские стены, храмы, рынки, базилики, статуи, театры, акведуки, городскую канализацию и цирк. Римские легионы также во многом обязаны мытарям своими военными победами, поскольку они снабжали армию продовольствием, одеждой, лошадьми и снаряжением даже после разрушений, которые оставил Ганнибал[12][13][14].
Но наибольшую известность мытари обрели за обратную сторону своей деятельности – сбор налогов, который был для них значительным источником дохода. Действительно, многие переводчики интерпретируют термин publicanus просто как «сборщик налогов» или «земледелец». Идея сбора налогов сегодня многим незнакома, но в древнем мире она широко практиковалась. В Риме это было важнейшим (возможно, основным) средством финансирования государства. По словам Цезаря, «есть две вещи, которые создают, защищают и увеличивают суверенитеты: воины и деньги, – и эти две вещи зависят друг от друга». В Римской республике существовало множество различных форм налогообложения, но в целом это бремя несли завоеванные территории. Налоги могли быть высокими. Например, в Сицилии и Азии крестьяне ежегодно отдавали 10 % от своего сельскохозяйственного производства. Если к юрисдикции Рима присоединялась новая провинция, она сразу становилась объектом налогообложения. Но поскольку административное управление не было сильно развито, республика не могла обеспечить сбор налогов, которые ей причитались. Эта проблема только усугублялась по мере того, как империя росла на весь континент. Сенат решил ее с помощью откупа и, вместо того чтобы самостоятельно контролировать процесс, устраивал для частных компаний, которые имели с этого выгоду, торги за право собирать налоги[15].
Процесс продажи такого права носил формализованный характер. Торги проводили на Римском форуме, а управлял ими цензор. По закону аукционы должны были проходить публично, перед жителями Рима, чтобы процесс был открытым и прозрачным. Римские цензоры заранее определяли условия договора, а затем выставляли его на торги. Главы (manceps) различных societates поднимали руки, если были готовы заплатить цену, которая постоянно росла. По окончании аукциона компания-победитель должна была внести в римскую казну фиксированную сумму (иногда сразу, а иногда в рассрочку в течение всего срока действия контракта). Взамен она получала право отправиться в провинцию и собирать с ее жителей налоги. Это была взаимовыгодная система для Римской республики и societates, хотя, возможно, не столько выгодная для самих жителей провинций. Казна получала гарантированную сумму, и ей не нужно было заниматься администрированием своей налоговой системы (что, скорее всего, было невозможно, если судить по мизерному размеру бюрократического аппарата). В свою очередь, компании могли многократно отбить свои вложения, если прикладывали достаточно усилий к работе по сбору налогов с зажиточных провинций. Со временем societates превратились в нечто узкоспециализированное, а отдельные предприниматели приобрели репутацию постоянных участников аукционов[16][17][18].
Мытари быстро стали важными и богатыми членами римского общества. Их достижения широко освещались в публичных выступлениях того времени. Например, Марк Туллий Цицерон часто высоко оценивал их роль в поддержании республики. Однажды он защищал городского служащего Гнея Планция от обвинений во взяточничестве и отметил, что тот был сыном видного мытаря, который поставлял лошадей для скачек. «Кто же не знает, какую огромную помощь оказывает это сословие [то есть мытари] любому человеку, который ищет какой-либо чести? Ведь в нем заключен цвет римских всадников, украшение государства и великий оплот всей республики». Ко времени правления Цицерона, Цезаря и Августа publicanus превратились в мощную экономическую и политическую силу[19].
Но мытари смогли подняться до тех головокружительных высот власти и богатства, которых достигли в I веке до н. э., только благодаря важному изменению в структуре своего бизнеса. Они не сразу поняли, что вместе станут гораздо сильнее, чем если будут действовать в одиночку. Как обособленные граждане, они никогда бы не имели средств, которые необходимы для реализации масштабных проектов по снабжению армий и строительству храмов. По отдельности они были подвержены всем тем обстоятельствам судьбы, которые сдерживают человеческие амбиции, таким как болезни, увечья и смерть. Объединенными усилиями оказалось возможно добиться гораздо бо́льших свершений, чем порознь. Да и с точки зрения римского правительства идея общества мытарей, которое призвано содействовать развитию государства, была очень привлекательной. Проблема заключалась в том, что смерть одного из них могла прервать работу государственных услуг или перекрыть поток доходов.
Так возникла идея societas publicanorum, у которых был особый набор прав и привилегий. В таком виде это было очень похоже на современную корпорацию. В первую очередь societas признали организацией, отдельной от своих владельцев. В этом заключается важное отличие от типичного римского товарищества, где партнеры могли нести ответственность за действия других его членов. Если один не заплатил за что-то вовремя, другой мог лишиться собственности. Societas также могли участвовать в переговорах и заключать договоры от своего имени. В «Дигестах» сказано, что такая компания могла «действовать как человек», потому что была отдельной от своих владельцев единицей. Это также означало, что организация продолжала существовать даже после смерти одного из членов, или socius. Во-вторых, у societas были свои акции, или partes, которые представляли собой доли в фирме, приобретаемые у других акционеров и непосредственно у самой компании. По-видимому, их ценность тоже варьировалась, судя по тому, что Цицерон писал о partes illo tempore carissimas, или же акциях, которые в то время были очень дорогими.
В-третьих, поскольку многие акционеры не хотели принимать участие в реальном управлении компанией, в societas сформировался класс менеджеров, которые занимались непосредственно ведением бизнеса. Такое разделение создало новую напряженность и необходимость регулировать отношения между двумя группами. Так, например, чтобы управляющие не могли скрыться с деньгами акционеров, они должны были составлять публичные отчеты (tabulae) о деятельности организации, где указывали ее доходы и расходы. Более того, по-видимому, проходили даже собрания, на которых управляющие и владельцы могли совместно обсуждать дела компании[20].
Иерархия societas в итоге тоже оказалась похожа на иерархию современной корпорации. Во главе стоял manceps. Как мы уже знаем, это человек, который непосредственно участвовал в тендерах на заключение контрактов. Он также был обязан следить за тем, как компания соблюдает контракт. Обычно гарантии были в виде земли, которой manceps владел лично. Если societas не выполняло свои обязательства, Римская республика могла изъять его землю в качестве компенсации. Также существовала группа других socii, или партнеров, которые предоставляли организации капитал и иногда – но не всегда – давали гарантии в виде заложенного имущества. Вместе с manceps они создавали компанию и регистрировали ее у цензора. Socii, как и нынешние акционеры, не занимались делами предприятия, а передавали это право magistri, которых можно сравнить с советом директоров в современной корпорации. Управляющих избирали каждый год и часто меняли[21].
Такая сложная структура позволила societates вырасти в обширные институты. Их доходы были огромными. Стоимость одного из контрактов на поставку тог, туник и лошадей, который был заключен во II веке до н. э., составила около 1,2 миллионов денариев, что равносильно годовому жалованию 10 000 солдат. Сумма другого контракта, на строительство акведука «Аква-Марция», составила 45 миллионов денариев, что можно было сравнить с состоянием самого богатого гражданина Рима Марка Красса. Societates вели свою деятельность по всему римскому миру, от рудников Испании до земель Митридата. Поэтому существовала быстрая и эффективная система курьеров, которая позволяла оставаться на связи на расстоянии тысяч километров. Эти курьеры настолько прославились своей скоростью и надежностью, что Римская республика иногда нанимала их, чтобы передавать собственные сообщения.[22][23]
Управлять корпорацией было выгодно. Помимо богатства, руководители занимали влиятельные позиции в обществе и в политике. Как следствие, им потакали на каждом шагу. Люди обращались к ним maximi (превосходный), ornatissimi (высокочтимый), amplissimi (высокопоставленный), primi ordinis (первого ранга, высокоранговый). В 129 году до н. э. Римский сенат даже принял закон, чтобы выделить четырнадцать рядов на играх для римских всадников. Это было античной версией корпоративной ложи[24].
Однако выгоду получали не только руководители societates. Население тоже обогащалось. Частично за счет постоянного роста доходов государства, а частично потому, что обычные римляне так же могли владеть акциями. Бюджет Римской республики в общих чертах описывает финансовую историю.
В III веке до н. э. доходы государства составляли около четырех–восьми миллионов сестерциев в год. К 150 году до н. э. они выросли до 50–60 миллионов сестерциев. А к 50 году до н. э., в период максимального развития societates, доходы республики возросли до 340 миллионов сестерциев в год. Резкий рост благосостояния государства позволил начать значимые общественные работы в невиданных до этого масштабах. Строили дороги, храмы, акведуки, канализации и, конечно же, цирки. Также жители Рима могли получать личную выгоду от деятельности корпораций. Судя по всему, в обществе широко распространялись акции societates. Полибий писал: «Едва ли найдется душа, которая, скажем, не была бы заинтересована в этих [государственных] контрактах и извлекаемой из них выгоды». Акции римских компаний свободно продавались среди граждан, как правило, в храме Диоскуров на Форуме. Полибий описывает масштабы этого бизнеса так: «Число контрактов столь большое, что его нелегко подсчитать. Цензоры выдают их по всей Италии на строительство и ремонт общественных зданий и на многое хозяйство, например судоходные реки, гавани, сады, рудники, земли – в общем, все, что входит в римские владения». Современные исследователи, возможно, преувеличили известные данные, но при этом пришли к выводу, что в Риме существовал настоящий рынок капитала. Историк экономики Уильям Каннингем в своем классическом труде «Эссе о западной цивилизации» писал: «Форум с его базиликами можно рассматривать как огромную биржу, где постоянно происходили различного вида денежные спекуляции». Другой исследователь описывал сцену на Форуме более эмоционально: «Толпы людей покупали и продавали акции и облигации мытарских компаний, различные товары за наличные и в кредит, фермы и поместья в Италии и в провинциях, дома и магазины в Риме и где-то еще, корабли и склады, рабов и скот»[25].
Но вместе с ростом размеров и мощи компаний увеличивалась и их потенциальная опасность для республики. Проблемами были мошенничество и коррупция. В своей «Истории Рима» Ливий описывает аферу, которую организовали два мытаря. Это случилось во время Второй Пунической войны, когда Римская республика была вынуждена воспользоваться услугами частных подрядчиков, для того чтобы снабжать войска в полевых условиях. Два беспринципных предпринимателя заметили в условиях своих контрактов лазейку. Договор предусматривал, что в случае потери припасов в море правительство возместит убытки, но у государства не оказалось возможности проверить, что именно было утеряно. Поэтому мытари решили пойти на обман. Выбирали старые шаткие суда, загружали их небольшим количеством товара самого низкого качества и намеренно топили. Затем они обращались к правительству с заявлением, что потеряли ценный груз. Выгода была налицо. В конце концов Сенат узнал об уловке и выдвинул обвинения. Долгий судебный процесс закончился беспорядками, когда другие мытари стали протестовать против обвинений «двум из их числа» и напали на зал заседаний. Правительство это не устрашило, и оно назначило другую дату, но на этот раз подсудимые обратились в бегство[26].
Societates также заслужили плохую репутацию благодаря своей беспощадности. В 104 году до н. э. римляне попросили Никомеда III из Вифинии, союзника Рима, выделить армию для войны с германскими племенами на границе. Никомед ответил, что у него нет свободных граждан, так как «большинство вифинов находятся в рабстве у мытарей». Сенат, видимо, потрясло такое открытие, и он постановил, что с этого момента запрещается обращать в рабство граждан союзных государств. То, что до указа Сената это было законно, пожалуй, можно назвать самой примечательной частью истории. Но на самом деле societates делали людей своими рабами совершенно открыто и зачастую с большой выгодой. На одних только серебряных рудниках Нового Карфагена работали сорок тысяч рабов, и их жизнь там была отвратительной. Греческий историк Диодор Сицилийский писал:
«Люди, которые трудятся на рудниках, приносят своим хозяевам невероятно большие доходы. Но работа под землей днем и ночью истощает организм, многие из них умирают от исключительно тяжелых условий. Им не дают ни послаблений, ни отдыха. Избиения надсмотрщиков вынуждают терпеть страшные муки и так убого расставаться с жизнью. Есть те, кто может долго выносить это благодаря силе своего тела и духа, но и они выбирают умереть. Даже не пытаются выжить из-за столь адских страданий»[27].
Злоупотребления, которые допускали societates, вызывали резкую критику как в античное время, так и сегодня. Ливий писал: «Где есть мытарь, там нет ни действующего закона, ни людской свободы». Гарвардский классик Эрнст Бадиан пришел к выводу, что мытари «были проклятием и бичом завоеванных народов, они в значительной степени несут ответственность за враждебность к римской власти среди подданных и, возможно, даже за падение Римской республики». Римляне ощутили на себе, насколько опасными могут быть частные компании, которые не направили в нужное русло[28].
Бадиан утверждал, что римские societates, вероятно, ответственны за падение Римской республики. Это довольно смело, так как другие причины имели куда больший вес. Конфликт между богатыми и бедными, рост мощи армии, непомерные амбиции Цезаря, ожесточенная подозрительность Сената. Но если внимательно посмотреть, можно обнаружить влияние корпораций почти во всех этих сферах.
Мы можем понаблюдать за судьбой societates в I веке до н. э. и в подробностях рассмотреть бурный период с момента падения республики до возвышения империи. Основным конфликтом в римском обществе того времени было столкновение между богатыми сенаторами и бедными плебеями. Баланс между ними оставался неустойчивым на протяжении всего столетия. В период правления братьев Гракхов, популистов, силы Сената ослабли, так как в противовес ему Гракхи предоставили особые права отдельному сословию римских всадников. Одним из наиболее важных решений стало то, что societates publicanorum получили права на сбор налогов в Азии, богатейшей части Рима. Это дало компаниям больше прибыли и власти, а также привело к снижению влиятельности Сената, поскольку сенаторам было запрещено участвовать в деятельности societates[29].
Цицерон, знаменитый оратор, философ и политик, особенно хорошо умел завоевывать расположение корпораций и на протяжении всей своей карьеры пользовался этим. Он сам был выходцем из сословия всадников, и многие из его ранних выступлений были о защите интересов societates перед Сенатом. Во время войны Рима с Митридатом Понтийским в 66 году до н. э. по просьбе группы мытарей он произнес одну из самых известных своих речей – «О предоставлении империя Гнею Помпею». Цицерон говорил о том, что руководство военными действиями необходимо возложить на опытного полководца Гнея Помпея Магнуса. В защиту этой позиции он указывал на крупные инвестиции societates в Азии, которые могли оказаться под угрозой в случае победы Митридата в войне. А если компании понесут убытки, это станет поражением и для Римской республики, утверждал Цицерон.
«В ту провинцию перенесли свои дела и средства откупщики, почтеннейшие и виднейшие люди, а их имущество и интересы уже сами по себе заслуживают вашего внимания. И право, если мы всегда считали подати жилами государства, то мы по справедливости назовем сословие, ведающее их сбором, конечно, опорой других сословий. <…> Следовательно, вы по своей доброте должны уберечь своих многочисленных сограждан от несчастья, а по своей мудрости должны понять, что несчастье, угрожающее многим гражданам, не может не отразиться на положении государства. <…> Далее, то, чему нас в начале войны в Азии научили та же Азия и тот же Митридат, мы, уже наученные несчастьем, должны твердо помнить: когда очень многие люди потеряли в Азии большие деньги, в Риме, как мы знаем, платежи были приостановлены и кредит упал. Ибо многие граждане одного и того же государства не могут потерять свое имущество, не вовлекая в это несчастье еще большее число других людей. Оградите наше государство от этой опасности и поверьте мне и своему собственному опыту: кредит, существующий здесь, и все денежные дела, которые совершаются в Риме, на Форуме, тесно и неразрывно связаны с денежными оборотами в Азии; крушение этих последних нанесет первым такой сильный удар, что они не могут не рухнуть. Решайте поэтому, можно ли вам еще сомневаться в необходимости приложить все свои заботы к ведению этой войны, во время которой вы защищаете славу своего имени, неприкосновенность союзников, свои важнейшие государственные доходы, благосостояние многих своих сограждан, тесно связанное с интересами государства».
Цицерон понимал, что societates настолько переплелись с государством, что приобрели значение на уровне целой системы. Если они потерпят неудачу, то вовлекут за собой в несчастье многих других людей. Римская Республика просто не могла этого допустить[30].
В то же время Цицерон не закрывал глаза на злоупотребления корпораций. В письме к брату с советами о том, как управлять провинцией, он однажды написал:
«Однако тебе в этих твоих добрых намерениях и заботах большие затруднения создают откупщики. Если мы будем противодействовать им, то мы оттолкнем от себя и от государства сословие, оказавшее нам значительные услуги и связанное через нас с государством; если же мы будем уступать им во всем, то мы позволим окончательно погибнуть тем, о чьем не только благе, но даже выгоде мы должны заботиться. <…> Пусть Азия также подумает, что она не была бы избавлена ни от одного бедствия, от внешней войны и внутренних раздоров, не будь она под нашим владычеством. Но так как эта власть никаким образом не может быть сохранена без уплаты дани, то пусть Азия без сожаления ценой некоторой части своих доходов покупает вечный мир и спокойствие».[31]
Цицерон знал, что корпорации жестоко обходились с жителями провинций, но считал альтернативу вообще не быть частью Рима для них еще хуже. Римскую империю он воспринимал как наивысшее благо, и все, что шло ей на пользу, стоило того. Как писал он одному из друзей: «Ты, видимо, хочешь знать, как я поступаю с откупщиками. Отношусь к ним как к любимцам, угождаю, хвалю на словах, уважаю, но стараюсь, чтобы они никому не были в тягость»[32].
Два ближайших союзника Цезаря, Помпей и Красс, также были тесно связаны с societates. Помпей, именитый полководец, в конце концов возглавил войну против Митридата, в чем, по крайней мере, отчасти была заслуга Цицерона, который красноречиво выступал в его защиту. Так Помпей приступил к завоеванию царств Вифинии, Понта и Сирии, после чего у него появились новые обширные владения, в которых могли работать societates. В результате компании стали мощными союзниками Помпея в его политической карьере. Чего только стоит цитата философа Томаса Пейна из трактата «Права человека»: «Если бы торговле позволили действовать в том масштабе, на который она способна, она уничтожила бы систему войн». Красс, известный в основном своим богатством, также представлял интересы корпораций в Сенате, чем заслужил его поддержку. По словам оксфордского историка Чарльза Омана, «благодаря своим огромным деньгам и тому месту, которое он занял в мире финансов, [Красс] сделал себя королем и повелителем всего мытарского клана». Возможно, он даже владел акциями societates[33].
На примере одного конкретного события, произошедшего в 60 году до н. э., за год до избрания Цезаря консулом, наглядно видно, какое мощное влияние societates оказывали на политическую систему Рима в период заката республики. Компании переоценили размер налогов, которые можно было бы собрать с провинций малой Азии, и на торгах отдали больше, чем могли получить. Вышло так, что если бы societates действовали строго в условиях контракта, то понесли бы серьезные убытки. Красс решил защитить их интересы и обратился в Сенат. Цицерон описывает эту сцену в характерных для него ярких красках:
«У нас здесь общее положение непрочное, жалкое, изменчивое. Ведь ты, я думаю, слыхал, что наши всадники едва не порвали с Сенатом: сначала они были чрезвычайно недовольны, когда на основании постановления Сената было объявлено о следствии над теми, кто взял деньги, будучи судьями. Так как при составлении этого приговора я случайно не присутствовал и понимал, что сословие всадников оскорблено им, хотя и не говорит об этом открыто, я высказал упреки Сенату, как мне показалось, весьма авторитетно и говорил о нечистом деле очень веско и обстоятельно. Вот другие прелести всадников, которые едва можно вынести, а я не только вынес, но даже возвеличил их. Те, кто взял у цензоров на откуп Азию, обратились в сенат с жалобой, что они, увлеченные алчностью, взяли откуп по слишком высокой цене, и потребовали отмены соглашения. Я был первым из их заступников, вернее вторым, ибо к дерзости требовать их склонил Красс. Ненавистное дело, постыдное требование и признание в необдуманности! Наибольшая опасность была в том, что если бы они ничего не добились, то совершенно отвернулись бы от Сената – и тут я оказал им величайшую поддержку».
Судьба Римской республики, утверждал Цицерон, находилась в руках капиталистов. Однако Сенат так не считал. Он отказался принять требования корпораций и прислушался к совету сурового моралиста Катона, который настаивал на том, чтобы компании строго соблюдали условия своих договоров[34].
Решение Сената стало ударом для societates и почти наверняка сыграло роль в переговорах триумвирата. Этот союз между Цезарем, Помпеем и Крассом ради продвижения своих политических интересов в итоге привел к падению республики. Через год, в 59 году до н. э., Цезарь стал консулом, после чего быстро отменил решение Сената и изменил контракты компаний в Азии, чтобы выручить их. Хотя нам мало что известно о мотивах, которыми руководствовался Цезарь, когда принимал это решение, не исключено, что он сам был акционером societates и действовал в защиту своих интересов. Например, в одной из своих речей Цицерон делает занятное упоминание о том, что бывший трибун «вымогал у Цезаря и мытарей акции, очень ценные по тем временам». Хотя возможно и то, что Цезарь просто стремился заручиться поддержкой влиятельных избирателей[35].
Многие исследователи уловили связь между корпорациями и усилением триумвирата. Социолог Макс Вебер приписывал успех Цезаря непосредственно влиянию мытарей. В книге «Аграрная история Древнего мира» он проследил, как требования корпораций запускали цикл римских войн и какое влияние оказывали на жизнь римлян в целом. «У внешнего расширения государства была капиталистическая природа. Должностная знать старой традиции, которая хотела ограничиться политикой вмешательства, не предопределяла уничтожение старых торговых центров – Карфагена, Коринфа и Родоса. Это сделали торговцы, откупщики налогов и домены в угоду своим капиталистическим интересам». «Острую борьбу интересов» между римской аристократией, которая контролировала Сенат, и буржуазией, во владении которой были корпорации, Вебер считал ключом к пониманию развития Рима в республиканский период. «Сенаторские роды́ имели настоятельнейший интерес в том, чтобы держать “буржуазию” в политической зависимости <…> С другой стороны, постоянное увеличение шансов на прибыль вследствие завоеваний поднимало экономическую силу капиталистов, все более и более становившихся необходимыми для государственной кассы в качестве поставщиков денег и вышколенных в смысле купеческой техники организаторов взимания государственных доходов». По мнению Вебера, возвышение мытарей отметило пик античного капитализма. Однако конфликта избежать было невозможно. После того как Сенат принял реформы, которые ограничивали полномочия корпораций, буржуазия стала искать поддержки в другом месте и в конце концов нашла ее в триумвирате. «Но как раз это [то есть регулирование деятельности корпораций Сенатом] толкнуло ее в руки цезаризма, который таким образом в придачу к военному орудию своей власти получил и экономическое», – писал Вебер[36].
Однако Цезарь, по всей видимости, весьма скептически относился к корпорациям как к институту. На протяжении всей своей карьеры он проявлял поразительную симпатию к жителям провинций, что прямо противоречило интересам капиталистов. Своего высокого положения он добился после начала судебных преследований провинциальных губернаторов. Так, в 77 году до н. э., когда Цезарю было всего 23 года, он обвинил Гнея Корнелия Долабеллу, бывшего консула, в злоупотреблении властью, когда тот был на посту губернатора Македонии. Дело закрыли. И это было вполне ожидаемым результатом, если учитывать видное положение Долабеллы в обществе. Но своей убедительностью и красноречием Цезарь вызвал всеобщее восхищение[37].
Когда Первый триумвират распался и Рим погрузился в гражданскую войну, корпорации стали переживать длительный упадок. Имущество и активы компаний конфисковали противоборствующие стороны. Бизнес исчез. Впоследствии, выйдя из войны победителем, Цезарь провел ряд реформ, которые должны были ограничить власть корпораций. Он отменил некоторые налоги в Азии и Сицилии, а то, что осталось, передал в управление местным чиновникам. Таким образом, эту обязанность забрали из рук societates, а там, где они еще сохраняли свои права на сбор налогов, Цезарь уменьшил сумму, которую можно было взимать[38].
Власть корпораций стала еще слабее после убийства Цезаря в мартовские иды 44 года до н. э. Император Август провел ряд налоговых реформ, которые постепенно заменили частные societates на procuratores Augusti – непосредственных представителей Римской империи. Также принимались и другие законы, все больше ограничивающие деятельность компаний. Ко второму веку нашей эры государственная бюрократия окончательно победила, а societates publicanorum безвозвратно канули в Лету.[39]
Древний Рим показал нам суть корпораций и цель, ради которой они существуют.
Давайте сначала разберемся со вторым пунктом. Зачем нужны корпорации? В Риме их создавали для того, чтобы решать проблемы. Республика слишком далеко и слишком быстро разрасталась. Она умела завоевывать территории, и ей нужно было научиться ими управлять Но это оказалось крайне трудно, потому что государственная бюрократия отсутствовала. Кто будет обеспечивать римский народ хлебом и зрелищами? Кто будет строить мосты и дороги? Кто будет снаряжать армии? Кто будет собирать налоги? На помощь пришли societates publicanorum. Вместо того чтобы создавать государственный аппарат управления с нуля, Рим использовал деньги, рабочую силу и опыт частных капиталистов для того, чтобы выполнять ключевые функции государства. Сотрудничество было взаимовыгодным, поскольку предприниматели не смогли бы справиться с такой задачей без поддержки правительства. Это было гениальное решение. Компании оказались невероятно искусными в своей способности накапливать человеческие ресурсы и организовывать их, поэтому быстро стали неотъемлемой частью жизни республики.
Иными словами, корпорации были созданы для того, чтобы они трудились ради всеобщего блага.
Но вернемся к первому пункту – что такое корпорация. Опять же, если определять принципы их работы, первостепенное значение занимали нужды республики. В обмен на свои услуги societates получали особые привилегии и права, недоступные другим предприятиям. В каком-то смысле корпорации стали бессмертными, поскольку продолжали существовать даже после смерти своих собственников. У них были акции, которые можно было продавать, а их владельцы имели ограниченную ответственность. К societates относились как к отдельным людям, что давало возможность заключать сделки.
Становится ясно, почему возникли эти признаки. Компании с большой историей всегда надежнее, чем компании-однодневки с досадной особенностью закрываться в самое неподходящее время. Ограниченная ответственность и торговля акциями облегчали заработок, который позже шел на выплаты государству за контракты по сбору налогов. Отношение к корпорациям как к людям упрощало ведение бизнеса во всех отношениях. Подача исков, судебные обвинения, заключение договоров – все эти действия становятся легче, когда речь идет об одном человеке, а не десятках или сотнях.
Если кратко, то в основе корпорации лежит одна предпосылка: люди, которые собрались вместе в единый организм – причем не абстрактно, а в соответствии с формальными предписаниями закона, – могут достичь большего, чем когда-либо смогли бы по одиночке. Эта предпосылка объясняет и то, почему существуют корпорации, и то, что они из себя представляют. Люди создали их для того, чтобы обеспечить благосостояние государства. И они приняли такую форму, потому что мы верили в достоинства сотрудничества.
Однако опыт древних римлян служит нам предостережением. Societates publicanorum в итоге подорвали Римскую республику. Жажда наживы заставила корпорации угнетать чужие народы и требовать все новых завоеваний. Их азарт и желание рисковать привели к финансовым кризисам внутри страны. Корпоративная алчность развращала политику. Оказалось, что использовать возможности частного предпринимательства в правительственных целях опасно. Во время масштабной реструктуризации государственного аппарата Римской империи societates постепенно теряли свою значимость и в конце концов исчезли совсем.
Однако идея корпорации не исчезла. Римское право оказало огромное влияние на последующие столетия, и некоторые черты societates publicanorum проскальзывали в бизнесе по всей Европе. Однако настоящее возрождение началось более тысячи лет спустя всего в нескольких сотнях миль от Рима. На этот раз корпорация приобрела еще более мощную форму. Вместо того чтобы собирать деньги, она стала их создавать, что предвосхитило новую эру финансовых спекуляций.
Глава 2
Банк
26 апреля 1478 года Лоренцо де Медичи вошел во Флорентийский собор. Рядом с ним шел кардинал, а следом – десятитысячная толпа нетерпеливых флорентийцев. Зрелище было грандиозным, как и прозвище самого Лоренцо: Il Magnifico – Великолепный. Это была торжественная месса в честь визита кардинала. Присутствующие могли любоваться удивительной готической кампанилой Джотто и недавно завершенным куполом Брунеллески. После Лоренцо пригласил лордов, вельмож и послов на пышный банкет во дворец Медичи. Там гости могли ознакомиться со знаменитой коллекцией произведений искусства и предметов роскоши со всего мира. Гобелены, вазы, драгоценности, часы, экзотические ткани, фарфор из Китая. Среди сокровищ были две картины Боттичелли, три – Джотто и шесть – Фра Анджелико. Во внутреннем дворе стоял «Давид» Донателло.[40][41]
На тот момент Лоренцо было всего 29 лет, но он уже обладал тем особым сочетанием врожденного таланта и любознательности, которое имели все великие умы того времени. В наши дни про таких говорят «человек эпохи Возрождения». Он был народным избранником и управлял Флорентийской республикой, когда она сохраняла за собой статус самого могущественного города-государства Италии. Как хитрый дипломат, Лоренцо вел дела с герцогами, королями, римскими папами и зачастую получал от них лучшее. Он прославился большим знатоком искусства, покровительствовал величайшему в истории собранию художников, среди которых были Микеланджело, да Винчи, Боттичелли, Гирландайо. Он был талантливым наездником, участвовал в рыцарских турнирах. А в свободное время писал стихи и изучал философию.
Кроме того, Лоренцо возглавлял крупнейшее финансовое учреждение Европы – банк Медичи, который основал его прадед Джованни более восьмидесяти лет назад. Благодаря высоким прибылям банка и его международному влиянию, семья вознеслась из относительной безвестности к вершинам династийного могущества. Медичи подарили Ватикану четырех римских пап, а Франции – двух королев. Во Флоренции они обеспечили невиданный ранее расцвет знаний, искусства, литературы и архитектуры. В Италии открыли эпоху экономических и художественных преобразований, результаты которых видны по сей день. А в Европе семья Медичи показала народам путь из Средневековья в новую эру процветания.
Однако во времена войн и неустойчивых альянсов успех банка вызывал зависть и недовольство. Поэтому старинная флорентийская семья Пацци стала заклятым врагом Медичи. Одним из предков этого благородного рода был Паццино де Пацци, рыцарь, который во время Первого крестового похода опередил всех и преодолел стены Иерусалима, где водрузил флаг крестоносцев. Пацци владели банком и пострадали во время восхождения конкурентов. Попытки вернуть утраченную славу раз за разом пресекала, казалось бы, неудержимая бизнес-империя банка Медичи. Для всех было очевидно, что Пацци таили злобу на Лоренцо и мечтали о крахе его семейного дела.
Лоренцо не подозревал, что конкуренты вступили в заговор с влиятельными союзниками, для того чтобы свергнуть Медичи. И потому угодил в их ловушку.
В основе любого банковского дела лежит формула из двух переменных: вклад и кредит. Вкладчик вносит деньги в банк. Тот, в свою очередь, обязуется взамен выплачивать проценты по вкладу. Затем банк выдает кредит заемщику, которому нужны деньги. А он уже должен выплатить проценты по кредиту. И пока процент, который платит заемщик, больше, чем тот, что имеет вкладчик, банк получает прибыль.
Пока звучит складно, но ведь нет ничего особенного в том, чтобы брать за услуги больше их реальной стоимости. К этому стремятся все бизнесы. Магия банковского дела заключается в том, что происходит в результате процесса перетасовки капитала. Банки принимают вклады и выдают кредиты, чем по факту создают новые деньги. Когда вкладчик вносит свои средства, эту сумму заводят на его счет. В то же время банк выдает кредит и также делает запись на счет заемщика. Теперь есть две суммы на двух счетах и, что очень важно, обе можно использовать для оплаты. Вуаля! Банк только что создал деньги. Экономист Джон Кеннет Гэлбрейт описывал это так: «Процесс, с помощью которого банки создают деньги, настолько прост, что поражает разум. Когда речь идет о таких серьезных вещах, кажется, что даже более непостижимые загадки проще разгадать»[42].
В банковском деле есть два важных следствия для мира капитализма. Первое заключается в том, что банки всегда и везде оказывают необычайно сильное влияние на окружающую экономику. Они решают, кому выдавать деньги и в каком количестве. Перенаправляют средства тем, кто в них нуждается. Если они хорошо выполняют свою работу, это помогает двигать капитал туда, где он нужнее всего и где будет более эффективно использоваться. Отраслям в упадке, с ограниченными возможностями развития, будет все труднее получать кредиты. В то время как перспективным новым нишам их выдадут легко, потому что банки стремятся перенаправить деньги на прибыльные предприятия. Экономисты называют это распределением капитала. По словам британского журналиста Уолтера Бейджхота, «капитал Англии так же уверенно и мгновенно устремляется туда, где он больше всего нужен и где из него можно извлечь максимальную пользу, как вода всегда находит путь к самой низкой точке». Если банковская система хорошо функционирует, это будет основой всех процветающих экономик. Ведь простое решение о том, кто достоин получить кредит, может создавать или разрушать предприятия, отрасли и даже людей. Так что банковское дело – это не просто бизнес. Речь идет о том, чтобы заставить рынки работать[43]











