Читать онлайн Сын тренера
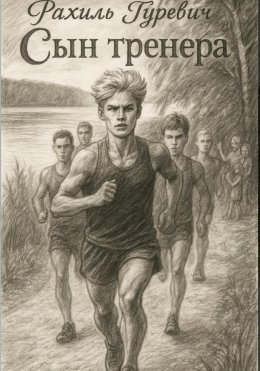
Пролог.Фиаско и надежды
Май. Я выбежал из лесопарка на дорогу, ведущую к домам. Я заканчивал утреннюю пробежку. Школьник на дороге остановил меня, округлил глаза, поправил тяжеленный рюкзак за плечами, весь встряхнулся, указал большим пальцем себе за спину, крикнул:
− Там мужик подвис и грохнулся.
Я побежал дальше. На асфальте лежал человек. На боку. Изо рта − кровь. Вокруг – люди, зеваки.
− Что с ним?
− Упал. Лежит.
− Надо поднять!
− Нет! – запротестовала грозная дама, для убедительности приподняла сумку на колёсиках, ударила ей об асфальт. Типическая такая русская женщина, из тех, которые у Некрасова и в огонь и в воду: – Нет, нет и нет! Трогать нельзя. Вдруг инсульт, вдруг ножевое ранение в живот. «Скорую» вызвали.
− Где вы видите ранение в живот? – спросил я ошарашено. Я ещё не отдышался, приходил в себя от резкой остановки. Я всегда заканчиваю пробежку по 4-101.
− Он говорит, но заплетается, бормочет что-то, я разобрал, что мобильник в кармане, достал и позвонил по первому телефону, сын уже идёт,− сказал крупный мужчина. Крупного я постоянно встречал в лесопарке. Он такой праздношатающийся. Всегда со всеми общается. И со мной пытался.
− По-моему, надо поднять. Застудит ещё что-нибудь. У меня отец на «Скорой» работает, − я набрал номер отца.
− У него отец на «скорой», отец на «скорой», – раздалось уважительное эхо.
− Но «скорую» вызвали, молодой человек! − протестовала некрасовская баба.
Я поднял руку, чтобы не мешали говорить – все замолчали.
− Пап!
− Ну?
− Тут мужчина лежит.
− Где?
− При входе в лесопарк.
− Пьяный?
− Нет.
− В сознании?
− Да.
− Упал. Я видел. Шёл и упал, − подсказывали мне все.
Я повторил «показания очевидцев».
− Подними, усади, − сказал папа. – Если сможет идти, до лавки доведи. И «скорую» встречайте. Они запутаются, куда ехать. Они в лесу всегда путаются.
− Сказал поднимать, − я отключил телефон.
Стали поднимать пострадавшего. Я открыл сумочку на поясе, достал влажные салфетки – у человека всё лицо было в крови, кровь капала на ветровку. Сначала подумал – рассёк лицо, но нет: носом ударился, кровь из носа. Видно спазм у человека, внутричерепное давление, вот и закружилась голова… Может и микроинсульт. У моего дедушки три инсульта, и несколько микро, при микро он также падал и быстро вставал. Весной, если вдруг внезапная жара, мой дед плохо себя чувствует. Лежит целый день, отдыхает.
Довели пострадавшего до скамейки − метров сорок и всё в гору. Я всё это время промакивал деду лицо. Доставал всё новые и новые салфетки. Усадили на лавку. Кто-то пошёл на улицу – «скорую» встречать.
Дед на лавке окончательно пришёл в себя − принялся благодарить, сам стал салфетку держать около лица. Худой он. Рубашка светлая, брюки. Жилистый такой пожилой мужчина, и не скажешь, что старик.
Подошла фельдшер, раскрыла чемоданчик, стала наполнять шприц, параллельно задавать вопросы: что произошло, что болит… Пострадавший отвечает: шёл, упал, очнулся – лежу. Я эту фельдшерицу знаю, мне папа рассказывал о ней. Симпатичная, стрижка у неё такая − полголовы сбрито. Папа говорит, она дерзкая, отшивает только так водил – водители к ней постоянно подкатывают. Папа на кардиологической «скорой», на самой крутой. Есть ещё гинекологическая на нашей подстанции, там денег дают, чтобы в нужный роддом отвезли или хорошую больницу2. На детской тоже врачам подбрасывют – на детей никогда ничего не жалеют. Пока все эти проверки на подстанциях не начались, папа вообще хорошо зарабатывал. Сейчас хуже стало. Жалобы в интернет строчат все, кому не лень. Некоторых фельдшеров показательно поувольняли, врачей не тронули. Взяток теперь все боятся. Но жить-то все хотят. Бесплатная медицина сами знаете какая. На самом деле бесплатная она условно. Вот люди и дают, чтобы получше укол, кардиограмма, не выходя из квартиры – всё равно это дешевле на порядок, чем платно врача вызывать.
Тут как раз сын пострадавшего подошёл:
− Папа! Ну как же так!
− Да вот вышел, − оправдывался «папа» нетвёрдым слабым голосом. – Иду, голова закружилась, ноги подкосились − шлёпнулся.
Сын расстроено качал головой: «Папа, папа». У сына наверняка планы, а теперь – отец заболел. Надо врача, надо уход. Это всё нервы, время, да и расходы…
Я собрал все кровавые салфетки в пакетик. Сын меня благодарил.
− Не стоит, − сказал я, – благодарности. − Мне, ей богу, не сложно.
Потом, недели через две, у меня как раз сессия началась, я встретил в лесопарке − отца и сына, но они меня не узнали, хоть я прямо мимо них пробежал. А больше я их не видел. На дачу, наверное, вывезли «папу».
Множество раз этим летом в круизе по Волге я вспоминал человека на асфальте, в крови, с покарябанным носом. Я и осенью, когда учёба началась, тоже его вспоминал. Но летом − постоянно. В круизе, если выходной, скучновато. Отдыхающие с обслугой не очень общаются − вот я всё и думаю… Смотрю на Волгу, на берег, на леса и пристани, вспоминаю Горького «Детство», и тепло на сердце. Под конец круиза мне стало казаться, что я и сам лежу на асфальте в крови. Не в прямом смысле, что прям ударился и лежу, и кровь из носа, «юшка». А в переносном смысле, не знаю, как объяснить. Ну вроде меня так же ударило, шмякнуло, всю жизнь меня так шмякает, впечатывает, прогибает. В самый ответственный момент я проигрываю, прихожу в себя, пытаюсь бороться − следуют мелкие победы до следующего фиаско. Допустим, тот дедок, не пошёл в тот день гулять − почувствовал себя плохо (что-то голова тяжёлая) и не пошёл. И спазма бы не случилось или микрогематомы! Переждал бы дома. Наверняка за завтраком чувствовал себя не в своей тарелке. Ответственный старик: режим, дисциплина, день накануне запланировал, ведь гулять полезно. Не менять же план из-за лёгкого недомогания. Вот и результат: упал, разбился, лежит. Проиграл схватку с атмосферным давлением и магнитной бурей. На этот раз не катастрофично. Выводы сделает. В следующий раз останется дома, пусть даже в три раза лучше погода будет и листочки ещё ярче станут бушевать незапылённым девственным цветом.
Так вот и я. Выводы после делаю. Но после драки кулаками не машут. Я проиграл. Только и остаётся мне, что вспоминать.
Часть первая. Фиаско и надежды
1. Развод
Я родился в Москве, в спальном районе около окружной дороги. Никогда и предположить не мог, что придётся уехать. Родители развелись, когда мне был год. Я с мамой жил. В «двушке», переделанной в «трёшку». То есть кухня у нас была третьей комнатой, а в прихожей, значит, оказалась кухня. Плита, холодильник, столик, посуда. Куртки, дублёнки, обувь? Вещи можно в комнате держать, даже обувь, просто её мыть надо, когда с улицы приходишь. Оделся в «комнате» и пошёл на «кухню». Открыл входную дверь: до свидания! Мы с мамой жили в бывшей «кухне», бабушка и дядья, Алексей и Серый − в двух других комнатах. И нормально жили! Но мама! Надо знать мою маму. Она стала искать себе нового мужа. Зачем ей это надо было? Не знаю. И где искала-то? Нет, чтобы у себя на работе, как Инна Сергеевна с абонементной группы. Инна Сергеевна вышла замуж за отца одной девочки. У девочки мама умерла, отец девочки женился на Инне Сергеевне. И все довольны. Моя же мама не стала искать нового мужа на работе. У мамы на работе была первая любовь − Евгеньич и что-то с ним не сложилось. И с папой моим не сложилось. Мама полезла в интернет, стала проводить время на православных сайтах. Тогда интернет был не то, чтобы редкостью, но не у всех ещё был, и жутко дорогой. Мои дядья всё оплачивали, и компьютер был их, тоже дорогой.
Помню, когда конфетно-букетный период у мамы с интернет-знакомцем закончился и встал вопрос о замужестве и переезде, мама поздно вечером сидела в нашей «комнате» и плакала. Бабушка уговаривала не уезжать. Они думали, что я сплю, а я не спал: я подглядывал и подслушивал.
− Что мы, Анечка, плохо сейчас живём?
− Да разве дело в этом? – плакала мама. – Я, когда в спортинтернат переселилась, так в телогрейке ходила. Дело не в этом.
− А в чём?
− Дело в перспективе. Тогда я надеялась, что будет лучше. А сейчас я ни на что не надеюсь. Работа-дом. Дом-работа.
− Да, − тормозила бабушка. – Помню. Купили тебе в дачном сельпо телогрейку, но приличную, с воротничком отложным, черненькую. Десять рублей, сорок копеек стоила – очень недорого.
− Нет. Четырнадцать-пятьдесят, − поправила мама. – Телогрейка и ещё резиновые сапоги – тринадцать-пятьдесят с украшением-шнуровкой. Продавцы смеялись, когда я эти сапоги цвета детской неожиданности брала.
− Зато они вечные. Я в них сейчас на даче шлёпаю – вообще подошва не стёсана, − бабушка упиралась, она вообще спорщица.
− Мама! Мама! Зачем резиновым сапогам шнурки?! Грёбаный совок. Меня в интернате все жалели. Меня там жалели как какую-нибудь детдомовку, одели и обеспечили всем.
− Так потому что совок и одели.
− Тогда совка уже почти не было, − отмахнулась мама и всхлипнула. − Бедно жили, но тогда это было не главное. Я всегда знала: могу приехать домой или на дачу, будем с вами чай на кухне пить с пирогом. А теперь?
− А что, Анечка, теперь? Разве что-то изменилось? Разве мы тебе и Стёпочке не рады? (Стёпа – это меня так звать.) Очень рады!
− Изменилось, − плакала мама. – Тогда мы были детьми. А сейчас тесновато мы живём. У Николая Николаевича – огромная квартира, даже две. В центре города и по соседству – в Военном городке. Он и о работе моей договорился. Военный городок с шикарным дворцом водных видов спорта. Длинная вода.
− Ох! Длинная вода3! – всплёскивала руками бабушка. – Это как в «Олимпийском»?
− Скорее как в Олимпийской деревне, − нервничала мама. − И потом – я хочу ещё ребёнка. Имею я право хотеть ещё ребёнка?
− Да куда ж, Анечка, ещё ребёнка?
− Мама! Но у тебя-то нас трое. И я хочу троих!
− Так время, Анечка, другое было. Сейчас никто твоих детей бесплатно содержать в интернате не будет, учить-тренировать тоже.
− Ну почему же? Если будут чемпионы, тоже будут на дотации. Стёпа обязательно будет чемпионом.
− Но ты-то не стала чемпионкой. И Стёпа – когда это будет, вилами по воде.
− Как же вилами по воде? Все знают, что Стёпа Бортов – чемпион бассейна.
Бортов – это мой папа. Бортов и моя фамилия. А мама свою фамилию не меняла – как чувствовала, что с папой разведётся. А вот Николая Николаевича фамилию взяла, чтоб уж точно без разводов. Я не знаю доподлинно, почему «разбежались» мои родители, мама не любит об этом говорить. Папа мне тоже не хочет объяснять, отмахивается общими словами – я-то теперь с папой живу. По обрывкам фраз, по подслушанным в детстве разговорам, я составил такое мнение. Моя вторая бабушка (её сейчас нет в живых) маму не любила и всё время попрекала, что она живёт с ребёнком, то есть со мной, её внуком, на её жилплощади. А больше всего моя вторая бабушка, царство ей небесное, нервничала из-за того, что меня прописали на её жилплощадь, потому что, когда в квартире прописан ребёнок, это усложняет юридические процедуры при купле-продаже. Кому моя другая бабушка собиралась продавать квартиру и собиралась ли вообще, доподлинно неизвестно. Но знаю, что было пять судов при разводе родителей. Бабушка и папа доказывали, что я – не их внук и сын. Была проведена генетическая экспертиза. Мне, годовалому, кололи десять пальцев на руках и брали кровь. Мама говорит, что к десятому пальцу я даже и не плакал – так навизжался на предыдущих девяти, что охрип, осип, а на следующий день заболел. И у папы взяли кровь. Стоила экспертиза – восемьсот долларов, это ещё в полстоимости, потому что по суду. Для 96 года − огромные деньги. Если бы я оказался не папин, меня бы выписали из квартиры. Но экспертиза показала вероятность 99, 9 процента, что я папин сын, и меня не выписали. Я и до сих пор у папы зарегистрирован, в восьмом классе, переселился обратно в Москву, и очень доволен. У меня с родным папой связь кармическая.
Квартирный вопрос в нашей семье всегда стоял остро. Дядья хорошо зарабатывали, они работали в автосервисе, но на квартиру, даже самую завалящую, не хватало категорически. А вот, когда дедушку первый инсульт накрыл, дядья ему оплатили очень дорогое лечение – больше ста тысяч (это в самом начале нулевых!), то есть на лечение, авто и поддержку денег хватало. И у одного, и у второго дяди семьи были ненастоящие, такие полусемьи: женщины-одиночки с детьми и квартирами. Дядья ездили к ним, иногда ночевали, помогали с детьми, содержали, но не женились, всё-таки жили они с нами. У одного дяди, у Алексея, подруга была завёрнута на здоровом образе жизни, он стал есть одни сухари как подвижник, а ещё нырять в прорубь. В лесопарке рядом с домом есть родник, и рядом – прудик, туда родник вытекает. В этом прудике – лестница как в бассейне. Зимой – прорубь. Однажды, мне четыре года было, дядя Алексей меня в прорубь окунул. Мама перепугалась, но я даже не заболел. Я получил «боевое крещение». Дядя Алексей – худой-худой, и волосы выпадать стали, но он всё равно красивый. У нас в семье все красивые: мама, дядья, я тоже. Я на маму похож, а ростом – в папу, мама у меня маленького роста, папа − высокий.
Родители рядом друг от друга жили. Мама – в шестнадцатиэтажке, папа – в двадцатидвух, серия П-44, очень престижная серия. Но друг друга не знали. А познакомились, когда впервые дедушке плохо стало. У него случился гипертонический криз, он рухнул и его стало тошнить. Бабушка подумала, что инфаркт, позвонила в «скорую» и сказала свой «доморощенный» диагноз. Папа тогда только-только на кардиологическую машину перевёлся, а до этого на обычной «скорой» работал. Ему помогли на «кардиологию» перевестись, по блату. Он очень старался себя зарекомендовать, очень помог дедушке тогда. И больницу выбрал хорошую, в другом округе. На «скорой» можно ехать одному родственнику. Бабушка не поехала. И дедушку мама сопровождала. Через год родители мои поженились.
2. Мама
Вернёмся к подслушанному мной разговору. Значит – мне шесть лет, я вроде бы сплю, на самом деле притворяюсь, и дико злюсь, когда слышу, что кроме меня ещё детей хотят. Бабушка уговаривает маму, что всё хорошо, и надо остаться в Москве, не уезжать ни в какой город Мирошев, не рожать никаких детей и не выходить замуж за человека на двадцать лет старше. А мама всё объясняет, доказывает, плачет:
− Что я получаю в бассейне? Двенадцать тысяч!
− Но это много! – спорит бабушка. – Многие половину от этого получают. Ещё же алименты у тебя.
Надо сказать, что мама не писала заявление на алименты, не требовала их с папы. Папа по собственной инициативе переводил деньги маме ежемесячно почтовым переводом. Почему не в руки передавал? А чтобы для суда, если мама вдруг взбрыкнёт и решит нервы потрепать, отомстить и на алименты заявить. А папа тогда документ, квитанцию предъявит: деньги перечислялись.
Когда я с мамой приходил на почту, я видел, как украдкой ухмылялась тётенька в окошке с бейджиком на груди. Тогда я не понимал, почему. Теперь понятно: папа приходил в это же отделение, оформлял перевод маме у этой же тётеньки, почта брала свои проценты, выдавала папе чек, а маме посылала извещение. Мама являлась на ту же самую почту, забирала деньги. Абсурд. Но вполне объяснимый. Абсурда в нашей жизни − выше крыши, накроет с головой, если близко к сердцу принимать.
В то время, до переезда из Москвы в Мирошев, я всегда ждал начала месяца, мама получала перевод от папы и покупала мне что-нибудь вкусное, иногда даже мороженое, но мороженое очень редко. Когда лет в двенадцать, я заикнулся, что хочу, чтобы мама отдавала мне часть папиных денег на карманные расходы, мама ударила меня, хлестнула по лицу и сказала:
− Эгоист, весь в отца.
Что произошло между родителями? Почему они разошлись. Моя вторая бабушка приложила к этому руку, но было ещё что-то. И сейчас я знаю, что, а в детстве не знал.
Бабушка всё уговаривала маму:
− Останься Анечка. Я тоже зарабатываю. (Бабушка работала в двух банках уборщицей и получала тысяч тридцать плюс пенсия.) Проживём.
Но мама рыдала и рыдала, доказывала бабушке:
− Мама! Мама! Да пойми ты! Все шесть лет здесь по двору, по парку, со Стёпой гуляю. И все знакомые вокруг. Помнят нас по старым временам. Прошло столько лет, целая жизнь, я и братья состарились. А я, когда здороваюсь и общаюсь с соседями и бывшими одноклассниками, вижу, чувствую, что они всё помнят. Понимаешь − всё!
− И что – всё? – пугалась бабушка. – Что всё, Анечка? Мы не убивали-не крали, никого не обижали, жили тихо.
− Вот именно, что тихо, − гнусавила и сморкалась мама. – Малоимущие. Многодетные! В седьмом классе на уроке труда пекли пирожные и печенье. Бригада распределяла продукты: кому что принести из дома. Мне говорили: муку принеси. Так ты мне даже баночку муки не давала. Сколько тогда пачка муки стоила?
− Тридцать девять копеек – два кило, кажется, − убаюкивала маму бабушка.
− Как мне было стыдно! А платье школьное? До середины икры платье. Все девчонки – по колено, а я? На вырост, всё на вырост. Всё детство на вырост! Ну да. Я же одна девочка. Кто что отдаст, то и сойдёт. Надо было на мне экономить, чтобы братьям побольше купить. Нет, чтобы три девочки, или три мальчика. А Стёпа родился? Коляску мне Константин не купил. Обещал, а не купил. (Константин – это мой папа.)
− Анечка! – увещевала бабушка. – Это я виновата. Я сказала: на первое время коляска есть. Нам же отдали.
− Что нам отдали? Коляску восьмидесятых?
− Семидесятых! Немецкую! Зато она устойчивая, и рама из настоящей стали, рессоры на ремешках кожаных. Качественная.
− Мама! Я всё понимаю. Все знакомые как назло в это приблизительно время родили и с «пег-перего» воображали. Я ловила на себе взгляды бывших одноклассниц: малоимущими были, такими и остались. Вот тебе и качественная. Старая облезлая коляска.
− Немецкая, и колёса почти новые, − настаивала бабушка. − Колёса прежние хозяева из какого-то там бург-берга выписали, с тамошнего завода.
Видно, коляска навеивала бабушке воспоминания молодости, когда она выгуливала сначала маму, а потом − дядьёв.
Я навсегда запомнил этот ночной разговор, он мне потом часто мерещился, часто снился, особенно мука по тридцать девять копеек за два кило – что-то из области фантастики. Тогда мне хотелось кричать, рыдать. Как так: уехать от бабушки, от дядьёв, от нашего храма (рядом с домом стояла церковь, я любовался ей из окна), уехать из Москвы? А как же бассейн? Променять его на какой-то длинный бассейн? И зачем маме нужны ещё дети? Значит, я ей больше не нужен?
Когда подрос, я нашёл у мамы папку со старыми школьными фотографиями. На двух фото мама была по грудь – портретная съёмка. На фото за восьмой класс мама была в синей форме. Она не сидела в первом ряду, как многие девочки. Она стояла сбоку, справа, рядом с высоким парнем, и от этого казалась ещё меньше, и юбка действительно была несколько длинновата.
Мама начала заниматься спортом поздно – в 13 лет. Современным пятиборьем. Просто пришла сама в спортшколу и сказала: хочу заниматься. Плавание мама проворонила. Плаванием надо заниматься максимум с семи лет, а лучше с пяти. Плавала мама плохо – лучшее её время было минута-одиннадцать на сотке. Но мама хорошо бегала, метко стреляла, неплохо фехтовала. И её взяли в спортинтернат. С лошадью не сложилось. Однажды на тренировке лошадь под мамой испугалась чего-то и понеслась по стипль чезу4. Два круга мама скакала галопом. Больше мама на лошадь не садилась. У неё к тому времени был КМС, так и остался. В спортинтернате мама не училась, только тренировалась, но ей выдали документы об окончании школы – о среднем образовании. Как закончила выступать, так сразу пошла в пятиборскую спортшколу тренером. (В институте физкультуры мама училась заочно.) Поначалу инструктором в бассейн, в абонементную группу, а потом ей спортивную группу дали. В этой первой маминой спортивной группе оказалась талантливая девочка. Она потом стала чемпионкой страны и призёром Европы. И маме присвоили высшую категорию, нежданно-негаданно она стала получать приличную зарплату. И теперь мамину фамилию можно найти в Википедии, где про чемпионку рассказывается. Жаль только, что мамина настоящая фамилия в скобках, а без скобок − фамилия Николая Николаевича, которого для простоты я буду звать Никник. Я его за глаза всегда так звал.
Мама отдала меня в сад в два года, в малышовую группу, но через два месяца забрала, ей не нравилось, что мало с нами гуляли. За то непродолжительное время в саду, я, двухлетний, чётко уяснил, что ругают не виноватого, а того, кто под руку попадётся. Если ты, например, сильно будешь рыдать, то ты – пострадавший. Главное – громче орать. Я стал отрабатывать своё «открытие». Мы с мамой по воскресениям много гуляли в лесопарке. Я копал лопаткой ранний снег, пытаясь спасти недавно опавшие кленовые листья. Ко мне обратился какой-то дедок. Дедок был с бабусей. Я разозлился, превратился в разъярённого тигра, они отрывали меня от раскопок и спасения листиков. Я заорал, расплакался. Мама сказала дедку:
− Не приставайте к моему сыну.
Подставил я дедушку. И не раз потом я так подставлял и ровесников, и ещё многих, чтобы мама на них ругалась.
Мама таскала меня маленького в церковь. Мне там не очень нравилось. Понравилось мне в церкви, когда мы переехали в Мирошев. Всё, что запомнил в Москве: много людей, толпа, я боялся «крови христовой» − мама мне запрещала есть-пить из одной с кем-то ложки, а тут всех из одной ложки поют, и просвирки невкусные, пресные, чёрствые. Я ж ничего не понимал. Огоньки свечек мне нравились. Мама всегда ставила свечки за здравие, писала бумажки с перевёрнутой тройкой (я не знал, что это буква «Е»), расплачивалась, бормотала имена, когда свечки ставила и крестилась. Один раз в церкви я разобрал среди маминого бормотания имя, которое часто слышал в разговорах мамы с бабушкой. А потом, когда мама меня забрала из сада, и я стал ходить к ней в бассейн, я опять услышал это имя – Евгеньич. В бассейне я увидел молодого и красивого человека. Он был как гора – мощный, широкие плечи, сильные руки, обтянутые рукавами светлой футболки. Недавно папа признался: Евгеньич был мамин парень со времён спортивного интерната, первая любовь. Это Евгеньич договорился, чтобы маму взяли на работу в бассейн. Почему он не женился на маме, я так и не знаю, да и знать не очень-то хочу. Потому что тогда меня на свете бы не было.
3. В бассейне
Сначала мама не пускала меня в воду. Полтора года я сидел на бортике и подавал-забирал досочки, лопатки и колобашки5. В бассейне меня все любили: тренеры, администраторши, буфетчица, уборщицы, все старались мне что-нибудь подарить, мама всех благодарила, но вредную еду отнимала. Ближе к весне мама стала загонять меня, почти четырёхлетнего, на крайнюю дорожку, и лафа моя закончилась раз и навсегда. Я барахтался в нарукавниках − мама вела передо мной страшный гладкий железный шест. Я мёрз (бассейн был прохладный), уставал, я глотал воду, захлёбывался и задыхался − мама не обращала внимания. Мама кричала (в бассейне все тренеры кричат – специфика акустики), иногда ругалась, обзывала меня «глистом в унитазе». (Хорошо, что не «дерьмом в проруби».) Я ревел, но в бассейне это почти незаметно. Я выл – маму это абсолютно не пробивало. Я сделал открытие: если наглотаться воды в бассейне, начинает болеть живот. Стал этим пользовался. А потом поносы и рвота прекратились, живот перестал болеть, организм привык. Снова тренировки. Я решил симулировать болезни. Врал прямо с утра, что у меня болит живот, ни в какую не шёл в бассейн, извивался на полу якобы от боли, а на самом деле – от ужаса, что мне опять надо лезть в эту холодную воду и работать ногами, работать руками, дышать определённым образом и выливать воду из очков, которые мне были велики. Мама везла меня в поликлинику. Хирург щупал живот, спрашивал: «болит – не болит», пожимал плечами, педиатр выписывал талончик на УЗИ. Всё было нормально. Как же я завидовал больным детям, которых встречал в поликлинике: толстым, хромым, слабоумным. А мне надо плавать в бассейне четыре раза в неделю!
Тогда я прислушался к организму и стал уверять маму, что спина болит. И она по-честному болела. Но мама в случае со спиной совсем не испугалась, сказала:
− Меньше прыгай на батуте.
Батут установили на улице неподалёку от бассейна: готовился к летним развлечениям конно-спортивный комплекс, где и находился бассейн. Я дорвался, скакал на батуте как энерджайзер.
Я упирался, уверял, что спина болит дико, канючил и капризничал в воде. И тогда мама выругалась, бросила железный шест на дорожку, он шлёпнулся о воду и медленно передвигался. Шест выловил Евгеньич, приобнял, похлопал маму по плечу, поцеловал в щёку, успокоил, что-то сказал. Мама отдала меня в группу к Громовой. Громова была моей крёстной, а ещё мастером спорта по плаванию, очень хороший тренер. Когда я спрашивал её, почему она выбрала плавание, она отвечала: просто мне нравилось плавать. Громова была толстая, добрая, но требовательная, очень милая и любезная, дети её любили. Нет: мама меня бы хорошо плавать научила, но я закапризничал – вот и получил. У Громовой я испугался капризничать, группа была на два-три года меня старше, я их боялся и вёл себя смиренно. Старался как мог и… расстроился, когда наступило лето и занятия у Громовой закончились. До осени. Я с мамой поехал в лагерь, нацеленный на плавание. Лагеря – мамина летняя статья дохода. Никаких дотаций и льготных путёвок не было. Мама сама выбирала лагерь и везла свои группы, иногда и чужие, при этом она брала денег больше, чем требовалась по путёвке, и за билеты брала как за взрослые, а покупала, естественно, детские – надо ж было нам с мамой как-то жить. Громова и некоторые другие тренеры с мамой никогда вместе в лагеря не ездили, они в лагерях с детьми отдыхали, мама всегда и везде заставляла тренироваться. Один раз у неё на солнцепёке девочка в обморок упала. (Эта девочка сейчас чемпионкой стала по дуатлу и триатлу6, и маме вернули высшую категорию.) А другой раз у мамы пацан в бассейне чуть не утонул. Но в бассейне всегда спасают. Этот пацан после лагеря больше в группу к маме не вернулся, он к другому тренеру перешёл, к Евгеньичу.
Ещё, я так предполагаю, мама хотела уехать на новое место из-за скандала на работе. Я тогда считал себя уже большим, мне второго июля семь лет должно было исполниться. Я хорошо плавал, хорошо бегал – три года как тренировался на пятиборье и был чемпионом бассейна в группе мальчиков 95 года и моложе с большим отрывом. 25 метров я проплывал за 18 секунд. Меня мама пускала и в тир со средней группой! Однажды гильза вывалилась из старого ружьишка, меня по руке ударила – было больно, я сдуру по привычке заорал, я испугался, что мне руку прострелили – дурачок был. Мама где-то месяц меня в тир не пускала. Но потом я упросил. Гильзы вылетали иногда вбок, но я уже знал: у кого старые ружья, я с этими ребятами рядом не становился. А у некоторых ружья были новые, им родители покупали, вот рядом с такими ребятами и девчонками я и вставал для стрельбы. У таких гильзы падали чётко вниз, а не в бок. Гильзы я подбирал, играл в солдатиков. Да. Были времена. Сейчас-то все из пневматики стреляют. Но начинать и сейчас желательно с ружья.
К маме привели девочку Лизу, на год старше меня. Она и плавала классно, и бегала суперски. Не стреляла конечно, стрельба с двенадцати лет на соревнованиях. Но мама тут же ей, семилетней, вопреки правилам, винтовку лучшую выдала. Мама конечно же сказала её родителям, что надо купить винтовку, но родители отказались. Папа девочки Лизы сказал:
− У вас же бесплатная спортшкола.
Ха! Конечно у нас бесплатная школа. Естественно. И мама подтвердила. Но сказала, что с финансированием тяжко, ружья в тире старые, советские, впрочем, покупать новое ружьё не обязательно, а вот за бассейн платить обязательно.
− Сколько? – спросил папа Лизы.
Мама назвала. Тысячу рублей. Не особенно большие деньги для нулевого года, ну и не совсем маленькие.
Папа Лизы опять стал сопротивляться, говорить о бесплатной секции, я даже удивился. Все родители приходят, им скажут винтовку купить – они покупают, за бассейн платить − платят, подарки маме дарят и к Новому году, к другим праздникам. А эти… Мама объясняет, что «за воду надо платить, спортшкола закупает инвентарь, организует соревнования, праздники на воде, подарки», и всё в таком духе…
Были у нас, конечно, и те, кто не платил, и в лагерь за полстоимости ездил, но это малообеспеченные из родительского комитета, они помогали маме деньги собирать – мама сама никакие платы не собирала. (Если что, какие вопросы, то это деньги на подарки детям к соревнованиям.) Мама всегда, тех, у кого с деньгами туго, жалела, а с остальных деньги требовала. Мама по повадкам родителей сразу видела, кто действительно бедный, а кто прибедняется. В общем, папа Лизы попробовал сунуться к другим тренерам, а деньги за три месяца все в бассейне брали. Так ещё и в тир никто, кроме мамы, не соглашался пускать. И папа Лизы тогда вернулся к маме и заплатил. Помню, как пригорюнился папа Лизы, что тысячу пришлось отдать. Но мама у меня приветливая, жизнерадостная, она умеет к себе расположить, она требовательная и справедливая. Она стоит, улыбается нахмуренному папе Лизы и говорит:
− Только не уверяйте меня, что вы Лизу так плавать забесплатно научили.
Тут мама Лизы встряла и говорит:
− У нас спонсор был. Он оплачивал.
− Ну и передайте тогда своему спонсору, чтобы и на пятиборье тоже раскошелился. Не при коммунизме живём. У государства нет денег на детские спортшколы.
Потом оказалось, что папа Лизы был ей вовсе не папа, и даже не отчим, а просто так. Я недавно его встретил в Москве на любительском спринт-триатлоне. Он меня, конечно, не узнал, а я его почти сразу, у меня вообще память на лица хорошая. Идёт, такой, вдоль водохранилища в гидрокостюме, вообще не изменился. Рядом с ним – триатлетка из «элиты» – я по номеру на руке вижу. Идут, улыбаются друг другу. Голубки. Я ещё подумал: «Говорят, Бог наказывает, тех, кто бросает, а вот что-то по нему незаметно. Может, Бог не наказывает, если чужую семью бросить, не свою?»
Лиза на воде у меня выигрывала. Я очень переживал, но мама успокаивала, она говорила, что в шесть лет девочки часто сильнее мальчиков, тем более, если с двух лет в бассейне занимаются. Я стал переживать, что потерял много времени зря, что сачковал и придурялся в детстве, симулировал и завидовал детям в поликлинике. Я был зол: почему Лиза с двух лет в бассейне, а мама меня почти в четыре к Громовой отдала.
Лиза была вообще противная, всё время дразнила: я её, видишь ли, бешу, я слабак. На всех соревнованиях она получала призы, а на нужды секции деньги они не сдавали, так ещё мама Лизы возмущалась, говорила, что дома кубков ставить некуда, лучше б очки подарили для плавания, а то «и на плавании кубки, и на пятиборье – кубки» – они ещё, оказывается, и в соревнованиях по плаванию везде участвовали и в детских забегах по набережным Москвы-реки. Но случился скандал. Лиза отзанималась год, даже полтора. Зимой, в феврале, мама Лизы, под руководством понятно своего немужа, накатала на мою маму жалобу в федерацию. Мама расстроилась, ей конечно, никто ничего не сделал, показательно пожурили и всё, брали-то все тренеры деньги за три месяца – это негласное правило многих секций, катков и бассейнов. Но всё равно неприятно, мама всё переживала, что лучшую винтовку Лизе выбрала, а они её так подставили. А как мама Лизы возмущалась, когда мама выгнала их после жалобы! Но наши родители, они вечно сидят в фойе и ждут своих детей, стали маму Лизы стыдить и припомнили ей, что девочка на прошлый Новый год подарок конфетный получила – дракон пластмассовый, «Красный октябрь», укладчица номер пять, вес: семьсот пятьдесят граммов, а деньги-то не сдавала.
Какой у нас всегда был Новый год в бассейне! И соревнования какие! Волшебство! Из воды вылезаешь – Мороз со Снегуркой уже подарок тебе вручают, и синхронистки – разные фигуры на воде пытаются изобразить, их ноги на свечки в церкви похожи, из воды – хлоп! − и выстреливают. Красота! А эти – жалобу накатали!
В итоге Лиза стала у Евгеньича тренироваться, а потом и от него ушла, как заявила её мама в «крутую спортшколу». Всё детство я Лизу встречал по весне на соревнованиях «Весёлый кит» − они подготовительные перед юношеским первенством России. Лиза долго-долго побеждала, всегда смеялась надо мной, говорила, что я её бешу. А потом, лет в двенадцать, она стала рыдать после каждого заплыва. Ей не хватало до КМСа чуть-чуть: в комплексе − она плыла за одну-десять, и в её коронном кроле – она плыла за одну-три7. Какое-то время она ещё выступала, не в своих видах призёрствовала, но КМСа при мне так и не выполнила, а потом я её перестал видеть и очень радовался. Дело в том, что юношеские соревнования по плаванию у девочек начинаются в тринадцать лет, а у пацанов в пятнадцать. Я следил за юношескими соревнованиями по протоколам в сети (тогда юношеское первенство России как раз стали выкладывать в интернет). И не находил её фамилию. Но это не значит, что она точно пропала. Она могла фамилию сменить, если её удочерили; могла уйти, как и я, в триатлон. Но в триатлоне я многих девчонок знаю, вроде бы Лизы не видел. А вот в пятиборье её точно не стало, Громова всех знает, она бы рассказала. Вообще в пятиборье идут те, у кого с плаванием не сложилось. У Лизы-то в плавании всё складывалось отлично. Но девочки часто начинают тонуть в пубертате, не в смысле тонут, а в смысле, что надо корректировать технику. Не у всех получается держаться, у многих идет спад, не все продолжают бороться – скисают. Тут генетика важна. Кому-то и бесполезно бороться, а кому-то просто не хватает смирения перетерпеть пубертат.
Я почему так подробно про Лизу − предположу, что, кроме разных неприятных воспоминаний детства и первого замужества, мама ухватилась ещё за вариант с Никником из-за Лизиной жалобы. После переезда, уже в Мирошеве, мама периодически вспоминала Лизу и её семью, и даже разузнала, что не-папа-и-не-отчим Лизы бросил их вскорости. Но пока не бросил, он тренировал Лизу зверски. Он сам, по слухам (все слухи из Москвы маме передавала Громова) в прошлом был спортсмен-неудачник (вроде как и я теперь), вот и уцепился за Лизу. А чужая она или своя − не особо важно. Я Никнику тоже чужой, а он меня очень любил (и любит!), очень переживает из-за моих поражений и искренне радуется победам. Мой родной папа, Костик, не понимает: как так Никник мог меня полюбить. А я прекрасно понимаю. Две дочери от первого брака у Никника выросли и разъехались. Та дочка, которая перебралась в Подмосковье, у той родился мальчик, Ваня. Он приезжал к нам в Мирошев раз в год на осенние каникулы и всегда дулся: ходил недовольный, обиженный. Я его понимаю, я бы тоже обижался, ведь квартира Никника и другое имущество, если не дай бог что, наследует мама. Вторая дочка Никника, которая вышла замуж за богатого и поселилась в посёлке рядом с Мирошевым, родила двух девочек, двух внучек. И мама моя потом родила Никнику Алёнку. Получалось, что я один – настоящий мужик. Но Никник не унывал. Алёна у нас – боевая, похлеще пацана. Никник уже решил, что она в МВД пойдёт, когда школу закончит. Уж МВД Никник Алёнке организует.
4. Переезд
И ещё была такая девчонка Лена в Москве на пятиборье. Её отец тоже мою маму доставал. Как ехать летом в лагерь, он к ней пристаёт: «Кто будет отвечать за мою дочку, если вдруг что». «А что?» – переспрашивает мама. «Вы должны дать мне письменные гарантии!» В общем, папа юрист, проныра, всё докапывается до всего, запугивает, но не в прямую – дочку-то любит. Правда, у родителей детей-спортсменов любовь странная. Этот, Ленка, рассказала, в два года бросил её на глубину. Так и научил плавать. У неё шок до сих пор от её первых «заплывов» на дно. А какие у мамы гарантии? Да никаких. Все лагеря организовывались частным образом. Мама договаривалась с турбазой, лагерем, домом отдыха, гостиницей – нам главное бассейн чтоб был. Мама покупала билеты – брала за билеты как за взрослые, а сама платила по детским тарифам. Небольшой такой навар. Маме ж и медкнижку приходилось делать. Никто не возражал. Но папа юрист был не таков – он докопался. Жаловаться он никуда не стал. Но мама возмущалась. Если хочешь, чтобы к ребёнку твоему хорошо относились, надо с тренером хорошо общаться, без наездов и угроз. И мама психанула – её достали требования родителей. Может с ней директор спортшколы какие беседы проводил, может ещё кто из родителей докапывался – я не знаю. Сейчас-то легко группу набрать – детей много, а тогда с мамы требовали комплектацию групп, заставляли даже по школам ходить. Меньше тогда было детей и, самое главное, на порядок меньше было пусть не обеспеченных родителей, но хотя бы не нищих с затравленным напуганным взглядом. Вот и приходилось терпеть пап-юристов и не-пап-недочемпионов.
Бабушка, понятное дело, маму не смогла уговорить остаться, мама вышла замуж за Николая Николаевича и переехала в Мирошев. Там я и пошёл в первый класс.
Сейчас-то Мирошев растянулся вширь и вдаль, приезжие теряются, тычутся в свои джи-пи-эс-навигаторы и ругаются. Приезжих с каждым годом всё больше – земли исконно русские древние, Клязьма – рядом, Золотое Кольцо – сравнительно недалеко. Вот и едут туристы. Кремль, тюрьма старинная, до сих пор действующая, пересылочная, музей, даже три музея, лавка живописи, колледжи декоративно-прикладных поделок: завод игрушек у нас закрыт, а колледжи при нём по-прежнему функционируют. Театр у нас есть, и второй театр − любительский. Есть ещё наркоманско-маргинальный район у Игольного завода, но я тогда о нём не знал, это от нас в стороне.
Сейчас в Мирошев включили всё, что можно и нельзя, все дальние посёлки и деревни. А когда я переехал – был просто маленький Мирошев. За ним – маленький Военный городок, там огромные спорткомплексы, заброшенный стадион и старинная дозорная башня перед стадионом на холме. Стены башни – в безумном шизофреническом граффити. Внутри башни – очень хорошая аптека, там лекарства делают на заказ. Когда мама родила Алёнку, я часто в эту аптеку ходил. Такие там микстуры от кашля хорошие, и недорогие совсем, и Алёнка с удовольствием глотала, не плевалась.
Всё тогда на новом месте, в первом году нового века, было не так как в Москве. В Мирошеве много старых зданий, и они никакие не памятники и музеи, и никто их не сносит, если только сами не обвалятся. В старых деревянных зданиях – конторы или магазины, а в некоторых до сих пор люди живут. Раньше на совесть строили, а в Москве сейчас – одна душная синтетика, свободный хлор выделяет и травит людей. Военный городок стоял рядом с Мирошевым − военные остались, но сам городок был рассекречен, ликвидирован, расформирован, по сути стал новым. В Военном городке и жил Никник. Военный городок расформировали давно, но школа там по-прежнему лучшая была – гимназия номер один, и бассейн там же шикарный, точнее – дворец водных видов спорта, и ещё, неподалёку, главный дворец спорта − гимнастика и волейбол. В самом Мирошеве была школа искусств и Дом культуры. Но Военный городок был престижнее Мирошева. Мы жили в доме на берегу маленькой речки Иглы. Выходишь из подъезда, и сразу – волейбольная площадка, пляж, песочек.
У Никника была ещё одна квартира, в центре Мирошева, напротив Кремля. И там можно было жить. Мама любила зимой в той квартире быть. Она любовалась заснеженным Кремлём, площадью перед ним, памятником преподобного Косьмы, основателя нашего города, по центру площади. Мама, что называется, дорвалась. И до просторных комнат, и до церквей, которых в Кремле было аж три. Огромные старые храмы, и нет в них толпы как в Москве, и люди приветливые – это мама так всем отчитывалась по телефону старым знакомым, интересовавшимся о «житии-бытии».
На меня, семилетнего, Мирошев произвёл неблагоприятное впечатление. Я загрустил, затосковал. Нет мигающих вывесок, нет бесплатных газет в почтовых ящиках. Растяжки на проспекте Красной Армии (справа от проспекта − наш дом, слева – Кремль) случались только перед выборами, рекламные щиты – тоже. В детстве я рекламу уважал, научился читать по рекламным плакатам и листовкам. И бесплатные газеты я обожал читать, по телевизору смотреть рекламные ролики. Не было в Мирошеве и ни одного супермаркета. Скандал! У нас в Москве, мне три года было, когда первый супермаркет в районе открылся. Праздник был до ночи, сцену поставили, «Иванушки» выступали, кока-колу бесплатно раздавали, за дисконтными картами выстроилась очередь. Я был в восторге, мы с бабушкой ходили. Весь наш район как вымер, все пошли на открытие, всем хотелось халявы. А в Мирошеве– прилавки, на допотопных весах всё взвешивают, обсчитывают. Мама умиляется, руками, как заводная игрушка, всплёскивает: «Ах-ах! Как в детстве! Ох-ох! Какой творог бесподобный! А какое мя-со-о…» Тьфу! Как будто в Москве мясо плохое. Да и плохое если, что мама много ест? Мама вообще мало ест.
Я был зол, недоволен. Ещё Никник стал мне рассказывать, как здорово ходить в походы. Он спросил меня:
− Стёпа! Обязательно с тобой осенью на каникулах сходим в поход в наши Мирошевские леса. Это бесподобно! Ты хочешь? Будем жить с тобой в палатке, варить кашу на костре и уху. Ты хочешь?
А я ответил:
− Если палатку поставить в комнате, то хочу.
Никник был в Мирошеве человеком известным, в полковничьем звании, член общественной палаты, совета старейшин, совета ветеранов. Ещё он был председателем собрания почётных граждан. Обязанности его сводились в основном к празднику Победы. Он надевал парадный мундир, объезжал ветеранов, поздравлял, дарил юбилейные медали (город каждый день чеканил что-нибудь юбилейное), продуктами, почётными грамотами и словами. Никник очень хорошо умел говорить. Он был в армии по идеологии, тем, кто убеждает и вдохновляет состав − замполитом. Никник очень гордился, что чэпэ в его военной части из-за «псих-ля-ля» случались крайне редко. Он рассказывал, что «солдатик» часто на грани, да и не только солдатик. Никник долго служил в Забайкалье, там сопки, там Монголия недалеко. И надо проводить огромную работу по поддержанию силы духа. У Никника была целая методика, целая программа, он сам лично и музыку подбирал для часов отдыха, всех певцов, и завывающих, и попсовых, считал чуть ли не членами своей семьи, называл «наша творческая интеллигенция». Больше всех он любил «лирического тенора» Белова, «для солдатиков» ставил патриотических Лещенко и Кобзона, а позже – попсу про американ-боев. Никник говорил:
− Массам нужно массовое. Массам главное не заморачиваться.
Никник воевал в Первую Чеченскую. Как Никник оказался в Военном городке? А просто на пенсию вышел. Он отсюда родом, из недалёкой деревни. И работал, когда мы к нему переехали, в тире. Дворец водных видов спорта − целый комплекс с залами и тиром. Директором стрелкового клуба и был Никник, а его друг бы директором всего дворца. Вне работы Никник никогда не стрелял, оружие дома не хранил, говорил не по-солдафонски, без шуточек и прибауточек, любил поэзию. У него хороший слух, приятный голос. По праздникам он любил петь про Хасбулата удалого и саклю; про звёзды, которые вряд ли нас примут, если что-то мы забыли; про границу, на которой тучи ходят хмуро; про злую осень, которая шумела в поле и кидалась листвой; ну и ещё разные патриотические песни: про Москву, которая за нами, про священные слова, день Бородина и что мы это всё будем помнить. Эту песню все знают, её последней на параде на Красной площади оркестр играет, когда мимо Мавзолея идёт. Эх… Парад… Мавзолей теперь полотном загородили, это зря. Мы все переживаем. У меня и дядья, и дедушка с бабушкой, и Никник − все за Советский Союз. Мама обычно отмалчивается. Она говорит, что так мучилась от нищеты и дефицита в детстве, что не знает за что она: за то, что сейчас или за Союз. Бабушка возражает: в Союзе многодетным давали квартиру, талоны на распродажи. А мама морщится, вспоминает, как она в тапочках в школу ходила – туфель у неё не было. Но бабушка возражает: тапочки были похожи на «лодочки», просто войлочные, на распродажах не было туфель тридцать четвёртого размера; зато, продожает бабушка, со спортивной обувью проблем не было, в «детском мире» кед стояло навалом. Бабушка у нас спорщица. В принципе я маме доверяю больше, чем бабушке, но я много читаю книг, именно советских, с пожелтевшими страницами и обтрёпанными обложками – там хорошая жизнь. Мама говорит, что всё – враньё. А я спорю. Я ей говорю, повторяя за бабушкой: она же бесплатно тренировалась, в интернате жила бесплатно, её там одели. А мама говорит, что это просто из жалости кто-то на свои деньги ей куртку купил, чтобы она в телогрейке за четырнадцать-пятьдесят не позорилась. А я маме говорю, что сейчас даже с чемпионов на детских соревнованиях взнос берут. И тогда мама отмалчивается, она не любит всех этих разговоров о политике, особенно после того, как дядю Серого в милицию с митинга забрали. Потом он в суд ходил, и ему штраф оплатить сказали – приговор такой вынесли. А дядя Серый ничего такого не делал, просто пришёл побазарить к памятнику Пушкина. Их автосервис тогда чиновники себе захватили, и заставили дядю бумаги подписать. Дядя Серый всё тихо-мирно подписал и бизнеса лишился. Обидно же! Вот и пошёл на митинг. Если б он знал, что его повяжут, да он бы никогда в жизни не пошёл. Когда с дядей Серым это случилось, Никник стал вызванивать московских знакомых. Но все были не при делах, не при должностях, все на пенсии, и, как и сам Никник, в разных муниципальных собраниях и общественных палатах местного разлива заседали. И стихи тоже писали ко Дню победы, точь-в-точь как Никник. Никиник им звонит по делу, а они всё свои стихи норовят ему прочитать. А может просто никто не захотел помогать. Но я думаю, просто не могли: отслужили своё, отвоевали, намахались шашками сполна, их время прошло.
Лето переезда выдалось достаточно нервным. Мой дедушка подпортил ощущение праздника, в котором хотела находиться мама. Он обиделся. Что на свадьбу его не позвали. Но на свадьбе было совсем мало людей: Громова от мамы и директор дворца спорта от Никника. Даже бабушка не приехала, она не хотела подводить работодателя и терять смены. А дедушка обиделся. Не сказать ему не могли – в нашей семье не принято ничего скрывать. Дедушка – отдельная песня. Он не в себе. И не после перенесённого инсульта, а с давних пор. Дедушка – физик. У меня видно в дедушку способности к физике. Но что-то с дедушкой случилось. Он свихнулся. С работы ушёл и жил на даче – резал из дерева скульптуры. А у меня ещё был прадедушка. Мамин дед. Он был жутко крутой, тоже военный. Он прошёл всю войну в пехоте и не получил ни одной царапины – случай уникальный. Деда пускали взапуски – так в пехоте называют солдата, который бежит зайцем через обстреливаемое поле и обнаруживает огневые точки противника. Прадедушка рассказывал маме, что «зайцу» важно чутьё и быстро менять траекторию. Прадедушка бегал так: три шага бежит, падает, лежит; когда огонь стихает, вскакивает и снова бежит, возвращается к своим − наши фигачат прицельным огнём по обнаруженным точкам противника. После войны прадедушке предложили работать в органах госбезопасности. Он женился на докторе-терапевте (моей прабабушке) и всю жизнь работал в органах. Чем он занимался, никто не знает – чем-то секретным. И когда прадедушка умер, а дедушка восстановился после инсульта, он переехал к тёще – только в её квартире он чувствовал себя в безопасности. Дедушка был уверен, что его отравили, за ним охотятся. Он оббил стены металлическими листами, не пользовался мобильником и писал какие-то научные работы. Говорят «шапочка из фольги» − это про моего дедушку. Я про него вспомнил просто по тому, что он обиделся, а так я его и не помню почти, просто вспомнилось.
Я тосковал в августовском Мирошеве перед первым классом. Книги, которые мне дарил мамин родительский комитет на пятиборье, давно были прочитаны. Я думал: кто же теперь будет покупать мне книги? Мама любила детские книжки-картонки с разными прибамбасами, для мамы главное – иллюстрации. А я хотел, я требовал от неё, взрослые книги. Никник отвёл меня в библиотеку, он всё для меня делал, и мы с ним вместе стали книги выбирать. Я брезговал, что «Маугли» или «Таинственный остров» такие замусоленные. Но Никник уверил, что станет покупать мне новые книги через интернет-магазин, и ещё сказал, что библиотечные книги попадаются очень ценные, такие, которых не купить.
После первого посещения библиотеки уныние моё быстро улетучилось. Я и не знал, что книги можно брать на время, не слыхивал о библиотеках. А тут – всё здание, в котором когда-то была школа, всё сплошь – в стеллажах с книгами и дверями с загадочным словом «архив». До первого сентября я провалился в книги. В классе тоже поначалу всё было нормально. Я блистал в учёбе. Вот только отвечал я невнятно, и учительница меня останавливала, просила не тараторить, не бормотать. Я не понимал, не чувствовал, что тараторю. Но все смеялись, передразнивали, я обижался и дрался.
В гимназии собирали денег помногу. Форма продавалась в магазине неподалёку. А на всё остальное сдавали деньги. На подарки учителям, на учебники и тетради, на ремонт класса и школы, на озеленение, то есть на дворника-садовника: школьный двор утопал в цветах. Мама была в шоке. Но Николай Николаевич за всё платил. Во-первых, маме нельзя было волноваться, она была беременна, во-вторых, Николай Николаевич сказал, что если не платить, то можно напороться на разные мелкие мщения, а в-третьих, у Николая Николаевича деньги водились приличные. Ну, пенсия большая, военная, выслуга лет и всё такое… Но жил он явно не на пенсию. Однажды я спросил его об этом. Николай Николаевич долго, в ярких, в ярчайших, красках описывал, как тяжело и бедно жилось военным после развала Союза, как в офицерском пайке выдавали маргарин, какао и печенье, и это был праздник: в день пайка его первая жена с дочками топили маргарин, добавляли какао, крошили в эту смесь печенье, охлаждали на морозе, и получалось очень вкусная конфета-полено. Никник рассказывал, как младшая дочь шлялась неприкаянная по Военному городку (не по Забайкальскому, а какому-то уже Сибирскому военному городку), пила с двенадцати лет и слушала разные блатные песни про владимирский централ и дым сигарет с ментолом. А сигарет не было, даже «Примы»! И Никник бросил курить, но от стресса стал избивать солдат. И никто из коллег и начальства за солдат не заступался, Никник молится теперь за них (он уверяет, что ни одного не покалечил, просто были синяки), просит прощения у Господа за то время и за срывы… Все деревни рядом с военной частью опустели, сельпо закрылись, столовая снабжалась с перебоями, мясо привозили почему-то верблюжье подтухшее, сигарет и выпивки было негде купить. Никника снарядили в город на древнем ЗИЛе-«Студебекере». И он стал мотаться в город, организовывал в военной части передвижной магазин втридорога. Никник между всеми этими ужасами о сбое в снабжении упоминал вскользь, что постепенно расформировывались многие части, и множество собственности ушло, испарилось в неизвестном направлении…
К бассейну я не сразу привык, бассейн был глубокий и длинный. Где-то месяц перестраивался с короткой воды на длинную. Маму в спорткомплексе ждали, отнеслись к ней очень уважительно. У мамы тогда высшей категории ещё не было, но всё равно – столичный тренер же. А через год маме высшую категорию присвоили, девочка её, из первой самой группы, победила на юниорской России. Отличий от столичных порядков практически не было. Кроме того, что в Мирошеве, в отличие от Москвы, в пловцы никто валом не валил, девочек не было вовсе. Серые необразованные мирошевцы боялись, видишь ли, что у девочек будут широкие плечи. Мама была просто в шоке:
− Средневековье какое-то!
В абонементные группы шли охотно, перед началом месяца к столику администратора стояли огромные очереди, в бассейн ездили издалека. Мама начала переманивать девочек из абонемента себе в группу. Агитация девочек из абонемента проходила туго, да и мальчиков тоже. Сейчас-то всё с девочками у мамы почти нормально, но сейчас детей много стало, а моих ровесников, 94-95 годов рождения, было меньше.
В бассейне в спортивных группах тоже брали плату за три месяца. Только не тысячу, а тысячу-двести. И никто из родителей не возмущался. И родительский комитет так же как в Москве деньги собирал на подарки. Но мама, наученная жалобой, не посмела намекнуть, что ей цветы и конфеты не нужны, а лучше книжки дарить для меня. Ко дню учителя маму завалили подарками, и, слава богу, не цветами и не конфетами. Я, семилетний, был поражён, как уважают в Мирошеве тренеров и учителей. Маму так в Москве не уважали. Здесь каждый родитель нёс маме подарки от себя лично: варенья, соленья, сушения, маринады, хреновухи-медовухи и банки с мёдом. Никник три дня всё добро в квартиру перетаскивал. Он никогда не ездил в бассейн на машине, чтобы не смущать своей новенькой BMW людей. Никник до сих пор убеждённый коммунист и говорит, что капитализм – зло, страну разворовали, информационную войну мы американцам проиграли и стали потребителями. При этом он всегда оборачивается в сторону мирошевского Кремля (пусть даже Кремль и его колокольня не видны) и крестится, и шепчет молитву. Никник утверждает, что первый коммунист был Иисус Христос. И сейчас я думаю, что он не так уж был и не прав. Но почему всё это Никник начинал говорить, когда перетаскивал тяжеленные подарки пёхом от бассейна до дома – до сих пор понять не могу. Но кажется мне, что Никника, как зав по идеологии и тогда, на службе, и сейчас, на пенсии, немного лицемер – это профессиональное.
После дня учителя мама в церкви перестала шептать «Евгеньич» и писать записки, выводя «Е» (я уже знал, что это буква «е»). Теперь мама шептала «Коля», молилась усердно и чётким круглым почерком выводила в записках чёткие и устойчивые как табуретки две заглавные «Н».
Никник очень уважал какого-то богослова, который приезжал из семинарии Сергиев-Пасада и читал просветительские лекции. Узнав, что я боюсь исповеди, Никник познакомил меня с батюшкой Святозаром. Я просто ненавидел исповеди в Москве. На своей первой исповеди я пожаловался, что меня передразнивают ребята в раздевалке и признался, что я их бью. Московский батюшка как будто не расслышал, продолжал наставлять, и я понял, что никому мои проблемы не нужны. И поэтому я наотрез отказывался исповедоваться, переехав в Мирошев. Но Никник был мастер убеждений, а точнее – переубеждений. Он попросил меня попробовать ещё раз, самый-пресамый последний. Тем более, что же и в Мирошеве грешил, дрался в школе, когда меня передразнивали из-за невнятной шепелявой речи. Батюшка Святозар мне понравился. Это был, как и Никник, удивительный человек, я до сих пор у него исповедуюсь. Специально приезжаю в Мирошев. А тогда, в далёком ноль-первом году батюшка Святозар, молодой, голубоглазый, широкий, говорил сочным бархатным голосом в густую бороду. Наставлял: необходимо много работать над собой: заниматься, читать скороговорки, учить их как молитвы, обязательно читать Новый Завет вслух, потому что это бес хочет навредить через плохую речь и невнятные звуки, а святые книги изгоняют бесов похлеще молитв. С тех пор я перечитываю Библию, и Жития Святых, а скороговорки бормочу на дистанции, когда совсем тяжело. Но внятно говорить я стал только в четырнадцать лет, когда мой настоящий папа Константин договорился с логопедом в поликлинике. Я ж в четырнадцать лет вернулся в Москву…
5. Тактика
Никник очень дисциплинированный и исполнительный. Когда родилась Алёна, мама практически не уходила с работы. Никник занимался Алёнкой с грудного возраста, лучше любой женщины-няньки справлялся. Он говорил:
− Это же у меня третья дочурочка. Третья – значит, самая любимая, самая красивая, самая счастливая, самая-самая-самая, как в сказках.
Никник и жил как в сказке. Он восхищался простым вещам, радовался небу, тучкам, журил сильный ветер и метели, разговаривал с ними как с живыми, успокаивал, как королевич Елисей. Никник летом всегда находил в леске рядом с заброшенным стадионом какие-то удивительные пахучие травы. И всегда шёл с этими травами в аптеку в башне, там работали знающие люди, они отвечали, что за трава – Никник делал заметку в мобильнике, а дома переписывал в дневник. Да. Он вёл дневник.
Никник никогда как мама не ругался из-за пустяков: из-за невымытой посуды и разбросанных вещей. Порядок он обожал, но не терроризировал им, как, например, бабушка. Она приехала на первые новогодние каникулы и просто достала меня своими нотациями о порядке. Но я молчал, не огрызался: Дед Мороз − такой молодец! − подарил мне на Новый год «Перевозчик дроидов»8, я с увлечением собирал конструктор. Мы и в кино с Никником ездили во Владимир на «Первый эпизод» (В Мирошев фильмы всегда позже привозили). Никник всегда повторял, что американцы-гады, враги, но кино про Звёздные войны –классика, классика, настоящие искусство принадлежит всем и вне политики. Никник ещё много мне покупал конструкторов «вражьей фирмы», но «Перевозчик Дроидов» до сих пор у меня самый любимый.
Учительница Ирина Борисовна спросила после Рождества:
− Дети! Кому что на праздник Дедушка Мороз принёс?
Я ответил, что мне конструктор «Первозчик дроидов» − одноклассники присвистнули от зависти. Так и прозвали. А до этого по фамилии дразнили – Борт.
Наступил зеркальный год, магические цифры 2002. Зеркало, нумерология, астрология… Всё это ересь и грех, а всё равно − дети любят китайский календарь и календарь с предсказаниями. 2002 – год белой лошади, лошадь − сильное животное, не обезьяна, не змея-пресмыкала. Лошадь – это свобода и скорость.
Первый счастливый Новый год в моей жизни. Мы гуляли впятером − бабушка, Никник, я, мама и Алёнка в животе у мамы. Бабушка с мамой восхищалась ёлками около памятника преподобному Косьме. Ёлки настоящие, живые, серебристые, пушистые, светились и мигали гирляндами. Их игрушками украсили, а игрушки во всех трёх школах ребята делали, выпиливали, раскрашивали несмываемыми красками, плели из проволоки огромные шары.
На территории Кремля, за стеной, появился ледяной вертеп, большой, просто огромный, и Вифлеемская ледяная звезда на крыше, такая красивая, в острых гладких гранях, так ещё и расписная! Такого в Москве не было. Там вертеп был маленький, свечей внутри много, звезды ледяной на крыше не было. Я в том вертепе с пацаном подрался, пока служба шла, он меня прям в свечки толкнул, и я немножко загорелся. А тут – никто не толкался, было свободно. Я Никнику рассказал о случае со свечками. Он промолчал, я думал, что он и не слышал. А когда я пришёл из школы и похвалился, что меня Дроидом прозвали, Никник обиделся.
− Что же ты: злой робот?
Я молчал. Робот и робот. Злой – нормально. А Никник сказал:
− Если тебя это нравится, то так точно. А если нет – то слушай мою команду.
И я оказался на полу. Я даже не понял как. Никник встал надо мной, загорелый, коротко стриженный, страшный и сказал:
− Если кто-то обзывается или нарывается, вот так действуй. Научить?
− Научить! – восхищённо сказал я.
И Никник по воскресениям стал водить меня в центр боевых искусств и единоборств. Там его друг работал. Меня учили самообороне.
Мама тогда, когда я оказался на полу, очень была довольна, обняла Никника, насколько это позволял живот, расцеловала своего любимого мужа. Мама стала жаловаться, как в Москве меня укусила девочка-соседка по лестничной площадке. Девочка была из богатой семьи, мама не посмела портить с ними отношение – соседи же, а укус был просто зверский, синий с красными следами зубов. Мама расчувствовалась и рассказала, как в молодости, в спортинтернате, лучшая подруга опрокинула маму в сугроб и стала душить.
− В шутку конечно, − сказала мама. – Просто потому, что у меня результаты росли быстро за счёт стрельбы, а у неё застопорились. Я не умела обороняться, снега наглоталась, кровью ещё два дня кашляла. Чуть сознание не потеряла, когда она так «пошутила». Больше я с ней не общалась и упросила комендантшу, чтобы меня перевели в другую комнату. А она, когда мы встречались, ухмылялась довольно и злорадно. И я ничего ей сделать не могла.
− Сразу и не надо. Надо применять выжидательную тактику и нападать в самый неожиданный момент.
− Да я ничего не нападала, Коль, − сказала мама. – Я просто выиграла у неё на соревнованиях весной.
− Это дело. Надо зло наказывать, − отозвался Никник.
Я запомнил слова о выжидательной тактике. Мне понравилось. Можно носить в себе обиду, накапливать злость и в самый неожиданный момент сразить и уничтожить врага. В центре боевых искусств, я стал оставаться после тренировки. И всегда шёл в зал к борцам. Мне нравилась вольная борьба. Ходят-ходят, бродят-бродят по тамтаму или ковру, выжидают, вдруг – набрасываются. Захваты, хваты… Супер. И рукопашный бой мне нравился, но меньше. В самообороне как раз больше рукопашного, чем борцовского.
На 23 февраля Никник подарил мне «Граф Монте-Кристо» со словами:
− Учись хладнокровию.
Это моя любимая книга до сих пор. Вот только месть моя не удалась. Я ж не в книге, а в жизни, где нет места романтизму, да и никто не оставлял мне капитал, никакой аббат Фариа, а то я отомстил бы всем своим врагам сполна, показал по чём фунт лиха.
6. Обиды и тренировки
Вроде бы ничего не предвещало неприятностей, и даже наоборот. Я отзанимался год в секции по плаванию. Чем больше одноклассники привыкали к школе, тем тяжелее приходилось мне. Меня дразнили больше и больше, точнее − передразнивали. «Дроид! Дроид!» Я помнил о выжидательной тактике и молчал. До поры до времени. Из-за неотомщённых (до поры до времени!) обид я стал лучше плавать. Я больше не старался идеально делать уроки. Делай-не делай, отвечай-не отвечай, у доски или с места − всё равно дразнят. А если учитель похвалит, то будут дразнить сильнее. Я стал как можно больше времени проводить в бассейне. Тренироваться, заниматься ОФП в зале. Я увлёкся плаванием. Про себя я благодарил тренера Громову, она ставила мне технику, я помнил все её замечания и советы – у меня память очень хорошая. Перед тем как уехать из Москвы, она приходила к нам домой, объясняла маме и мне разные хитрые секреты по плаванию. Мама старалась всё записать. Всё-таки мама волновалась, она ж пятиборка, а не пловчиха, а в Мирошеве – секция по плаванию, надо ставить технику младшей группе. Это в старшей группе тренеру только грамотно задания давать и нагрузку рассчитывать, а с маленькими всегда мучение, в любом виде спорта. Как же я радовался первому юношескому разряду зимой, как я гордился, а то в пятиборье всё – очки-очки. Двоеборье9 и то официально с девяти лет.
Единственное из уроков, что я не забросил − это письмо. Я всегда делал письмо не в прописи, а сначала в черновике. Никник проверял. Никник уверял, что у меня очень хорошие данные к каллиграфии.
− Старайся. Привыкай так писать. В армии писари – на вес золота.
− Да какие писари, − смеялась мама, гладя живот, − сейчас все на компьютеры будут переходить.
− Нет, − сказал Никник. – Живое письмо всегда в армии нужно. Писари всегда будут. Даже и у тебя, Анюта, в спортшколе. Ты посмотри: Степану какую грамоту выписали! Корявые цифры, корявые буквы. Нет у нас в бассейне ни одной некорявой руки.
− Да грамоты уж точно на компьютер переведут, − смеялась мама.
− Ну не скажи, не скажи, − не сдавался Никник.
И он, как ни странно, оказался прав. Фамилию и время до сих пор иногда вписывают в грамоту от руки и редко, чтоб почерк красивый. А у меня этих грамот великое множество. Жаль, что толку от них оказалось никакого. Так – потешить самолюбие и внукам показать…
7. Первая победа
Мама родила весной, на Вербное. В конце апреля к нам приехала Громова помочь крестить Алёнку, а заодно побыть со мной на первенстве области. И на следующий день пришла ко мне в бассейн. Она сидела на трибунах, я её не видел. У нас в бассейне трибуны высокие, нависают над водой, на трибунах сидения рядами. Дома Громова сказала:
− Стёпа! Всё более-менее, но ногами плохо работаешь. Нагрузку на ноги давай. И силы бы прибавить на старте.
Мама стала оправдываться, что она зашивается с грудной, не хватает времени на меня. Но Никник тут же вызвался со мной бегать по утрам.
− Обещай, Коля, каждый день бегать со Стёпушкой! – говорила Громова, когда мы неслись на шикарной Никниковской BMW на первенство области.
− Обещаю, Галя, вот те крест, − крестился Никник.
А я подумал: во я попал! С этого дня пришлось бегать с Никником по утрам. Мы так и бегали с ним потом много лет.
Соревнования шли три дня. Мама заявляла так, чтобы мне пришлось ездить два дня: на пятьдесят-кроль и на пятьдесят-брасс в первый день, на пятьдесят и сто-спину в третий. Громова не одобрила такой подход.
− Два полтинника в один день – тяжело. Сто и полтос ещё тяжелее. Он же маленький.
Я вспомнил, что, если бы остался на пятиборье, то плыл бы только пятьдесят-кроль. И порадовался, что не остался.
− Лучше три дня ездить. Опыт же, Анюта. У Коли не машина – самолёт.
Мама опять оправдывалась, укачивая Алёнку на руках:
− Всё не могу привыкнуть. Всю жизнь на автобусах с пересадками, на поездах – столько времени на дорогу уходило. Не перестроюсь, что с такой машине всё рядом.
Это было верно: BMW Никника летала. Если дэпээсники тормозили, то Никник энергично выходил из машины, быстро разбирался, давал немного денег. Но тормозили его редко, машину Никника почти все гаишники знали.
Я говорил:
− Но спина только в третий день. У меня спина хорошо идёт, Александра Юрьевна!
− Надо было выбрать что-то одно.
Громова помогла мне после первого дня, когда я проиграл в кроле и брассе. В машине Никник удручённо молчал, переживал. В брассе я занял предпоследнее двадцать седьмое место. И то, что соревновательная группа была 93 год и младше, и то, что я не был дисквалифицирован, как многие другие (человек десять дисквалифицировали за неправильное прохождение дистанции или повороты), никого, и меня тоже, не радовало. В кроле я стал тридцать вторым! Я винил во всём наш длинный мирошевский бассейн10 (на кубке области была − короткая вода, как и везде), Никник был с этим согласен. Громова ничего не говорила, она настраивала меня на второй, а точнее – на третий день. Утирая в машине слёзы своим душистым платком, она рассказала о «мёртвой точке», когда кажется, что нет сил. Громова уверила, что «нет сил» − временное состояние, и Никник подтвердил, стал рассказывать о кроссах с полной боевой выкладкой, о солдатах, которые в середине дистанции плелись, но «что-то включалось» и после бежали резво, финишировали среди первых.
Через день я ехал, особо не волнуясь: хуже, чем накануне, не будет. Спину я любил, хорошо стартовал, технично проплыл, и вошёл в финальный заплыв.
− Ну! Полдела сделано! – радовался Никник.
А Громова ругалась:
− Стёпа! Бегом в душ. Грейся. Николай тебя позовёт, когда надо будет.
И я стоял под горячим душем, грелся и грелся. И никому свой душ не уступал. Хотя большинство ребят были старше меня и некоторые лезли драться. Но кто-то сказал:
− Не мешайте ему! Он в финале на спине поплывёт.
И от меня отстали.
А после финала, где я стал последним, уважительно стали спрашивать в душе:
− Ну ты катер. А что ещё поплывёшь?
Конечно то, что я плыл две «спины» (на отборе и в финале) утомило мышцы, но я не остывал, хорошо грелся. Дальше ещё были виды. А «сто»-спину плыли в самом конце. Я отдохнул. Старт не прозевал. И, по совету Громовой, начал так же быстро, как на пятьдесят. О «мёртвой точке» я вспомнил на третьем бассейне, но стиснул зубы, тянулся и тянулся11 из последних сил. Чувствовал: руки устали дико, меня не хватит на ещё один гребок и − была-не была! – от усталости наобум пошёл на сальто у бортика, не притормаживая. Подумал: всё равно терять нечего, финал в пятьдесят-спина есть, а тут − всё равно, на «сто-спине» не было, всего-то было три заплыва, какой тут финал. Удивительно, но я коснулся бортика идеально – ну, вот угадал12. И оттолкнулся13, вложив всю злобу. Громова стояла у бортика, кричала, но я видел только, что она открывала рот, махала руками. Я, глядя на неё, активнее заработал руками, и от радости, что откуда-то взялись силы, приободрился: на последней прямой поплыл так быстро, как никогда не плыл. Лидера дисквалифицировали то ли за поворот то ли за фальстарт – перенервничал, наверное, поторопился. Я выгрыз десятую у второго места и неожиданно стал первым. А плыл-то я в первом слабом заплыве по первой дорожке14.
Мама просто не поверила, увидев у меня в руках маленький кубок с эмблемой, а когда услышала время, то потеряла дар речи.
− Тридцать восемь и восемь15, одна-двадцать восемь и семь! – торжествующе объявила Громова. – Степан превзошёл сам себя! Вот что значит техника с детства! А то некоторые: здоровые лбы, девяносто третий год, виляют по дорожке как алконавты в березняке16, в ограничители врезаются.
Я подтвердил первый юношеский!17 В семь (ну, почти в восемь лет) я подтвердил первый юношеский и опередил парней на год и на два старше меня! О том, что лидера дисквалифицировали и вообще соперников было немного, я даже не вспомнил, и очень зря. Результат был, прямо скажем, совсем не чемпионский. Но для моего возраста – приличный. Я до этого на прикидке сто-спину за одну-тридцать пять плыл, и это было очень круто для длинной воды18.
− Смотри! Не возгордись! – предупредила мама. – Тебе просто повезло.
Но я конечно разважничался в бассейне. Стоял под информационным стендом, где удивительными магнитными фигурками было приколото поздравление и моё фото.
В школе тоже пытался похвастаться, но кто-то в классе сказал:
− Подумаешь! Минута двадцать-восемь! Я за минуту проплыву.
Я ничего не ответил. Сказать можно всё, что угодно, а вот проплыть… Для человека несведущего время ничего не говорит. Серые мирошевцы клевали только на разряды: КМС и МС – вот и всё, что они понимали и что безоговорочно уважали. И ещё высшую категорию учителей.
После победы я расхрабрился. Всё-таки уже три месяца я отзанимался и в секции самообороны. После Пасхи меня никто не дразнил в классе. За глаза Дроидом звали, в лицо перестали. Я начал нападать на обидчиков первым. Я отомстил всем за весь год. Маму вызвали в школу – на меня пожаловалось сразу несколько мам моих обидчиков. Мама пришла с Алёнкой на перевязи и положила на стол учителю мою грамоту на «сто-спину»:
− Стёпа – чемпион по области. Вы видите, чья подпись на дипломе? Он просто так драку не начнёт. Ему в драках реализовываться не нужно. В отличие от его одноклассников.
− Вы как коллега понимаете: мальчики всегда выстраивают иерархию. Вот кто-то и не хочет…− залепетала Ирина Борисовна и всплеснула руками: − Ну надо же! Такое событие! А я ничего не знаю.
− Вот вам газета, − мама достала из слима19 газету, скрученную трубочкой.
− Ну надо же! – опять стала восхищаться Ирина Борисовна, разглаживая последнюю страницу и пробегая взглядом статью, где было написано не только обо мне, но и я упоминался как самый молодой чемпион Кубка области.
В конце года мне выдали ведомость, где в графе «поведение» значилось «отл». А вот у моих обидчиков – только «хор». А у некоторых и «уд», это у тех, чьи родители на меня пожаловались.
8. Зеркальный год
Летом в лагере было всё как обычно. Только группа у мамы в Мирошеве была помладше, мои ровесники, и почти не было девочек. В Москве-то я ездил в лагерь со старшими – у мамы была смешанная группа по пятиборью.
Я не очень люблю ровесников. Они глупые и тупые. Но как-то пережил лагерь. Всё-таки в спорте меня уважали. Никто не порол чушь, что сто-спину за минуту только так проплывёт. Мы ездили на Азовское море, мама носила Алёнку на себе, на перевязи, без всяких колясок. Маме нельзя было волноваться, чтобы не пропало молоко. Море было грязное, и утром, как назло, волны пригоняли на песок мёртвых альбатросов. С утра, когда мы спускались к пляжу, Никник первым делом, вылавливал мёртвых птиц. Это было противно. Но Никник объяснял мне, что мёртвого не надо бояться, а надо бояться живого. Никник как в воду глядел. Скоро я узнал, что значит бояться по-настоящему.
Получается, что самыми счастливыми был первый год житья на новом месте. 2002 − зеркальный год, рождение Алёнки, мои первые победы: финальные заплывы в регионе.
Осенью, и в школе, и в бассейне, у меня появились враги. Вот что такое зеркальный год. Сначала удачи – потом удачи наоборот, отражение, точнее − поражения.
Во второй класс я шёл гордый и важный. Я загорел на море, я тренировался летом. Я был сильный и пружинистый. Ещё бы! Уже четыре года, как я плавал. И букет у меня был из чайных двуцветных роз с кранной каёмкой по краям листьев, а не из каких-нибудь там дачных флоксов, цинний или хризантем. На школьной линейке я увидел военного. Не такого как Никник, не в зелёном кителе, а в сером. Мент! Он стоял среди родителей. Не только я оборачивался на него. Многие смотрели. Одиннадцатиклассник пронёс на плече красивую девочку20. Она блестела, искрилась на солнце тёмными густыми мудрёно убранными волосами и чёрными лакированными туфельками. Девочка звенела в колокольчик. Милая такая девочка, глаза немножко раскосые. Я услышал, как кто-то из родителей (а я стоял в заднем ряду нашего класса) сказал:
− Это дочка замначальника УВД!
Опа! Вот что это за серый военный.
Я и забыть забыл об этом. Но где-то в ноябре, на перемене, в коридоре, я подрался с одноклассником. Он стал шепелявить, передразнивая меня, вот и получил. Но и я получил. Кто-то резко и быстро сшиб меня с ног, откуда-то сбоку кто-то подсёк меня. Я был не готов и больно упал, не успел на бок, брякнулся на спину. Я вскочил, защищаясь теперь от двоих врагов. Это было не в первый раз, я не испугался. И тут разобрал, что второй мой враг – та девчонка, которая звенела в колокольчик. Я просто обалдел. И пропустил ещё один удар от одноклассника. Одноклассник врезал мне в челюсть, не сильно, он был слабак. И убежал. А девочка стояла, щурясь грозно и колюче:
− Ты что это на него напал? Приёмчики выучил, как погляжу?
Я не знал, что делать. Не бить же девочку, она ж дочка начальника. Я сказал:
− И ты, смотрю, знаешь приёмчики.
− Угу, − процедила девчонка. – Ты не увиливай. Признавайся: почему нападаешь на мирных граждан?
Я даже не удивился. Первоклассница, а говорит как мент из сериалов, которые смотрел во дворце водных видов спорта гардеробщик дядя Костя.
− Чего молчишь, а? Отвечай, кому сказано!
− А-аа, − потёр я, чтобы разжалобить, скулу, − а-а… он маленьких бил.
«Он маленьких бьёт» была моя волшебная фраза, моя палочка-выручалочка. Когда мы ездили с мамой в лагерь, она мне всегда давала задание: если увижу в группе драку, если старшие будут обзывать или бить младших, сразу сообщать. Вот я и привык, если что, оправдывать себя и очернять обидчика. «Он маленьких бьёт!» Обыкновенно, никто не уточнял, каких маленьких и где бьют. Ну, мало ли: каких-то, может раньше где-то встретил злодей маленьких, а теперь я мщу за тех маленьких… Девочка повелась на волшебную фразу, сказала:
− А-аа… Ну так бы сразу и сказал. С приёмчиками-то поаккуратней. Рукопашкой, что ли, занимаешься?
− Ага, − я не стал переубеждать воинственную собеседницу. – В центре боевых искусств. А ты – там же?
− Вопросики тут задаю я. Понял?
− Не понял, − огрызнулся. Вот ещё: малявка, а командует, как милиционер.
− А не понял, так скоро поймёшь.
И девочка пошла по коридору, топая крепкими ножками в маленьких блестящих туфельках на каблучках.
− Дура тупая! – крикнул я ей вдогонку.
Она даже не обернулась.
С этого момента я стал опасаться драться в школе. Я выходил на перемену и смотрел: нет ли этой деловой красивой девчонки, и только тогда со спокойной совестью нападдавал кому надо за что надо. Наши с этой воинственной девочкой классы были на разных концах этажа. Я опасался не только её, меня приводила в ужас и их учительница по прозвищу Мумия. Она ходила как скала, прямая, с огромной причёской на голове в виде блина. Я думал: какое счастье, что я учусь у Ирины Борисовны, молодой, красивой и улыбчивой.
В новом первом классе была ещё ослепительная девочка Злата. Я её знал и раньше. Она занималась гимнастикой во Дворце Спорта и выступала показательно на Дне города. Злата мне очень нравилась. Но она нравилась не только мне. Какой-то кудрявый сытый мальчишка подошёл ко мне в столовке и сказал:
− Не пялься! У тебя есть твои второклашки.
Он имел в виду, чтобы я со своими девчонками из класса был, а девчонок из его класса не трогал. Но я же и не трогал. Я просто смотрел. Тут же в столовке надо мной стали хихикать наши девочки, я покраснел, лицо моё пылало. Я ответил кудрявому:
− Без тебя знаю, первак.
А так как я шепелявил и картавил и «л» плохо выговаривал, да ещё нервничал, получилось, наверное: «Бес тебя снаю педвак». Все так рассмеялись. Ирина Борисовна стала нас ругать. А страшная учительница Мумия посмотрела на меня не осуждающе – нет! − а как-то профессионально, оценивающе − у меня от её взгляда запеканка застряла в горле.
Теперь на переменах я отсиживался в классе. Я не хотел встретить, во-первых, милицейскую дочку-драчунью, во-вторых – кудрявого придурка-первака, и в третьих – Злату. О Злате я ещё потом расскажу. Это были мои враги в школе.
И в бассейне появились враги. Уж такие враги. Всем врагам враги. Со школьными не сравнить.
9. Другая среда
Первые десять дней сентября в бассейне шёл набор в спортшколу. Два дня от силы люди шли, а потом – тишина. Да и в течение года свободно можно было в любую группу попасть. Можно в любом бассейне в любое время подойти к тренерам. И договориться о просмотре. Мама не переставала удивляться. В Москве в плавание было не совсем просто попасть. Все стремились в секцию. И были причины. Много людей в Москве стали колесить по курортам: разным турчатникам, египтам, кипрам, тайландам, мали, бали и гоа. И везде – море. А везде, где море, случаются утонувшие. Вот люди − обеспеченные люди! – и отдавали детей повсеместно в плавание. В абонементы с пяти лет. В Москве дети богатых самолюбивые и с амбициями, не пришибленные как бедняки, и родители с ними занимаются, разговаривают, настраивают, то многие с абонемента переходили с семи лет в спорт – оставались в бассейне ещё на год-два-три, а у кого шли результаты – те и надолго. А в Мирошеве − наоборот, все, в любом возрасте, стремились на платные занятия, в абонемент.
− Почему так, Коля? – недоумевала мама первый год, когда мы только переехали.
− Один бассейн на огромную территорию, вокруг Мирошева много посёлков, − объяснял Никник. – Нужно лечебное плавание, а не спортивное. Стараются детей отдать, у кого искривление позвоночника, сердце или что-то ещё.
− Всё равно не могу понять, – недоумевала мама. – Раз один бассейн и много посёлков, почему на спортивное плавание так мало детей?
− Потому что спортивные дети сами по себе.
− Да почему?
− Да потому что, Анюта, возить некому дитёв. Абонемент – это или богатеи или те, у кого дети больные, эти возят дитё. А спортивные дети у кого?
− У кого?
− У бедноты.
− Всё равно не понимаю, − удивлялась мама. – Не улавливаю, Коля, связь.
− Спортивными детьми родители не занимаются. Здоров, по двору в футбол гоняет, и – слава богу. Родитель – на работе. И часто – далеко от дома.
− Не может быть, Коля! Кто-нибудь должен приводить и спортивных детей…Ну хотя бы родители – сами бывшие спортсмены должны же быть в этих твоих посёлках?
− В большинстве своём нет, Анечка. У нас же во Дворце Спорта есть гимнастика и волейбол. Туда многие родители-спортсмены своих и отдают. Гимнастика – с трёх лет. А бассейн – с шести. Лучших забирают на гимнастику. Потом ещё танцы в ДК «Октябрь» бальные, многие девочки туда из гимнастики переходят. А ещё волейбол с семи лет. Крупненьких, высоких – туда. Волейбол тут любят. Пляжей-то навалом.
− Не понимаю, − упрямилась мама. – Всё равно не понимаю. Гимнастика, танцы, волейбол – такой травматизм. Плавание – самый безопасный вид спорта…
− Народу непонятный этот вид спорта, Анюта. Волейбол – это массово, двенадцать человек на площадке и ещё подменные. А плавание – это другая среда, водная, – Никник любил навести туману, зубы заговорить.
Спортивного плавания в Мирошеве боялись в то время как огня. Как же: у девочки «будут плечи». Можно подумать, что на гимнастике и волейболе плечевой пояс не разовьётся. Такое впечатление, что «Терминатор-2» и «Матрицу» никто в этом Мирошеве не смотрел. В голливудских фильмах давным-давно тётеньки подкачанные. Худосочных нет. На абонементе девочек было навалом. Дворец спорта, гимнасты и волейболисты, арендовали дорожки на выходные, чтобы не сталкиваться с нами, пловцами, чтобы наши тренеры не перетянули к себе их девочек. А кого там перетягивать, когда в плавании с семи лет надо начинать. Э-эх, провинция она провинция и есть. Серость сплошная.
Я узнал от одноклассников, что в городе есть район Иголка, куда лучше не соваться. Район жил отдельной от всего города жизнью, этот бывший промышленный район, и школа там была своя, отдельная, а попросту «отстойная». Никник объяснил, что раньше там работал завод оптических приборов и завод игрушек, а теперь осталось только побочное производство − игольный завод.
− Штампует иголки с ушками разного миллиметража, остальные без работы сидят, жизнь каратают, кто как может, − грустил Никник. – Развалили, гады, инфраструктуры. У-уу. – И Никник грозил кулаком кому-то невидимому.
По всей видимости, тех, кто развалил заводы не было в городе, потому что с холёными гладковыбритыми лоснящимися и надушенными чиновниками в стильных костюмах, со всей этой администрацией, в том числе и директором игольного завода, Никник был на короткой ноге, здоровался за руку, ходил в Администрацию на банкеты… И меня брал, и с мамой ходил, пока она не родила. А потом, когда можно было брать и подросшую Алёнку, мы очень редко стали ходить на банкеты, и уже не в администрацию, а в ресторан, где все мирошевцы свадьбы справляли, независимо от достатка – такая была в городе традиция. И ходили мы всей семьёй не на праздники, женский день или День Победы как поначалу, а всё больше на юбилеи и днюхи. Постепенно, не сразу, сменилась в городе власть, вышли на пенсию друзья Никника, у новых чиновников были свои друзья. Получалось, что я застал Никника на закате славы, Алёнка – так вообще не застала. Но и после смены руководства Никника по-прежнему все уважали, он оставался председателем общественных организаций, но эти организации не шиковали, не пировали, банкеты в своих маленьких помещениях не устраивали. Никник и до сих пор ходит поздравлять ветеранов с Днём Победы, надевает свой парадный мундир, одевает празднично Алёнку − как только она научилась топать своими короткими ножками стала с отцом поздравлять ветеранов.
10. Враги
Значит, всего год я жил в Мирошеве беззаботно и счастливо. И пререкания с перваками в школе были просто неприятны. Очень неприятны, но не более. Я потерял покой не из-за перваков, которые приставали ко мне, второкласснику. Я стал нервничать, когда в бассейне появились эти. Эти – двое мальчишек. Приехали из посёлка. И мама даже хотела их взять к себе в группу после просмотра, но я…
Первое сентября во дворце спорта. Грудная Алёнка играет в спортивном зале в детском фирменном сетчатом манеже под присмотром преданной Никнику уборщицы тётя Раи. Никник ходит по фойе, зазывает всех в стрелковый клуб. Я помогаю маме проводить просмотр. Слежу по её просьбе за претендентами в раздевалке и душевой – ребята всегда терялись на новом месте, тем более в бассейне, я обязан был приободрить, объяснить порядки. Но я никого не приободрял − больно надо. Я к ним со всей душой, а они потом в бассейне освоятся и дразниться начнут, передразнивать. В восемь лет я уяснил чётко: чем хуже к человеку относишься, тем больше он тебя уважает и немного побаивается, не лезет с глупыми вопросами и разговорами. Я старался вести себя в бассейне приблизительно как та девочка, дочка мента. Она со мной на переменах в школе не церемонилась, смотрела строго, если я попадался ей на пути, и я её не боялся – нет!, − но: опасался.
И вот заявляется чувак. Чувачок. Чувачочек. Чел. Челик. Чикобрек. Лицо взрослое, серьёзное. Не то, чтобы голова взрослого, а тело ребёнка, пацан как пацан, а выражение лица какое-то странное − спокойное. И плечищи! Сам худой, плечи широкие, руки жилистые, бицепсы маленькие, перекатываются под кожей. Он куртку снял, а под курткой – ни олимпийки, ни, на худой конец, футболки. В майке стоит у гардероба, с какой-то костлявой высокой женщиной, похожей на мужика. С такой бабой-мужиком, короче, в немодной безразмерной клетчатой рубахе и модных тогда джинсах-клёш, высветленных посередине. И я понимаю, что она, эта женщина, гардеробщика дядю Костю знает, но встретилась с ним здесь совершенно неожиданно. Чуть ли не обнимаются, не целуются. Как родственники. Я напрягся. Наблюдаю из холла, не приближаюсь. Подумал: какая же моя мама красивая, и какая страшная мама у этих ребят. Множественное число, потому что там ещё один парень стоял. Затравленно озирался как воришка – примерно такого недавно в бассейне поймала наша всевидящая наиопытнейшая тётя Рая. Стоит этот второй, красный, уши лопоухие – бордовые, и на все уговоры гардеробщика и бабы-мужика упирается, отрицательно крутит головой, руками в застёжку-молнию на куртке впился. Потом плечистый надел «общественные» шлёпки, (позже оказалось − оба правых), кивнул своей страшной маме, взял «общественную» резиновую шапочку, и пошёл в раздевалку. Я – за ним. А Ушастик остался стоять с гардеробщиком − как в пол врос.
Когда я впервые пришёл в мирошевский бассейн, мне было с чем сравнить. Конечно же сам бассейн – крутой, пятидесятиметровый, с вышками. Ну понятно: военный городок был тут серьёзный, секретный, тренировались тоже серьёзно, и соревнования проводились серьёзные, секретные. Никаких детских спортшкол и детских соревнований в помине не было. Проходили ведомственные соревнования, и всё больше по подводному плаванию. Ну приблизительно как в фильме «Человек-Амфибия» и «Капитан Немо» − ласты, гидрокостюмы. Много тут подводники тренировались. С вышек здесь учили прыгать. Всё было засекречено. А перед олимпиадами приезжала сборная. На сборы. Пловцы, но чаще – синхронистки. Они скрывали свою программу, окончательный вариант, а не тот, что в «Олимпийском» или в «Труде»21 разучивали. Это всё мне Никник рассказал, а ему – его друг, директор бассейна Артемий Иннокентьевич. И одна синхронистка у нас в бассейне среди тренеров была. Бывшая синхронистка. Татьяна Владимировна. Она тут на сборах с военным познакомилась, поженились. Когда мы с мамой переехали, она вела абонемент и индивидуальные занятия, частным образом, минуя администратора. Мама с ней сразу сдружилась, потому что мне нужна была грамотная растяжка, а синхронистки по растяжке спецы. Помню: меня бассейн удивил. Поразило пространство. Глубина, вышки, тумбочки с обеих сторон, акустика, вода – зелёная, по цвету − как обложка самой дешёвой школьной тетради. Бассейн крепко хлорировался по-старинке. Никакого озонирования и в помине не было. Бассейн глубокий, длинный, но достаточно узкий – на пять дорожек. Зато легко следить на соревнованиях было, сейчас-то камеры понавесили, а тогда по старинке следили, вдоль бортика тренер шёл22.
Но больше бассейна меня поразило то, что в душевых никто из мелких пацанов не бесился. Не то, чтобы чинно мылись, но никто не игрался с водой. Бои на полотенцах в раздевалках шли, вот и всё. Пеной кидались крайне редко, потому что пены тогда ещё не у кого не было, и гелей для душа тоже − все мылились мылом, как пенсионеры. Вообще мирошевцы – угрюмые, особенно в то время. Завод оптических приборов, где многие работали, был закрыт. В то как раз время закрывался завод игрушек. Мирошевцы переживали, волновались и митинговали на площади Святого Косьмы. Старинный завод не выдерживал конкуренции, разорялся. Это откладывало отпечаток на настроение ребят. Помню, меня ещё поразило в городе, что мобильников ни у кого не было. (В Москве-то были у многих.) Но зато в Мирошеве был местный телевизионный канал, очень интересный, всё время фильмы старые детские крутили. Меня прикалывало, когда в фильме дворник из шланга народ поливает – это весело и смешно. Разговорился как-то в душевой об этом фильме, который все тоже видели. И пошло поехало – болтали с пацанами. Главное ж – начать. Это во всём так, в любой сфере. Я обожал водные бои. Я быстро научил всех ребят «контрастному душу»: плеваться холодной водой. Не все, но многие, принимали игру, вовлекались в неё. Если кто-то с надутыми щеками шёл на меня, я использовал собственно изобретённой авторский трюк: включал кипяток и вставал за водной струёй, к стенке кабинки. И никто не мог в меня плюнуть водой – она бы не пролетела через заслон кипятка. Конечно, это опасно стоять за заслоном горячей воды, можно и обжечься. Но она не всегда была прям горячей, иногда просто горячей, почти терпимой. Если что, можно было выйти из кабинки бочком-бочком, обойти пышущую жаром струю, если двигаться вдоль стенки, плотно прижимаясь. Ещё шапочками окатывали друг друга. Наполняли резиновую шапочку ледяной водой и окатывали.
Вот я и окатил этого плечистого мальчишку. Он мне сразу не понравился, в раздевалке – ещё больше. Приехал в бассейн, и даже плавки не взял, не то что бы мыло с мочалкой. В трусах попёрся в ванну бассейна. Вот и получил от меня ледяной дождь. Окатил я его и убежал, я ж одетый вообще-то был. И побежал на трибуны, чтобы смотреть, как мама этого мальчишку продинамит – с трибун я маме делал знаки, что парень ненадёжный. Но мама стала с ним разговаривать. Тут подошла медсестра Белла Эдуардовна. Я надеялся: выпроводит. Она очень скандальная, ругучая, инфекций боится. Это ж не 25-метровая ванна, это глубокий прыжковый бассейн со всеми вытекающими отсюда трудностями очистки. И вдруг мама меня зовёт. Что такое, думаю, неужели берут этого чувака, чувачка, чувачочка, челика-чекобрека? Мама кричит, чтобы я принёс плавки, очки, мыло, мочалку, полотенце. Я сбегал в тренерскую, принёс, всё, что мама просила, и даже две пары плавок, потому что этот плечистый и о своём Ушастике успел сообщить. Они вместе пошли мыться, а мама меня подозвала и говорит:
− Стёпа! Дело на сто рублей. Сходи к Коле, так чтобы никто не слышал, спроси: что это за Толян-плотник из посёлка Семенного и что это за Иван, у которого сын Михайло Иваныч. И мне доложишь тогда. Повтори вопрос.
Я повторил мамин вопрос, она кивнула: «всё правильно», и я стремглав к Никнику. Мы с Никником вышли на улицу, подальше от бассейна. Никник перезвонил своей дочери, она жила в этом как раз посёлке. Никник выслушал, я успел кое-что разобрать, не всё: в посёлке до войны селили бывших заключённых, их потомки так и живут там. Никник меня отослал обратно, а сам стал звонить маме. Ничего себе! И таким чувакам ещё плавки давать! Я вбежал в раздевалку, сам быстро переоделся в плавки, вбежал в душевую − двое чувачков, плечистый и ушастый, ещё мылись в душе. Я хотел там с ними пошутить, поболтать, но тот чувачок зыркнул зло, шепнул что-то Ушастику и приказал выходить. Я тоже побежал на бортик, чтобы ничего не пропустить. Мама разговаривала с чувачками, сказала: «Ясно. Посмотрим». Я нервничал: что тут смотреть-то, ведь они тупые дятлы! Между тем, эти поселковые не могли разобраться с дорожками. Ну я объяснил им, идиотам, нумерацию дорожек. Они плюхнулись в воду раскоряками. Но когда поплыли, я, хоть и не люблю жаргона, прифигел конкретно. Плечистый был первый раз в бассейне, а плыл, будто три года отзанимался. Ушастый плыл намного хуже, но для самоучки очень даже ничего. Я даже подумал: может, они наврали, что впервые в бассейне, может они уже в абонемент ходили? А может они в своём посёлке плавали с тренером на озере? У них же там озеро большое—Никник на карте района нам его как-то показывал. А может, эта баба-мужик сама тренер? «Точно! – осенило меня. – Баба-мужик сама пловчиха!» Я выжидал, я ждал, что мама проигнорирует этих ребят. Но она вдруг начала ругаться с Максом – молодым перспективным тренером. Я подумал: вот тебе и мама, вот тебе и мамочка. Зачем её нужен этот плечистый? Да он занимался. Специально всё лето готовился к просмотру! Мне хотелось крикнуть: мама! ты что не видишь? с ним занимались! он специально прикидывается простачком! Мама, мама! Мне восемь лет и я это понимаю, а ты не понимаешь в свои тридцать с гаком?! (Собеседники меня часто переспрашивали, что я говорю. Я старался реже говорить вслух, но про себя любую эмоцию оформлял в слова, особенно возмущение.) Моя мама тем временем ругалась с Максом не по-детски, Макс хотел «хапнуть» плечистого. Тренеру нужен способный ученик. Да и любому учителю он нужен. И тут я сделал маме знак, подошёл и передал ей на ухо, что баба-мужик, и её дети – плохо одеты, что они − нищеброды. Мама спросила:
− Точно?
− Да точно, − отвечаю. – Она с гардеробщиком дядей Костей обнималась. Родня, наверное.
− А-ааа, − протянула мама.
И нехотя, но отдала чувачков Максу. А я побежал в раздевалку, открыл шкафчик плечистого, взял его трусы, закинул за шкафчики, чтобы знал, кто тут главный. Мне не понравилось, как этот плечистый на меня смотрел. Он не злился абсолютно, как обычно все злились, когда я их ледяной водой окатывал. Этот плечистый просто смотрел удивлённо и совершенно спокойно, как будто я какая-то надоедливая букашка, вроде комара или рыжего муравья, и меня надо перетерпеть. Да и, если уж начистоту, в детстве я был уверен, что плаваю лучше всех. В случае с Лизой я проигрывал. Но мама и Громова убеждали и доказывали: девочки в плавании взрослеют раньше и сильнее только по началу, мальчики «выстреливают» на два года позже. И юниорам в плавании – 15-17, а юниоркам—13-15 лет. «Плавание – не пятиборье, в плавании много стилей и много дистанций, всем медалей хватит», − уверяла меня мама. «Длинные дистанции – твои, − говорил мне позже Никник, − будешь бегать, ноги будут ещё сильнее, а в длинных это важно работать ногами, чаще, чем руками»23. Я знал, был уверен: мои крупные победы впереди, когда вырасту, смогу плыть 400 или 80024. Как плыть полторашку25 я в свои восемь лет не мог даже нафантазировать. Но я знал одно: в бассейне я самый сильный, я победил по региону ребят на два года старше. В школе со мной особенно не считаются, но в бассейне всё решают результаты. Я крут, потому что быстро плаваю. А если кто со мной дрался, тот имел дело с мамой. Хулиганы вылетали из группы. Родители этих хулиганов утверждали, что хулиган – я. А я не хулиган. В бассейне, да и в любой секции, каждый должен знать своё место. Если результаты слабые, не надо высовываться, следует помалкивать. Я же в школе терпел наезды даже от перваков, хотя учился лучше многих в своём классе. В общем, я как говорится, холил и лелеял свой авторитет в бассейне.
И тут – эти двое дятлов с бабой на мою и мамину голову. Я стал жалеть, что Никник не привозит и не заезжает за мной в бассейн на своей крутой бэхе. За многими заезжали. И даже мама этих чувачков-чувачочков рулила, пусть и не на крутой тачке, но вполне себе для Мирошева приличной тачке. «Эх! – думал я, когда потихоньку наблюдал чувачочков, выходящих из бассейна, – даже тупых дятлов на тачке из бассейна увозят, а Никник – никогда, скромный он, видишь ли. Мы с мамой вечером, после старшей группы сами пешком топаем». Топать совсем рядом: минут десять, но разве в этом дело.
В ноябре мама, когда шли домой, сказала:
− Эх! А нищеброды из посёлка оказались не нищебродами. И вовсе они гардеробщику не родня. Просто односельчане. Никогда не оценивай людей по одёжке, Стёпа.
Я уверил, что ошибся, что больше никогда не буду оценивать по одёжке, я был рад, что мама не раскусила моё коварство, и я был расстроен, что, если бы не мои «рекомендации», она бы взяла без разговоров этих чувачков. Я тогда стал уверять маму, что эти поселковые – психи. Рассказал, как наблюдаю одну и ту же картину из раза в раз: худая баба-мужик в вечных джинсах-«клешах» и кроссовках, заставляет на выходе своих чувачочков надевать шапки и капюшоны. Это была умора, особенно Ушастик сопротивлялся. «Ну идиоты, − говорил я маме. – Гайморит с отитом хотят заработать». А мама почему-то только смеялась над моим рассказом, видно было, что она не считает поселковых идиотами.
Когда мы ходили с Никником ко всенощной, я шептал молитвы, я умолял Бога: сделай так, чтобы они не надевали шапки и капюшоны, сделай так, чтобы они заболели ангиной, гайморитом и отитом! Но молитвы мои оставались не услышанными: на выходе из дверей сопротивление этих поселковых заканчивалось всегда одинаково. И одному и другому баба-мужик впендюривала такие подзатыльники, отвешивала такие пендели, что я всегда удивлялся, как они не улетают в космос. И своего и чужого била злая мать одинаково.
Через месяца два, как-то вечером дома, мама мягко и ласково сказала Никнику:
− Жалею, что послушалась Стёпу, испугалась и не взяла их.
А Никник сказал:
− Не жалей, Анюта. От зэков всего, чего угодно ждать можно.
− Но они не зэки. Когда это было, − сказала мама.
− Не зэки, именно, − согласился Никник. – В Семенном посёлке много приличных людей, там после войны орденоносцам участки давали и творческой интеллигенции из самой Москвы. Дачные товарищества там тоже всё приличные люди. Но именно эти пацаны с крайних трёх улиц – опасны. Помяни моё слово. Я в этом деле опыт имею.
− А кто такие зэки? – решился спросить я.
− Кто в тюрьме сидел, − поспешно сказала мама. Мама всегда, когда речь заходила об отношениях мужчины и женщины, о политике, о тюрьме и о папе старалась говорить кратко, быстро тараторя.
− Почему в тюрьме? – удивился Никник. − Они тут сидели, в посёлке, на поселении. А зэк, Стёпа, это значит – заключённый.
− А-аа. Понятно, − сказал я. (Я тогда конечно же ещё не читал Шаламова и Довлатова «заключённый», слово, знал, аббревиатуру ЗК – не знал.)
− Ты, Стёпа, с этими ребятами поаккуратней, − продолжал Никник. − Хотя, опять же, по опыту, такие ребята как раз чемпионами и становятся.
− Нет, − запротестовала мама. – Чтобы стать чемпионом, нужны железные нервы, а у них, во всяком случае, у одного из них, нервы ни к чёрту. − Мама зашептала «прости господи» и перекрестилась











