Читать онлайн Ставропольский «дядя Гиляй»: история Ставрополья в художественной и документальной публицистике Юрия Христинина
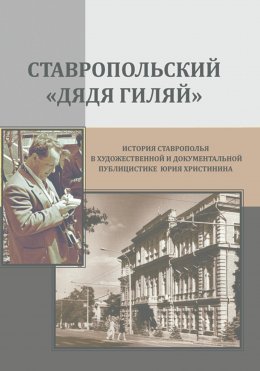
Юрий Николаевич Христинин
Современная Википедия в ответ на эту фамилию сразу же выдает несколько страниц убористым шрифтом – вначале «российский журналист, публицист, краевед и писатель», годы жизни 1942 – 2008, затем сравнительно короткая биография. А дальше – длиннющий перечень журналистских расследований, которые завершались очерками в центральных и местных газетах, а также книгами и документальными фильмами…
Юрий Николаевич Христинин родился 14 февраля 1942 года в семье военного. Отец был штурманом-бомбардировщиком, мать – дочь священника, невинно расстрелянного в 1933 году, на пике репрессий духовенства на Северном Кавказе. Так сложилось, что духовным развитием Юрия занимались преимущественно бабушка и тётя – Ольга Николаевна Бернасовская, заслуженный учитель РСФСР, в прошлом заведующая ГорОНО г. Невинномысска, директор школы №6, человек удивительной скромности и глубочайшей культуры. Детство Юрий провел в кубанской станице Беломечётской, где жила вся многочисленная семья по линии матери. От бабушки – представительницы потомственного священнического рода, получившей образование в Петербурге и преподававшей в начале века русский язык и литературу в Тифлисском епархиальном Иоанникиевском женском училище, Юрий унаследовал врождённую грамотность, любовь к чтению, да и сами книги, которые, несмотря на все тяготы времени, кочевали с семьей по всему Кавказу. Чтение формировало разносторонние интересы Юрия, но более всего он мечтал стать путешественником, странствовать по городам и весям, быть первопроходцем…
С переездом семьи в Невинномысск Юрий поступает в школу. Именно там он начинает писать свои первые юнкоровские заметки в школьную и городскую газеты. Удивительный факт: при том, что литература и русский язык давались мальчику легко и были любимыми предметами, оценки по ним были едва ли не удовлетворительными – познания подростка уязвляли самолюбие учительницы, потому как серьезно превышали ее личный профессиональный уровень.
После окончания школы Юрий пошел работать монтажником электромонтажного управления и сразу же стал внештатным корреспондентом «Невинномысского рабочего». Можно сказать, что профессия его нашла в самом начале взрослой жизни – в 19 лет он стал корреспондентом городской газеты. Впрочем, ненадолго.
В 1962 году пришла повестка из военкомата, и его отправили служить в Группу советских войск в Германии. Юрий не бросал «марать бумагу» даже во время службы: за активную и плодотворную военкоровскую деятельность он был отмечен благодарностью Главкома ГСВГ генерала армии И. И. Якубовского. Надо сказать, что с армейской службы у журналиста сохранилось какое-то особое отношение к военным – будь то ветераны Великой Отечественной, или обычные ребята, прошедшие афганскую или чеченскую войну, генералы или простые солдаты. Забегая вперед, скажем, что через несколько лет по инициативе Юрия и под его патронажем в «Ставропольской правде» возникнет рубрика «Факел» объемом на всю газетную полосу, ее героями станут именно они – люди в военной форме.
…Уже спустя многие годы, в начале 90-х, журналист Александр Загайнов возвращался как-то с Христининым из командировки: «…Радиоприемник в нашем «уазике» громко транслировал репортаж о крахе Берлинской стены. Юрий Николаевич отчего-то погрустнел и неожиданно вспомнил: «Ты знаешь, Саша, а я ведь эту стену строил…». От моих предложений продолжить воспоминания тогда он наотрез отказался, мудро заметив: «Вот подожди, пройдет еще лет 30, и увидишь, какие стены появятся там, в Европе. Да и на наших границах… И их строители тоже будут верить, как и мы тогда в 62-м, что делают очень нужное, почти святое дело». Я ему тогда не поверил, а вот теперь почему-то вспомнил эти слова. Ведь он оказался в итоге прав: Берлинскую тогда растащили на сувениры, а сколько еще новых стен понастроили! И у них, в Европе и Америке, и на наших границах…»1.
Непродолжительное время Юрий Николаевич работает в Горкоме комсомола Невинномысска. Здесь он знакомится со своей будущей супругой – Жанеттой Васильевной Никитенко, работником образования, с которой и пройдет по жизни 40 лет через все житейские испытания.
В 1966 году Ю. Н. Христинин поступает на филологический факультет Ростовского государственного университета, с 1976 года учится во Всесоюзном государственном институе кинематографии (сценарный факультет), оканчивает партийную школу. В ряды КПСС Христинин вступил еще в армии, и из партии так и не вышел – несмотря на произошедшие перемены в стране, на развязавшуюся в начале 90-х травлю «правых» по отношению к «левым», на все связанные с этим житейские и рабочие трудности. По словам друга Юрия Николаевича, писателя Вадима Чернова, «мимикрией он не страдал; и, хотя далеко не все одобрял в политике партии, уж очень ему претила гибкость «кузнецов счастья» – на изломе эпох он предпочел остаться самим собой»2.
С середины 60-х гг. в стране начинается масштабное движение по изучению и сохранению памятников Отечества – инициирует его Всероссийское общество охраны памятников истории и культуры. «Если человек не любит хотя бы изредка смотреть на старые фотографии своих родителей, не ценит память о них, оставленную в саде, который они возделывали, в вещах, которые им принадлежали, значит, он не любит их. Еcли человек не любит старые дома, старые улицы, пусть даже и плохонькие, значит, у него нет любви к своему городу. Если человек равнодушен к памятникам истории своей страны, значит, он равнодушен к своей стране». Эти слова академика Д. С. Лихачева, обращенные к краеведам всей страны, были в полной мере созвучны профессиональной и чисто человеческой позиции Ю. Н. Христинина.
Основной темой творчества журналиста становится историческая: на протяжении всей своей жизни Юрий Николаевич интересовался судьбами людей, так или иначе связанными со Ставропольем. В эти годы на газетных полосах «Молодого ленинца», а потом и «Ставропольской правды» (ей Христинин отдал почти четверть века) появлялись исторические очерки, многотысячными тиражами печатались его книги в Ставрополе и в Москве. «День моего города» (в соавторстве с А. Екимцевым), «Два века» (в соавторстве с В. Гниловским и В. Госданкером), «На рейде «Ставрополь»», «Сестра милосердия», «На сорок пятой параллели» (в соавторстве с В. Госданкером) – это далеко не полный перечень его книг. Совместно с главным редактором «Ставропольской правды» А. Л. Попутько в 1982 году Ю. Н. Христинин пишет одну из лучших своих книг «Именем ВЧК», за которую в 1982 году авторам присуждаются Почётные дипломы Комитета государственной безопасности СССР «За лучшие произведения литературы и кино о чекистах и пограничниках». После выхода этой книги «краеведам и историкам стало еще более очевидным: огромные пласты фактов и событий, связанных с ликвидацией контрреволюционных сил и подвигом чекистов, еще ждут своего часа и своих исследователей»3.
Настоящей сенсацией стал материал Христинина о Михаиле Калинкине – нашем земляке из Георгиевска, изображенном на знаменитой фотографии военных лет, известной под названием «Политрук продолжает бой». Теперь этот факт на занятиях по истории ставропольской журналистики преподносят как легенду. Но вначале легендой стал этот снимок забинтованного офицера с лейтенантскими погонами и перекошенным от боли лицом, который поднимает в атаку своих солдат. Он был опубликован во многих отечественных и зарубежных изданиях, стал экспонатом военных музеев. А через много лет после войны в редакцию «Ставропольской правды» пришла пожилая женщина и, протянув фотографию журналисту, сказала: «Это мой брать Миша Калинкин». К счастью, тогда еще был жив автор снимка – фронтовой фотокорреспондент Иван Шагин. Но он мало что вспомнил: снимок сделал в 1944 году, когда шли бои под Ригой, фамилию офицера тогда не спросил. Христинин поднял архивы, потом обратился к столичным криминалистам. После долгого изучения снимков последовал однозначный ответ: на снимке запечатлен именно М. И. Калинкин. Потом еще несколько лет Юрий Николаевич работал в архивах и музеях, встречался с земляками и родственниками героя. В итоге вышло несколько публикаций в газетах, чуть позже – документальная повесть и фильм, благодаря чему имя героя стало известным и вошло в историю.
Алгоритм поисковой работы журналиста был почти всегда один и тот же: со страниц местных и центральных печатных изданий он обращался к читателям всей страны, разыскивая свидетелей, участников тех или иных событий. Параллельно рассылал запросы в самые различные архивы и музеи, ведомства и фонды. Задача этого этапа была предельно ясной – собрать как можно более полную документальную базу. Спустя какое-то время полученная информация постепенно начинает оформляться в отдельные заметки, очерки, интервью, и лишь спустя годы – складывается замысел художественного произведения, и документальные источники обретают литературную форму.
Кропотливо, подолгу, по крупицам Христинин восстанавливал неизвестные страницы нашей истории. Писал о судьбе вольнодумца Захара Мишина – депутата от ставропольских крестьян I-й Государственной думы 1906 года. Отыскал интересные факты о судьбе члена тайного революционного общества «Земля и воля» Григория Попко, Германа Лопатина. Героями его очерков стали также сподвижник лейтенанта Шмидта Никита Антоненко, «железный» Феликс Дзержинский, дипкурьер Алексей Корчагин и многие другие люди, оставившие след в истории страны.
Среди его открытий также судьба единственной в России женщины, награжденной военным орденом Святого Георгия IV-й степени, – Риммы Михайловны Ивановой. Ю. Н. Христинин перелистал сотни архивных материалов того времени, смог отыскать солдат и прапорщиков царской армии, принял участие в установлении подлинного места захоронения Р. М. Ивановой. Он потратил несколько лет и посетил многие города, прежде чем смог написать повесть о жизни и подвиге выпускницы ставропольской Ольгинской гимназии, ставшей в годы Первой мировой войны легендарной сестрой милосердия.
В обширном архиве журналиста до сих пор хранятся подборки материалов по каждому такому «делу»: вырезки из газет, фотографии, запросы в архивы и полученные оттуда ответы и документы, письма и отзывы читателей. И именно эта систематичность, с которой Юрий Николаевич подходил к своей работе, позволила подготовить к изданию посмертный сборник его документальных очерков – «Без права на забвение: история Ставрополья в лицах и документах» (2017).
Впрочем, исторические очерки были отнюдь не единственным жанром, которым владел журналист. Как и все профессиональные репортеры, он мог писать статьи на самые разные темы. Из-под пера «неудобного Христинина» частенько выходили критические и проблемные публикации, затрагивающие запретные темы. Свое мнение журналист выражал всегда смело и открыто, невзирая на чины и ранги. После некоторых из них «доставалось» главному редактору – к счастью, главреды «Ставропольской правды» той поры, бывшие фронтовики Павел Иосифович Дубинин и Андрей Лаврентьевич Попутько умели, что называется, брать огонь на себя и отстаивали правоту «ершистого» журналиста в очень высоких крайкомовских кабинетах.
Особый и неподдельный интерес Юрия Николаевича вызывала работа людей, чья профессия была связана с выполнением служебного долга и сопряжена с каждодневной опасностью – милиционеров, работников прокуратуры, пограничников. Христинин изучает специфику их работы буквально изнутри, работая в тесном контакте с представителями всех перечисленных служб. Серии судебных очерков в газетах и журналах, статьи, написанные на основе раскрытых уголовных дел, со временем оформляются в повести – «По особо важным делам», «У самого края» и сборник очерков «При исполнении служебного долга» (совместно с В. Ходаревым).
Отчасти сбывается и заветная детская мечта Юрия Николаевича о путешествиях, правда, воплощается она своеобразно – в бесконечные служебные командировки по краю, стране и за ее пределы (Польша, Чехословакия, ГДР). Особенной страницей жизни становится «болгарская» история. В Болгарии Юрий Николаевич был трижды: с 1969 года города Ставрополь и Пазарджик становятся побратимами – подписывается Договор о партнерско-дружеских отношениях между ними. Особенно активно деловые и культурные связи развиваются в 70–80-е годы. В эти годы задачей журналиста стало неформальное освещение в прессе этапов и итогов этого сотрудничества, знакомство ставропольчан с традициями, историей и культурой братской страны. При непосредственном участии Ю. Н. Христинина издаются сборники очерков и статей «Дорогами дружбы», «Навеки вместе».
Новая, дотоле неизвестная творческая ипостась журналиста раскрывается в период подготовки к полномасштабному празднованию тысячелетнего юбилея принятия христианства на Руси. В СССР – атеистическом государстве, где религия с 20-х годов не имела политического и общественного веса и преследовалась (семьи Юрия Николаевича это коснулось напрямую) – этот праздник впервые за всю историю страны приобрел поистине государственный размах. Христинину, хорошо знающему историю православия, свободно разбирающемуся в библейских и евангельских сюжетах, поручают освещение в прессе наиболее значимых религиозных мероприятий, интервью с виднейшими представителями Русской Православной Церкви на Северном Кавказе – с архиепископом Ставропольским и Бакинским Антонием (Завгородним), позднее – с митрополитом Ставропольским и Владикавказским Гедеоном (Докукиным). С этих пор встречи с духовенством в рабочем графике Юрия Николаевича станут регулярными.
За свой более чем сорокалетний стаж Ю. Н. Христинин работал в «Ставропольских губернских ведомостях», «Северо-Кавказских известиях», в газетах «Вечерний Ставрополь», «Юг», «Южный экспресс», «Северный Кавказ», «Красное знамя» (Ростов-на-Дону), регулярно публиковался в центральной прессе («Журналист», «Правда», «Глобус», «Вокруг света», «Памятники Отечества»), являлся внештатным корреспондентом «Известий» (Москва).
В лихие 90-е, когда жизнь в стране перевернулась вверх дном, Юрию Николаевичу перевалило уже за 50, но он по-прежнему был молод душой, жадно интересовался всем, что происходило вокруг. Он бывал и на погранзаставах, и в «горячих точках», где лилась кровь. Ему нужно было увидеть все собственными глазами, разобраться во всем на месте, поговорить с очевидцами событий, чтобы потом поделиться своими впечатлениями с читателями. «Помню, летом 1995 года, в разгар первой чеченской войны, – вспоминает Станислав Касперский, он принес мне (я тогда был редактором «Ставропольского казачьего вестника») свою острую проблемную статью «Россия – России: «Иду на вы». В ней беспристрастно была показана эта война, где россияне воюют с россиянами. Я без колебаний поставил ее в очередной номер. Публикация имела большой общественный резонанс. Вообще смелые публикации Христинина на злобу дня всегда вызывали живой отклик благодарных читателей. Там была правда»4.
Военкор «Ставропольской правды» Алексей Лазарев поражался необычайной выдержке и поистине олимпийскому спокойствию этого «деда», который даже в насквозь прокуренной и полутемной армейской палатке продолжал заниматься своим делом: «расшифровывал» записи бесед с солдатами и офицерами и писал в своем блокноте материалы из Аргунского ущелья, чтобы потом продиктовать их по телефону стенографисткам своей редакции5.
Он шел в ногу со временем, откликался на злобу дня, обладал счастливым даром находить интересных людей и интересно о них рассказывать. «Одним из главных качеств журналиста, на мой взгляд, – заметит как-то в одном из интервью Юрий Николаевич, – должна быть способность удивляться, видеть в жизни все наиболее яркое и красивое. Если журналист перестает удивляться, ему надо просто садиться и писать заявление об уходе, подыскивая себе занятие попроще и подоходнее»6.
А что же так называемая личная жизнь, была ли она вообще при таком рабочем ритме и профессиональной востребованности? Действительно, времени на семью – росли две дочери – практически не оставалось. Весь быт, все хлопоты, связанные с образованием детей и обустройством «гнезда», целиком легли на плечи супруги – человека, также заметного в крае, только на ниве дошкольного образования. Жанетта Васильевна была тем пресловутым тылом, благодаря которому и было возможным так жить и работать Юрию Николаевичу. Ей нередко приходилось печатать его тексты, быть первым и беспристрастным цензором его материалов.
Шли годы, и уже появлялись внуки. Возиться с детьми Христинин никогда не умел, да и не пытался. Только когда они начинали подрастать, его живой родительский, а потом и дедовский интерес вызывали, например, «пушкинские баталии»: кто больше знает стихотворений классика – он или внучка? И каков же был его, уже серьезно больного человека, восторг, когда ему первому из всей родни сообщили, что внучка Юля блестяще поступила на факультет журналистики Московского государственного университета. «Ура-а-а!!!» – разразилось из телефонной трубки, покрывая расстояние между Ставрополем и Москвой.
Он любил песни, сам пел неплохо. Скорее отвлекался, чем всерьез относился к урожаю на крохотном дачном участке, пытался однажды даже вырастить там персик и арбуз. Любил просто посидеть компанией с коллегами «по перу». Не гнушался розыгрышами, особенно удачные из которых до сих пор передаются из уст в уста. А в общем, был вполне обычным человеком с хорошим чувством юмора и самоиронии.
Юрий Христинин никогда не претендовал ни на лавры писателя, ни, тем более, историка. Он – и это он неоднократно повторял сам – был репортером, журналистом. Но главное – он был патриотом, любившим свой край, ценившим его неповторимость и уникальность, отдавшим свое призвание изучению его истории, формируя неразрывную связь настоящего и прошлого не только и не столько словом, сколько конкретным делом.
И всё же, лучше и объективнее, чем кто-либо, о нём скажут друзья и коллеги:
Вадим Чернов, писатель, член Союза писателей России:
…Юрий Николаевич был прирождённым репортёром, разведчиком новых тем. Я шутливо прозвал его ставропольским дядей Гиляем, сравнивая его с московским журналистом и писателем Владимиром Гиляровским, что при его поразительной скромности ему явно нравилось… …Однажды я сказал ему: «Хочешь – могу дать тебе рекомендацию в Союз писателей. Ты ведь автор нескольких книг, не одной сотни очерков…
Он недоуменно посмотрел на меня:
– А зачем? За свой журналистский труд я наградами не обижен. Имею звание Заслуженного работника культуры, дипломы международных конкурсов журналистского мастерства, трижды лауреат премии имени Германа Лопатина7… Спасибо. Я – репортёр и им останусь8.
Станислав Касперский, поэт, член Союза писателей России:
Юрий Христинин был журналистом от Бога. Его жизнь – яркий пример счастливого совпадения природного дара и избранной профессии. Журналистика обрела в нем талантливого, фанатично преданного трудоголика. Он не изменял ей, даже когда писал книги и киносценарии… Юрий никогда не пасовал перед трудностями, преодолевал их, совершенствуя таким образом свое мастерство и набираясь опыта.
Алексей Лазарев, журналист:
…Ни дипломов в красивых рамках, ни грамот на стенах его домашнего рабочего кабинета я не увидел. Но в красном углу бросились в глаза – кавказский кинжал, врученный командованием Северо-Кавказского погрануправления за объективное освещение служебно-боевой деятельности Аргунского пограничного отряда. И старинная шашка с выгравированной по лезвию надписью:«Юрию Христинину на долгую память. В. К. Толмачев». Оказалось, полковник-фронтовик передал холодное оружие и свои награды журналисту, публикации которого с удовольствием читал более двадцати лет. Это ли не признание заслуг?..
НА РЕЙДЕ «СТАВРОПОЛЬ»
Корабли имеют свою биографию. У кораблей могут быть даже свои династии, поскольку по традиции суда, отжившие свой век, передают свои имена новым. И сегодня кораблей под именем «Ставрополь» насчитывается уже шесть. Последний появился совсем недавно: в 2018 году на Зеленодольском заводе им. А. М. Горького (Республика Татарстан) прошла торжественная закладка малого ракетного корабля, которому, по ходатайству администрации города Ставрополя, присвоено имя Города Креста (на смену пограничному сторожевому судну «Ставрополь»).
Кстати, считается, что корабль, которому дано имя города, является территорией этого города. Более того, долгое время команды набирались преимущественно из жителей тех городов, чье имя носило судно. Так что «Ставрополь» – будь то маленький пароход или сухогруз внушительных размеров, пограничный сторожевой или малый ракетный корабль – всегда был не просто тезкой, но и самым настоящим «земляком» степного города.
Первым в «династии» таких кораблей стал пароход «Ставрополь», в начале прошлого века он был одним из пионеров освоения Арктики. Именно он положил начало регулярным исследовательским рейсам в устье таинственной тогда реки Колымы, проложил морской путь из Владивостока к устью Лены и Оби. Геодезические походы «Ставрополя» к берегам Камчатки позволили внести серьезные уточнения в очертания полуострова на навигационных картах. В одну из вынужденных зимовок на Чукотском море команда парохода оказала помощь попавшей в беду экспедиции знаменитого полярного исследователя Руаля Амундсена. Команда парохода приняла участие в революционных событиях на Дальнем Востоке в 1919 – 1922 гг.
В начале 1976 года Юрий Христинин размещает в девяти крупнейших газетах Сибири и Дальнего Востока заметку «Пионер Арктики»: он ищет очевидцев событий более чем полувековой давности. И люди откликаются: рабочие Владивостокского морского порта, капитаны дальнего плавания, сотрудники далеких полярных станций, школьники с мыса Шмидта… Почта приносит более двадцати уникальных снимков! Обращение в архивы и музеи страны тоже дает результат: находятся интересные архивные документы – так, например, в фондах Одесского музея морского флота СССР обнаружились записки бывшего капитана парохода «Ставрополь» Августа Шмидта, в подробностях излагающие историю далеких двадцатых годов, что называется, от первого лица.
С той поры тема судов, носящих имя «Ставрополь», становится для Юрия Николаевича одной из ведущих в его журналистской работе. Ведет он ее последовательно и систематично, и даже после выхода в свет документальной повести «На рейде “Ставрополь”» (1981) продолжает работать над историей героического парохода, «подшивая к делу» (именно так он организовывал свой архив) все новые документальные свидетельства. Более двух десятков статей на эту тему были опубликованы им в различных региональных («Ставропольская правда», «Молодой ленинец», «Северный Кавказ») и центральных изданиях («Огонек», «Морской флот», «Красное знамя» и др.).
В данный раздел вошла повесть «На рейде “Ставрополь”». Это ее второе издание, без редактуры и с сохраненным авторским текстом, который сам по себе представляет определенный художественный срез эпохи. Кроме этого, сюда включены очерки, рассказы и статьи, посвященные данной теме и опубликованные в 70–90-х гг. в журнально-газетной периодике. Представленная в них информация, бесспорно, уникальна, достойна внимания и должна быть сохранена: это и записи из бортовых журналов парохода, и докладные записки помощника капитана, и выдержки из писем родных и близких людей экипажа – то есть все то, что послужило в свое время документальной основой повести, но по различным причинам в нее не вошло.
Существенно дополнился иллюстративный ряд: здесь представлены снимки из ранее опубликованных материалов и личного архива журналиста.
Огромную ценность представляют фотографии из фондов Музея Дальневосточного морского пароходства – часть из них знакома нам по первому изданию повести, часть – публикуется впервые. Особую благодарность в этой связи хотелось бы выразить Алексею Николаевичу Субботину, руководителю направления по связям с общественностью Филиала ПАО ДВМП во Владивостоке, и в его лице всем сотрудникам Музея, чье искреннее желание помочь в поиске раритетных фотоснимков и поделиться ими, позволили этому материалу обрести новое документальное звучание.
На рейде «Ставрополь»
Вспыхнул маяк на мысе, пронзив вечерний туман.
«Отдать все рифы на брамселе!» – командовал капитан.
Первый помощник воскликнул: «Но корабль не выдержит, нет!»
«Возможно. А может, и выдержит», – был спокойный ответ.
Роберт Стивенсон
От автора
Трудно сказать, была ли бы написана эта книжка о необычных приключениях парохода Российского Добровольного флота «Ставрополь», но случилось несколько лет назад одно событие. Тогда в город Ставрополь прибыла делегация моряков с одного из лучших в Азовском морском пароходстве теплохода «Ставрополь». Возглавил ее Борис Васильевич Быковский – первый помощник капитана. Он-то и рассказал о плавающем «тезке» орденоносного степного города.
Где только не побывал теплоход – в Индии и Индонезии, на Кубе и в Египте, в Тунисе и Алжире, Марокко и Нигерии, Камеруне и Турции, Сирии и Испании… А в самом начале своей биографии «Ставрополь» побывал… на морском дне. Строили его в Германии. Но фашисты развязали войну, и недостроенное судно было затоплено в Балтийском море. Только после второй мировой войны его подняли с небольшой глубины поляки и достроили, назвав «Гдыня». А в 1953 году судно было приобретено нашей страной и получило название «Ставрополь»: на флоте по традиции имена отживших свой век судов передаются новым как бы в наследство.
– Такая история произошла и с нашим судном, – рассказывал помощник капитана, – его назвали в честь того «Ставрополя», первопроходца Севера, маленького и немощного, но сумевшего так много сделать за свою довольно долгую морскую жизнь. Жаль только, что мы о нем практически ничего не знаем, даже снимка не имеем ни в московских и ленинградских музеях, ни в архивах. А судно было по-настоящему героическое: принимало участие в спасении экспедиции Амундсена, доставляло первых советских колонистов на остров Врангеля, сражалось с белыми бандами в Охотске. Но подробности неизвестны. А как бы хотелось узнать об этом стареньком пароходе побольше!
С тех пор и не дает покоя история старого парохода. Из всевозможных литературных источников удалось узнать, что своим появлением на свет первый «Ставрополь» обязан известному полярному путешественнику Георгию Седову. Откликаясь на его призыв о создании флота для плавания к покрытому мраком легенд Колымскому краю, ставропольские «граждане и мещане» приняли участие в сборе средств на строительство судов.
Сбор этот шел по всей России, и было объявлено, что суда получат имена городов, которые внесут в казну достаточно средств. Так появился Российский Добровольный флот, в составе которого плавали суда «Москва», «Киев», «Петербург», «Кишинев»… Суммы, внесенной жителями крохотного губернского городка, тоже хватило для того, чтобы построить судно.
И представители Доброфлота не замедлили приобрести в Норвегии два однотипных парохода – «Проспер» и «Котик». Первый переименовали в честь края, который предполагалось изучить, – «Колыма», а второй – «Ставрополь». Более того: даже команда второго судна больше чем наполовину была укомплектована моряками, уроженцами Ставропольской губернии, служившими ранее на других судах. Словом, новый пароход оказался не просто «тезкой», но и самым настоящим «земляком» города Ставрополя.
На этом практически и кончалось все, что удалось узнать из старых книг и газет. Пришлось писать запросы во все музеи страны – от самых больших московских до самых маленьких, созданных при пароходствах: не знают ли чего о пароходе? Ответы приходили неутешительные…
А ведь должны же где-то храниться документы парохода, его судовые журналы? Только через два года удалось узнать, что журналы эти попали каким-то образом не по адресу – в …Центральный архив народного хозяйства СССР. Читались эти журналы словно какой-то увлекательный роман: есть, оказывается, чем похвалиться маленькому пароходику!
Но записи – только половина дела. Хотелось найти и снимки, которых нигде в музеях не было, живых людей, помнящих пароход. Пришлось обратиться за помощью к людям со страниц девяти самых крупных газет Сибири и Дальнего Востока, Ставрополья и Севера нашей Родины.
И вот тогда пошли письма, из которых удалось узнать немало интересного. Писали отовсюду: рабочие Владивостокского морского порта, капитаны дальнего плавания, сотрудники далеких полярных станций, школьники с мыса Шмидта… Больше двадцати фотографических снимков принесла почта, каждому из которых, что называется, цены нет.
Отыскался в Москве и старейший из полярников нашей страны, которому было за восемьдесят – Александр Павлович Бочек. В двадцатых годах он плавал на «Ставрополе» помощником капитана.
Так постепенно, шаг за шагом, и накапливался материал для этого документального рассказа.
Побег
Майский вечер выдался на удивление теплым и прозрачным. С тихим ласковым рокотом накатывались на прибрежные камни короткие, казавшиеся в полумраке черными, океанские волны, а воздух над Приморским бульваром был настоен на запахе свежей листвы и еще не распустившихся цветочных почек.
Боцман парохода «Ставрополь» Иван Москаленко чувствовал себя по-настоящему счастливым. И не только потому, что впервые в жизни облачился сегодня в почти новый, купленный по случаю бостоновый костюм в модную мелкую клетку, хотя и это тоже было событием вовсе не таким уж маловажным.
Всем своим видом, подходя к заветной лавочке мелкого купчика Берендеева, боцман стремился показать, что ему вовсе не впервой одеваться по-царски.
Но Ксюша, красавица Ксюша, дочка Берендеева, выпорхнув из отцовской лавочки, остановилась перед ним и всплеснула от изумления руками:
– Иван!..
Он смущенно прикусил губу и, что всегда делал в подобных случаях, подкрутил пальцами щегольской правый ус кверху:
– Чего ты, Ксюш?
– Костюм на тебе какой, Ванечка! – она схватил его под руку, на мгновение прижавшись к локтю лицом. И Москаленко вдруг ощутил сквозь бостон в клеточку тепло ее лица, такого милого и дорогого, с лукавыми серыми глазами и слегка вздернутым носиком.
Ксюша нравилась боцману «Ставрополя». Нравилась ее манера улыбаться, чуточку опустив книзу уголки тонких губ, нравились ее длинные русые волосы, собранные в тугую косу.
Сейчас она шла рядом, и он был счастлив.
– Когда я еще только училась в гимназии, я страшно хотела побыстрее стать взрослой, – щебетала Ксюша, держа боцмана под руку. – Ты знаешь почему?
– Откуда ж, – добродушно улыбнулся он. – Ты мне не говорила.
– И не скажу, – она звонко захохотала. – Не скажу, а то смеяться будешь.
– Не буду, Ксюш, – просительно пообещал он. – Ты уж скажи…
– Ладно, – смилостивилась она, – смейся, коли тебе угодно. Мне очень хотелось вот так вот пройти по бульвару с самым настоящим моряком. С таким как ты, к примеру, морским волком. И еще хотелось, чтобы я ему нравилась. Я нравлюсь морскому волку?
Она преградила ему дорогу и спросила уже без тени улыбки в голосе.
– Нравлюсь ведь? Ну, нравлюсь?
Ее тонкие трепетные губы были совсем рядом, и они, губы эти, улыбались ему, Ивану Москаленко, самому обыкновенному российскому матросу. И что только нашла в нем эта очаровательная и образованная девушка?!
Он сам не понял, как получилось, но вдруг припал к этим губам, жадно стараясь впитать в себя их чувственную неудержимую молодость. Ксюша отстранилась не сразу.
– Какой же ты, право… – с ласковым укором сказала она. Но он все равно почувствовал себя виноватым и опустил голову. Наверное, уши боцмана в это время горели ничуть не менее ярко, чем кормовые пароходные огни.
– Какой же я? – только и спросил он, тяжело вздохнув.
Она рассмеялась и вновь, как ни в чем не бывало, подхватив его под руку, ответила с улыбкой:
– Колючий, вот ты какой! Усы у тебя, как иголки у ежика. Я ошиблась: ты никакой не волк, ты – морской ежик… А помнишь, как мы познакомились?
Она сжала его пальцы своими – тонкими и хрупкими:
– Помнишь, да? Я ехала в трамвае, а ты вошел на остановке. И так важно сказал: «Соблаговолите, барышня, ножку с прохода убрать, а то наступить могу ненароком…» А потом, конечно же, наступил все-таки. Как медведь, до сих пор болит… Пожалел бы, что ли!
Они шли по бульвару молча. Но она вновь первой нарушила молчание:
– Знаешь, Ванюша, я боюсь. Боюсь, сейчас вдруг проснусь и узнаю, что ничего этого на самом деле не было. Не было тебя, не было этого вечера. Но зато есть в России какая-то революция, убивают друг друга русские люди. Оттого постоянный страх в душе, постоянная тревога… Это ужасно, Ванюша! Сегодня я видела на станции: опять оттуда эшелон с ранеными казаками пришел… Видимо, фронт неспокоен, нас теснят… Боже, неужели революция эта доберется и сюда, к нам? Неужели она помешает всему в жизни и нашему с тобой счастью тоже? Ой, посмотри!
Она остановилась вновь.
– Какой-то митинг, Ванюша. Давай, послушаем, а? – И, не дожидаясь ответа, потащила его к собравшейся у здания общества вспомоществования бедным ученикам довольно значительной толпе.
В последнее время митинги во Владивостоке были явлением достаточно частым, проводились, что называется, по поводу и без повода, и потому последовал Москаленко за Ксюшей без особой охоты. Какой-то господин в мягкой велюровой шляпе «пирожком» проповедовал, взобравшись на мусорный ящик.
– Россия во мраке, господа, в беспросветном и безнадежном мраке коммунии! – голосил он высоким и довольно неприятным для слуха фальцетом. – Отныне каждый из нас должен отдать себе отчет в самом главном: Родина-мать потеряна для всех нас навеки. И если мы не предпримем самых решительных мер… Весь мир, все цивилизованное человечество с надеждой смотрит сейчас сюда, на Дальний Восток. Потому что мы – оплот подлинной свободы, настоящая твердыня русского духа. Мы с вами – лучшие сыны и дочери нашей залитой кровью многострадальной Отчизны. Наконец, господа, создано правительство нашей новой Дальневосточной Республики. Его возглавили известные и уважаемые люди – господа братья Меркуловы. И в этом факте мы, истинные патриоты российские, видим гарантию того, что наступление коммунии с запада будет остановлено, а время большевиков – время сочтенное. Отсюда пойдут на красных славные части господина барона Унгерна, господина полковника Казагранди и других верных сынов матери-Родины. Пробил последний час большевизма, господа! И мы с вами – его могильщики!..
– Опять какие-то политические новости, – капризно улыбнулась Ксюша. – Я ведь совсем не разбираюсь в политике… Да и не женское это дело, верно? Подумаешь, невидаль: какую-то республику создали… Вань, а Вань, – она тронула его за рукав и округлила глаза: – А правда, что у большевиков все общее? И жены общие, и спят они под большущим одеялом? Правда, Вань?
Он не нашелся, что ответить, только пожал с усмешкой плечами: дескать, и как только люди в подобные вещи могут верить?
Но она ущипнула его за руку:
– Почему вы не отвечаете своей даме, о нелюбезный и неразговорчивый кавалер мой? – грозно сдвинув брови к переносице, трагическим тоном спросила Ксюша. – Дама может и даже обязана на вас обидеться…
– Я ведь не согласен с тобой, Ксюш, – пробормотал «кавалер». – Ты большевиков совсем не знаешь…
– Сколь приятно узнать, что вы, сударь мой, придерживаетесь иного мнения! Может быть, вы и вовсе большевик, господин морской волк? – рассмеялась Ксюша. – Признайтесь уж, вам за это ничего не будет. И даже больше – если жены у большевиков не обобществлены, то я против них ничего не имею. Впрочем, говорят еще, что вся эта самая эмансипация – выдумка некрасивых и непривлекательных женщин. Мне лично она, слава богу, не потребна. Верно ведь, Вань?
Боцман, сраженный только что услышанным не ведомым ему словом, совсем смутился: нет, не пара они, совсем-совсем не пара. И надо бы, как человеку более или менее порядочному, найти в себе силы, чтобы прекратить эти встречи с девушкой. Они – случайность и начались, если честно признаться, тоже по чистой случайности. Тогда в трамвае к Ксюше прицепился какой-то подгулявший казак в черных штанах с широкими красными лампасами. И некому было за девушку заступиться, но оказался рядом Москаленко да швырнул на ближайшей остановке того казака вместе с его штанами и лампасами прямо с набережной в море. Только булькнуло, между прочим! С тех вот самых пор и приходит Иван чуть не каждый вечер к маленькой лавочке Берендеева.
Сам старик – Фрол Прокопыч – смотрит на их частые встречи сквозь пальцы: не жених же матрос, а Ксюша пусть позабавится, дивчина она не глупая, лишнего себе не позволит.
В конце бульвара они опустились на притаившуюся под сенью деревьев скамеечку. Ксюша нагнулась, сорвала травинку и сосредоточенно принялась ее рассматривать. Иван остро почувствовал необходимость чем-то заполнить паузу. Он вздохнул, судорожно глотнул воздух.
– Вот чего, – сказал, выдавливая из себя слова. – Может, мы того… Не пара я тебе, словом… Неграмотный я ведь, Ксюш…
Она не услышала и не поняла его.
– Красиво как вокруг, Вань! – А потом спохватилась. – Ну и что, коли неграмотный? Научишься, невелика премудрость. Нашел, право, о чем горевать!
Они посидели несколько минут молча, вдыхая напоенный морской влагой воздух, слушая доносившиеся сюда равномерно-тревожные приглушенные вздохи моря. И вдруг где-то в кустах, совсем неподалеку, грохнул револьверный выстрел. За первым – второй, третий, а там выстрелы слились в какой-то тарабарский сплошной треск, будто кто-то по соседству с неудержимой скоростью вращал детскую трещотку, только каких-то гигантских размеров.
На тропинку выскочил из кустов человек среднего роста, одетый в черную матросскую блузу. Лица его не различить – довольно темно. На мгновение он остановился и, оглядевшись, быстро побежал в сторону причала.
– Держи! Держи его, проклятого! – неслось сзади. – Хватай его!
Топоча сапогами, на ту тропинку выскочило несколько казаков и толстый офицер с лицом бурачного цвета и револьвером в руке.
– Красный где? – задыхаясь, обратился он к Ивану. – Куда побежал? Отвечай быстрей, служба!
– Туда, – махнул рукой Москаленко в сторону центра города. – Только что, минуты не минуло…
Преследователи рванули в указанном направлении, возобновив свои истошные крики:
– Держи! Держи его! Хватай!!!
И сразу же почти все стихло.
– Зачем же ты сказал людям неправду, Вань? – строго спросила девушка. – Ты обманул их, а они ведь ловят преступника.
Иван внимательно посмотрел на нее:
– Жалко ведь человека, Ксюш, – пояснил. – Может, он и не виноват вовсе.
Боцман ожидал возражений, но девушка с неожиданной легкостью разделила его мнение:
– Может, конечно. Сейчас все может. Скоро мы уже вовсе не будем отличать красных от белых – и те, и другие, по-моему, самые настоящие разбойники. Вчера в папину лавку зачем-то зашел офицер. Пожилой, представительный такой, в хороших погонах. Набрал товару бог знает сколько. А когда папа протянул руку за деньгами, засмеялся и сказал: «После взятия Москвы, господин торговец, я заплачу вам в двойном размере. А пока запомните, что все мы должны идти на какие-то жертвы ради нашей победы». Какой мерзкий человек, не правда ли? Скажи, Вань… А вот это новое правительство, о котором говорил тот, на митинге… Как ты думаешь, оно и вправду… Москву возьмет?
– А ты как думаешь, Ксюш?
Она сдвинула к переносице брови и сосредоточенно задумалась.
– Нет, Вань, наверное, не возьмет. Очень уж далеко отсюда Москва, вон сколько тысяч верст наберется! Не дойти, наверное.
Стрелки часов приближались к одиннадцати. Позже этого часа строгий Фрол Прокопыч не разрешал Ксюше ходить по неспокойным улицам города, забитым до отказа в любое время суток трезвым и пьяным бесшабашным воинством. Да и самому Москаленко тоже надо было спешить на пароход, стоящий на рейде.
Они расстались со словами, которые всегда и везде говорят влюбленные в подобных случаях:
– До завтра, Вань!
– До завтра, Ксюш…
В темноте он ощутил на себе ее пристальный взгляд.
– Что ты, Ксюш?
– Я? – она вздохнула. – Мне… понимаешь ли, мне почему-то показалось сейчас, что мы с тобой больше не увидимся. Впрочем, не обращай внимания, это просто какой-то бред. Но я все равно боюсь: вдруг что-то случится…
Она смотрела на него, наверное, и не ожидая ответа. А он не находил для ответа слов и только вздыхал – один раз, второй…
– Боже мой! – засмеялась Ксюша. – Тебе бы с твоими вздохами играть бедных любовников в провинциальном театре, а ты почему-то плаваешь по морям. Может быть, господин морской ежик, вам есть смысл сменить профессию?
Хлопнула калитка, и исчезла легкая фигурка девушки, оставив после себя только тонкий запах каких-то не известных Ивану духов. Он жадно вдохнул этот волнующий запах и зашагал скоро и решительно в порт. По дороге на минуту остановился – свернул «козью ножку»: ее на ходу курить всего удобнее. С наслаждением затянулся доброй высушенной махоркой – одно удовольствие! Перед самым возвращением на судно пришлось сделать крюк – заглянуть к одному старинному знакомцу на Приморском бульваре – сказать ему об облавах в городе.
– Сегодня Гаврилов еле-еле от беляков ускользнул, – развел руками Москаленко. – Если так пойдет дальше, могут наши им в лапы попасться. Ты предупреди, Васильевич, кого следует…
Бывший кочегар с «Колымы» внимательно посмотрел на запоздалого гостя:
– Спасибо, что предупредил, – с чувством в голосе сказал он. – И хорошо, что зашел: передай Шмидту решение комитета. Белые собираются снять команды с ваших доброфлотовских судов. Надо не допустить этого, ни в коем случае не допустить! Уходите из порта. Ремонтируйтесь, переждите, но здесь оставаться нельзя. Ненадежными вас считают, так что подумайте!
– Ну что ж, подумаем, до встречи!..
Дежурную шлюпку с дремавшим в ней стриженым матросом-штафиркой нашел без труда:
– Давай, братишка, дуй к «Ставрополю»!
– Гуляки проклятые, – беззлобно заворчал штафирка, вставляя весла в уключины. – Спать не дают до самого утра.
– Спать, братишка, вредно, – рассудительно подтрунил над ним боцман. – Особливо, когда вахту несешь. А вообще-то ты давай свою зарядку живее поделывай. А то до утра на судно не попаду с таким шибким ходом.
Матрос, поплевав на ладони, энергично налег на весла, и они понеслись в северную часть бухты – наиболее удобную и совершенно закрытую от ветров часть Золотого Рога. К пароходу подошли с левого борта. Отозвавшись на окрик вахтенного, Москаленко легко взбежал по трапу наверх. И остановился, удивленный. Повсюду – в капитанской каюте, в кубрике, на мостике – горел свет. Не спит никто, что ли? Не поверив своим глазам, глянул на часы: половина первого, давно пора бы уже и угомониться.
Стараясь не шуметь, осторожно приоткрыл дверь кубрика. И увидел: все матросы сидят на своих койках, все одеты, все внимательно слушают. А в центре кубрика перед ними стоит сам капитан Генрих Иванович Грюнфильд. Рядом с ним – его второй помощник Август Оттович Шмидт и председатель судового комитета кочегар Корж. Лица у всех напряженные, сразу видно, что расстроенные. Заметив вошедшего Москаленко, Генрих Иванович обернулся в его сторону.
– Итак, – сказал он негромким усталым голосом, – я подвожу итоги всему мною сказанному. Как вам известно, по возвращении из последнего рейса к устью реки Колымы с товарами для наших факторий мы без дела стоим уже несколько месяцев в порту приписки. Какое здесь, во Владивостоке, положение – вы видите и сами. Не хочу строить каких-либо опрометчивых прогнозов, но положение создается весьма и весьма серьезное… Вчера вновь сформированное правительство господ Меркуловых прислало нам, как и многим другим командам транспортных судов, ультиматум. Нам предлагается с рассветом оставить судно и всем до единого влиться в ряды армии, идти на фронт. Лично я – вне политики. Но я моряк, и мне больно и трудно будет расставаться с нашим пароходом. Поэтому я принял решение посоветоваться с командой, с вами. Я – капитан. Но сегодня спрашиваете не вы меня, а я вас. И вопрос мой очень прост: что делать?
Долго и тяжело молчали моряки. А потом слова попросил Корж, человек преклонных лет, пользующийся у всей команды непререкаемым авторитетом.
– Мое мнение таково, Генрих Иванович, – неторопливо начал он, повернувши свое смуглое, прокопченное в судовой «преисподней» лицо, – не знаю, конечно, понравятся ли вам мои слова. Но не сказать никак нельзя. Не может быть сейчас людей, стоящих вне политики. Нынче вопрос, братишки, ставится оченно даже просто: либо они – нас, либо мы – их. Буржуев я в виду имею. И не к лицу нам за ихнее грязное дело в окопах гнить да кровь свою ведрами проливать. Тем более воевать против большевиков… А кто такие эти самые большевики, я вас спрашиваю? Такие же люди, как мы. Только они еще не только себе, но и нам счастья хотят… Поэтому предлагаю голосовать резолюцию: идти в армию к белякам команда «Ставрополя» отказывается!
– В ультиматуме сказано: в случае отказа команда будет разоружена и арестована, затем предана суду военного трибунала, – вмешался в разговор прямо с порога только что вошедший первый помощник капитана Копкевич. – Думаю, господа, что о подобных вещах забывать нам ни в коей мере не следует. Повиноваться власти – это священный долг моряка.
– Плевать на ихние ультиматумы! – отозвался Корж. – Мало чего той власти захочется! А у нас должна бы иметься своя голова на плечах.
– Потом как бы кровью плевать не пришлось, – иронически сказал Копкевич. – Или изображать вяленую треску меж двух столбов с перекладиной. Сейчас, господа, эти вопросы решаются быстро и очень даже просто.
– Все равно плевать!
Долго спорили матросы. И вдруг из-за стола встал Шмидт. Невысокого роста, плотный, с аристократическими флотскими усиками и чахоточным цветом лица, он повернулся к капитану:
– Генрих Иванович, что у нас с углем и продовольствием?
– Как положено, – вскинул брови Грюнфильд, – запас пятидесяти процентов от полной нормы. А в чем, собственно, дело?
Спросил, да так и не договорил до конца вопроса, с ужасом прочитав ответ на него в сухих и холодных зеленых глазах помощника.
Капитан встал со стула:
– Август Оттович!.. Неужели вы – серьезно!? Нет, конечно, скажите, что ваша мысль – не более, чем простая шутка…
– Сейчас, Генрих Иванович, – перебил его тихо, но довольно решительно Шмидт, – сейчас нам с вами, как и всем присутствующим, не до шуток. Сейчас, доложу я вам, впору слезы лить, а не веселиться. Взгляните: до рассвета недалеко, а что будет на рассвете – вы не хуже моего знаете. Вот я и выношу на рассмотрение команды предложение – уйти из Владивостока. В Японии у нас есть невыбранные фонды продовольствия и угля. Остальное – приложится…
– Уйти!? Но, позвольте, господин Шмидт… Куда уйти-то? Не на Колыму же нам возвращаться… Ваше предложение безрассудно.
– Не на Колыму, конечно, Генрих Иванович, – возразил Шмидт, не глядя на него. – Идти нам надо в Китай. Конкретно предлагаю порт Чифу. Он поспокойнее Сингапура или Гонконга. Там и переждем тревожное время. Я лично уверен, что скоро красные будут во Владивостоке: почти вся Россия сейчас принадлежит им. И пароход наш, следовательно, тоже должен принадлежать им. Думаю, что китайские власти даже окажут нам посильную помощь. Я точно знаю, к примеру, что Совет народных комиссаров Красной России обратился к властям Северного и Южного Китая с предложением установить дружественные отношения. Согласитесь: китайцам нужно быть лишенными здравого смысла, чтобы отвергнуть подобное предложение. Вот почему я предлагаю всем присутствующим решиться на этот шаг и незамедлительно следовать в Чифу.
Сел Шимдт, в волнении дернув себя за рыжеватую бородку клинышком, а в кубрике еще долго никто не решался нарушить мертвую тишину.
«Как же так? – в ужасе подумалось боцману. – Что же это происходит на белом свете? Какой такой Чифу? Ведь завтра… да нет, сегодня уже договорились встретиться… Какие китайцы!?»
– А что? – неожиданно для всех широко улыбнулся Корж, обнажив желтые прокуренные, но на удивление крепкие для его лет зубы. – Я думаю, что тут есть к чему прислушаться, над чем умом пораскинуть. Как считаете, братишки? Мне сдается, помощник капитана говорит дело…
Потом долго стоял невообразимый шум.
В четыре часа тридцать пять минут утра проголосовали. Корж подсчитал голоса.
– Двадцать четыре за, – объявил он, постучав зачем-то куцым обломком карандаша по столу. – Против – двое… Жаль, господин капитан, что вы так и не разделили мнение большинства. Да и первый помощник ваш с вами во мнении разойтись, видно, побаивается. Впрочем, – Корж ядовито улыбнулся, – впрочем, господин Копкевич это делает, надо полагать, единственно из соображений преклонения перед флотской дисциплиной.
– Ваше решение опрометчиво, – сдержанно сказал Грюнфильд. – С тех пор, как на наших судах появились матросские комитеты, я подчиняюсь воле большинства. И, конечно, не покину судно, иначе вы могли бы назвать меня плохим капитаном. Но предупреждаю: решение ваше считаю авантюристским и не берусь отвечать за его далеко идущие последствия. Кроме того, в заливе патрулируют два японских миноносца. Нам вряд ли удастся уйти с рейда незамеченными.
– Мне кажется, что нужно идти прямо на них, – посоветовал Шмидт. – Тогда у военных просто-напросто не возникает сомнения в законности нашей акции. Если же сразу принять к зюйд-весту, дело может обернуться табаком…
В пять часов сорок восемь минут утра, подняв пары, «Ставрополь» на полном ходу покинул северный рейд, никого не поставив в известность о своих намерениях, ни у кого не спрашивая особого дозволения. Пройдя буквально в полумиле от одного из патрулирующих миноносцев, он, как и предполагал Шмидт, не вызвал никаких подозрений: с них не поступило даже запросов о целях выхода транспорта.
Стоя неподалеку от рулевого, вращавшего за пальчатые рукоятки колесо штурвала, Москаленко с тоской смотрел на хмурые лица товарищей: вот тебе, бабушка, и Юрьев день! Вот тебе и свидания возле берендеевской лавочки! Вот тебе и каша с маслом!
Мимо прошел на капитанский мостик хмурый, застегнутый на все пуговицы и крючки Шмидт: наступило его время нести вахту. Москаленко обратил внимание: под глазами у помощника – синие круги, и пощипывает бородку – волнуется, значит, не меньше других.
– Ход? – спрашивает он через переговорное устройство. – Восемь? Маловато. Нас во Владивостоке скоро хватятся. Прибавить до десяти узлов. Полный вперед!
На пределе всех своих стареньких возможностей уходил «Ставрополь» из бухты Золотой Рог вперед, к неведомым и далеким японским берегам, навстречу неизвестности и риску.
– Живы будем – не помрем! – рассудительно говорил матросам трюмной команды предсудкома Корж. – Нет смысла нам наниматься на службу к буржуям. Придет время – своему народу послужим. И пусть нас их благородия с пути истинного не сбивают. Сами с усами!
И, словно в доказательство истинности сказанного, Корж жестоко щипал себя за огромного размера рыжие и жесткие, словно проволока, усы.
И не знал в ту минуту никто на борту взбунтовавшегося парохода, что китайские власти давно отвергли добрососедское предложение СНК РСФСР, на которое ссылался Шмидт. Как видно, они не побоялись все-таки поступить вопреки рассудку и здравому смыслу…
Нет следов в океане…
В Хакодате «Ставрополь» встретил постоянно проживающий там агент Доброфлота Федоров. Он, лихо взбежав по трапу, по-дружески поздоровался с Грюнфильдом:
– Куда на сей раз путь держите, господа вечные скитальцы? – весело спросил Федоров. – Неужели опять в Колыму? В России пожар, а вас от него, наверное, во льды тянет?
И, не дожидаясь ответа, деловито извлек из кармана потрепанную записную книжку:
– Кроме угля и солонины, что еще брать будете? Картофель, зелень? Берите, пока есть, и, самое главное, пока еще что-то дают: времена нынче больно уж смутные, того и гляди – закроют наши счета в японских банках. Сам не знаю, как уж тогда на родную Тамбовщину доберусь.
Он невесело засмеялся и тряхнул уже довольно седой гривастой головой:
– Думаю, что совсем скоро парижское правление Доброфлота закроет к чертовой бабушке мою контору: о каком исследовании Севера может идти речь, если в нашей собственной стране какое-то обледенение, мрак и хаос. Впрочем, господа, куда бы вы не следовали, я желаю вам счастья во имя великой и непоколебимой России. Уйдем мы – придут другие. Не знаю – будут они большевиками или монархистами. Важно, что они всегда будут русскими людьми. А для меня это – самое главное, клянусь вам, господа.
В те далекие годы все русские суда, следующие на север, непременно заходили в японский порт Хакодате. Здесь Доброфлот имел свое отделение для закупки продуктов, особенно овощей, которые стоили в Японии гораздо дешевле, нежели на Дальнем Востоке. И хотя вот уже почти три года правление банка Доброфлота не перечисляло сюда ни копейки денег, средства в распоряжении Федорова имелись, и весьма значительные.
Доверху загрузив угольные ямы, набрав свежей воды, приняв две тонны картофеля, «Ставрополь», не теряя ни единой минуты, снова вышел в море, взяв курс к берегам Китая.
Грюнфильд постоянно опасался погони, а потому то и дело, не надеясь на дозорного, сам оглядывал горизонт сквозь окуляры мощного морского бинокля.
– Всыплют же нам по казенной части под самую завязку, коли поймают, – сказал он как–то оказавшемуся рядом Копкевичу. – Ох, батенька мой, как всыплют!
Тем временем в кабинете вновь назначенного председателя правления Доброфлота капитана первого ранга Терентьева сидел его подчиненный – исправляющий должность начальника контрольной службы транспортных судов капитан второго ранга Рузских.
– Лихо же начинается, Алексей Алексеевич, – сердито говорил, прохаживаясь взад-вперед по кабинету Терентьев. – Гениально начинается! Из-под самого вашего носа удирает бог весть куда такой внушительный сухогруз, как «Ставрополь». А вслед за ним, и опять же в самом неизвестном направлении, исчезает «Кишинев»! Проходят мимо ваших эскадренных ротозеев и словно растворяются в море! Где эти суда, я вас спрашиваю?
Рузских вздохнул и постарался придать своему лицу выражение как можно более скорбное:
– Что делать, Владимир Васильевич…
– Вы мне, господин хороший, рожи не стройте! – вспылил вдруг Терентьев. – И подобных вопросов не задавайте. Вы передо мной за этих двух бегунов головой ответите. Крепко ответите, скажу я вам! Должен заметить, что его превосходительство господин премьер-министр очень и очень нами недоволен… И союзники, кстати говоря, тоже не проявляют по этому поводу никакой радости.
Терентьев опустился в кресло, усталым движением руки стер пот с широкого красивого лба. И, уже совсем тихо, подавив неожиданный взрыв, добавил почти примирительным тоном:
– Разведке дано указание расследовать все обстоятельства, связанные с побегом судов, установить порт назначения «Кишинева» и «Ставрополя». А уж если они, не приведи господь, дадут на последний вопрос точный ответ, от нас с вами потребуют самых решительных и самых эффективных действий. Мне лично ясно только одно: на север они не пойдут. Значит, либо Сингапур, либо Гонконг… либо Чифу. Скорее всего – именно Чифу! В других портах длительные стоянки русским судам категорически запрещены. А Чифу – так себе, захолустье… Значит…
Капитан первого ранга снова встал и подошел к окну. Повернувшись спиной к собеседнику, он рассуждал уже сам с собой:
– Да, конечно, Чифу. Сингапур – дело совершенно ненадежное, англичане не позволят у себя под носом заниматься подобными вещами. Месяца на два-три продуктов хватит. А вот без воды, без угля что они намерены делать? Народ, привычный к северу, привык и к свежей воде, от тухлой у них же мгновенно мор начнется. Не будет зелени – пойдет цинга. Не совсем понятна вся эта история…
Он снова опустился в охнувшее под ним массивное кресло, сверлящим взглядом серых водянистых глаз уставился на собеседника. И закончил совершенно неожиданно:
– Одним словом, господин Рузских, собирайтесь-ка вы без лишнего промедления в путь-дорожку. В качестве частного лица, разумеется. Катите в Чифу в роли эдакого российского миллионщика, приглядывающего в связи с революцией на родине местечко потише для жизни в дальнейшем. А чтоб было вам побольше доверия, возьмите с собой и дочку – молодежи полезно, знаете, по свету поездить, коловращение людей посмотреть, себя показать… В расходах вас ограничивать не хочу, но прошу употребить деньги так, чтобы обеспечить возвращение судов. Не стесняйтесь, давайте взятки портовикам – они им откажут в продовольствии и воде, а вам за это только спасибо скажут. Китайцев-чиновников я знаю, они на взятки падки, все за звонкую монету сделают. Уверен: если вы развернетесь там как следует, не пройдет и трех месяцев, как оба беглеца придут к нам с повинной. Вот тогда уж мы голов этих хитромудрых господ жалеть не будем!
Терентьев распахнул окно, вдохнул во всю силу легких влажный и солоноватый морской ветер. И с силой швырнул на пол синий карандаш, который держал в руке:
– Какая же все-таки это досада, Алексей Алексеевич! Какая досада для нас с вами, что суда, пересекая моря и океаны, не оставляют за собой никаких следов!
Плохое знамение
Через сутки после выхода из Хакодате барометр начал стремительно падать: верный признак приближающейся непогоды. И точно: уже к вечеру второго дня поднялось довольно сильное волнение, с норд-веста подул крепкий ветер. Часа через три бутылочно-зеленые волны начали перехлестывать палубу, и тогда всем казалось: вот-вот не выдержит пароход! Иногда он попадал корпусом на гребни двух высоких водяных глыб, превращаясь в своего рода мост между двумя солеными горами. И сердце у капитана невольно сжималось: выдержит ли, не развалится ли корпус от этого страшного испытания на прочность? Но «Ставрополь» выдерживал, и команда мало-помалу успокоилась, обретя уверенность в своих действиях.
– Бог, братцы, не выдаст – свинья не съест, – пошутил, высунувшись из камбуза, буфетчик Михаил Матвеев. – А коли не съест, то вот вам мое буфетное слово: сами вы свинью съедите. Мы с коком вас сегодня такими свиными колбасками накормим – пальчики оближешь!
Но шутка буфетчика утонула в реве разбушевавшейся стихии.
Дело близилось к вечеру, когда ко всем прочим бедам прибавилась гроза: молнии сновали буквально по верхушкам мачт. К штурвалу пришлось добавить еще двоих рулевых – работа здесь становилась каторжной.
Генрих Иванович не покинул в течение всей бури капитанского мостика ни на минуту. Он то и дело пытался поднести к глазам ставший давно бесполезным пляшущий в руках бинокль: видимость – нулевая. Даже сигнальный огонь на клотике – и тот с мостика был почти незаметен. Одни только вспышки молнии вырывали на секунду-другую участки моря с пенящейся зеленой водой.
– Боги, кажется, на нас разгневались, – капитан наклонился к самому уху стоящего рядом Августа Оттовича, – и когда только господин Нептун прекратит эту проклятую круговерть?
Он не закончил фразу: Шмидт крепко вцепился в рукав реглана:
– Что это, Генрих Иванович?
Грюнфильд перевел взор в сторону протянутой руки второго помощника. И тотчас вспышка молнии осветила картину, от которой дрожь пробежала по телу бывалого моряка: кабельтовых в пяти-шести от «Ставрополя» моталось на волнах крохотное рыболовецкое суденышко с разодранным треугольным – латинским – парусом. Суденышко уже взяло бортом воду, и два стоящих в нем человека в немой мольбе простирали к «Ставрополю» руки.
Одновременно с капитаном картину эту заметили и рулевые, и все, кто находился на палубе: стон ужаса вырвался словно из одной груди.
Молния блеснула снова, снова озарив место еще одной морской трагедии.
– Право на борт! – скомандовал Грюнфильд. – Машина, полный вперед!
Он сказал это только для того, чтобы хоть что-нибудь сделать: моряк с многолетним стажем прекрасно понимал всю безнадежность любых попыток, направленных на спасение обреченных. И точно: когда молния осветила участок океана в третий раз – на волнах уже не было ничего, только, кажется, пляска их на месте беды была вдесятеро веселее прежнего.
Грюнфильд обратился к Шмидту, и тот даже в темноте различил необычную бледность на лице капитана.
– Дурное знамение, Август Оттович, – с сердитой дрожью в голосе сказал он. – Очень дурное. Не принесет нам этот переход ничего хорошего, поверьте совести.
Он сразу же, однако, взял себя в руки, добавив с виноватой улыбкой:
– Если вы позволите, я спущусь на минуту к себе, переоденусь. Вымок до нитки! – и, не дожидаясь ответа, торопливо отвернулся от помощника.
…Словно желая искупить свою невольную вину перед людьми, природа скоро утихомирилась, и в оставшиеся сутки перехода море напоминало собою скорее спящего ягненка, нежели разгневанного льва. Пришлось даже с помощью помпы подать на палубу забортную воду и устроить массовое купание команды: жара была нестерпимой. Розовый столбик спирта в термометре подскочил так высоко, что грозил разорвать свою стеклянную колбу-тюрьму.
– А у вас, оказывается, тут тоже тепло, – стирая пот с красного лица, сказал, выглядывая из камбуза, кок Иван Гусак. – А я думаю: вдруг кто замерз – полезайте ко мне греться…
И он со вздохом вновь отправился к своим медным бачкам и сияющим, словно лицо счастливого именинника, сковородкам…
Ранним утром 4 июня 1921 года показался залив Печжили – акватория порта Чифу. Скоро с палубы был уже хорошо виден город. Небольшой и залитый солнцем, он был словно на ладони. И город, и форт на высоком холме многие из членов команды парохода видели не впервые. Но сейчас каждый смотрел на них по-особенному – с надеждой и тревогой, с каким-то невысказанным тайным вопросом.
Уже через час с небольшим «Ставрополь» принял на борт с кормового трапа китайского лоцмана, а еще через полтора часа отдал якорь на втором рейде.
Командный состав парохода облачился в новые кителя, матросы тщательно побрились – такова сила традиции. И только судовой механик Михаил Иванович Рощин по-прежнему разгуливал в измазанном кителе с продранными локтями.
Рощин был в некотором роде достопримечательностью «Ставрополя». Начинал он еще на парусниках юнгой и, состарившись в море, знал все судовое хозяйство в совершенстве, стал, как о нем говорили, корабельным дедом. Будучи человеком добрым и отзывчивым, он пользовался всеобщей любовью команды, которая называла его странным именем Паете. Приняв судно, Грюнфильд долго не мог понять происхождения этого сверхоригинального прозвища и принужден был обратиться за разъяснениями к Копкевичу.
– Когда Рощин хочет сказать «понимаете», – пояснил первый помощник, – он глотает начало и середину слова, и у него выходит не «понимаете», а «паете». «Паете» же это у него – речевой сорняк.
И вот сейчас добрейший Михаил Иванович беззаботно «светил» на палубе своим допотопным форменным кителем.
– Дорогой мой, нехорошо получается, – попытался было усовестить его капитан. – С минуты на минуту портовые власти прибудут, вы же, извиняюсь, в таком затрапезном виде пребываете…
«Дед» в ответ только улыбнулся:
– Да ведь мне с ними, паете, трапезу не делить, Генрих Иванович, – это уж ваше дело, дело начальства. А я как их завижу, сразу в машинное отделение и уберусь. Ну их, этих визитеров, к лешему! Мне в машинном, паете, удобнее, климат там для меня привычней…
Грюнфильд устало махнул рукой:
– Ладно уж, Михаил Иванович, к топкам или к машинам ступай, бог тебя простит!
Между тем на воде вокруг «Ставрополя» возникло что-то наподобие плавающего базара. Сотни крохотных джонок, заполненных самыми различными товарами, окружили пароход. Наверное, взгляни кто на эту картину сверху, и показалось бы ему: сидит посреди растревоженного черного муравейника огромный черный кот – «Ставрополь».
– Нашалник! Нашалник! Купы, нашалник! – неслось со всех сторон, со всех джонок.
Наиболее нетерпеливые продавцы швыряли на палубу образцы своего товара, и какой-то перезрелый помидор угодил как раз в белый парадный китель Копкевича, который даже взвыл от подобного неуважения.
– У, чертово отродье! – погрозил он кулаком всем джонкам одновременно, не имея возможности установить конкретно личность своего «благодетеля». – Чтоб вам всем провалиться в преисподнюю. Чтоб вам!.. – и тут он не сдержался: добавил нечто куда более крепкое и соленое, нежели простое упоминание имени бога морей. Вслед за этим Копкевич отправился к себе в каюту – переодеваться.
Как ни странно, среди кишащих сплошным роем джонок долго почему-то не появлялся катер с представителем портовой администрации. Он прибыл только около пяти вечера, и толстый китаец – помощник коменданта порта – долго кланялся и по-английски извинялся перед «нашалниками».
– Сегодня пришло много судов, – говорил он, – и было очень, очень много всякой работы.
Китаец жаловался на обилие всяких занятий и как бы вскользь добавил:
– Сами понимаете, начальник, платят мало, платят плохо, службу требуют, а платят мало, плохо. Китай – страна бедная, тут не всем платят хорошо. Многим платят плохо…
Мгновенно и хорошо поняв слишком уж прозрачный намек, Грюнфильд велел погрузить на катер к китайцу заранее приготовленные на этот случай дары: штуку зеленого сукна и ящик спичек, оставшихся еще от последнего колымского рейса.
Помощник коменданта, увидев это, сделался еще вежливей и приятней. Он, конечно же, совсем не это имел в виду, но если господа русские начальники столь великодушны, чтобы оказать посильную помощь бедному человеку, то… Кстати говоря, его зовут Цзян. Именно так называют его друзья, и он хочет, чтобы русские тоже называли его так. Чем он, в свою очередь, может быть полезен славному экипажу замечательного парохода, о котором так много слышал?
Генрих Иванович пояснил, что ему нужна надежная якорная стоянка на довольно длительный срок. Нужно разрешение на связь с берегом и разрешение на право производить свободные закупки необходимого продовольствия.
– «Ставрополю» требуется кое-какой ремонт, – слукавил капитан, – поэтому мы предполагаем пробыть здесь никак не меньше трех месяцев.
– Какой же ремонт? – изумленно вскинул брови китаец. – У нас нет дока! Мы не Гонконг, начальник, мы не ведем ремонтные работы…
– Я благодарен вам за беспокойство, – снова слукавил Грюнфильд, – но мы обойдемся своими силами. Главное, сделайте то, о чем мы только что имели честь вас попросить. И поверьте, друг мой, мы сумеем по достоинству отблагодарить такого честного и добросовестного человека, как вы…
Услышав последнюю фразу, китаец, казалось, мгновенно переломился пополам: его поклоны и изъявления благодарности хлынули неудержимым и бесконечным потоком. Минут пять, если не больше, все окружающие вообще не видели его лица, а только круглую войлочную шапочку на голове.
– Цзян сделает все, – заверил он, покидая «Ставрополь», – пусть только русские начальники подождут денек-другой, а потом они увидят, как все будет сделано.
Когда катер с помощником коменданта отвалил от борта, Грюнфильд засмеялся с чувством облегчения:
– Как вам нравится этот честный взяточник? Кажется, у нас нет никаких оснований для беспокойства.
И только угрюмый Копкевич счел своим долгом сбить настроение капитану:
– Не будем слишком оптимистичны, – сказал он. – Не забывайте о том, где находитесь. И… о знамении в Японском море!
Гость из России
По странному совпадению обстоятельств, именно в этот же день, 4 июня 1921 года, в Чифу прибыл богатый дальневосточный промышленник Алексей Алексеевич Лаврентьев с дочерью Викторией. Остановился он в самом фешенебельном отеле города – «Кантоне». Перед тем, как выбрать апартаменты, долго листал книгу со списками проживающих:
– Я не хотел бы жить рядом с людьми, имеющими сомнительные репутации, – пояснил он портье. – Извините, но я придерживаюсь в своей жизни самых строгих правил.
Наконец после долгих колебаний он все-таки изъявил готовность занять сорок шестой номер, рядом с номером мистера Гэмфри Гопкинса – представителя одной из крупнейших торговых фирм Великобритании.
Номер состоял из четырех комнат, одна из которых по размерам оказалась довольно-таки значительной. Ее Лаврентьев определил как приемную. Самую светлую и уютную комнату отдал дочери, напротив – взял себе. После двух часов перетаскивания и перестановки мебели в соответствии со вкусом нового жильца слуги, наконец, вздохнули облегченно: гость явно выдохся. Сейчас, само собою разумеется, как водится в подобных случаях, он заляжет спать и при этом не забудет потребовать тишины в коридорах.
Но, на удивление, гость укладываться в постель явно не торопился. Уже через пятнадцать минут, оставив дочь в полном одиночестве и даже не позаботившись об обеде, он вышел из своих апартаментов и поинтересовался у гостиничного служащего дорогой в порт.
Там именно его и видел сменившийся после дежурства портье.
– Странный человек этот русский начальник, – рассказывал он потом приглушенным голосом своим сослуживцам, – как бы даже свихнувшийся. Взобрался на холмик и долго-долго осматривал в бинокль стоящие на рейде корабли. Будто бы у нас в городе и окрестностях больше и посмотреть не на что!
Вернувшись около шести вечера в отель, Лаврентьев счел своим долгом немедленно нанести визит вежливости оказавшемуся у себя мистеру Гопкинсу – человеку, как выяснилось, хоть и штатскому, но имеющему большой вес и влияние среди военных как английской миссии, так и китайских. По тому, сколь подобострастно слушали его советы китайские офицеры, можно было принять Гопкинса за генерала или, в крайнем случае, полковника, но никак не за представителя иностранных деловых кругов.
Лаврентьев, великолепно говоривший по-английски, с некоторым даже оксфордским акцентом, и несмотря на несколько великоватый нос и маленькие глазки, оказался человеком в общем и целом весьма и весьма приятным. Настолько приятным, что уже на десятой минуте разговора мистер Гопкинс распахнул полированную дверцу передвижного бара и достал оттуда бутылку виски:
– Выпьем за знакомство? Виски очень хорошо!
Неторопливо попивая обжигающий напиток, гость рассказал англичанину, что он – крупный промышленник из России, имеющий мыловаренные и текстильные производства в Торжке и Омске, а также занимающийся в некоторых размерах производством гвоздей – как простых, так и ковочных.
– К сожалению, мистер Гопкинс, Россия… – он развел с тяжким вздохом руками, показывая одновременно всем выражением своего лица собственное отношение ко всему происходящему у него на родине. – К счастью, в свое время я сумел поместить значительную часть своего состояния в Северокитайский банк, филиал которого имеется и здесь, в Чифу. И вот, принужденный сейчас, на склоне лет, покинуть дорогую и горячо любимую родину, ищу я места, где можно приклонить голову. Может быть, – кто знает! – именно в этом приморском городке суждено мне найти мое последнее успокоение…
Говорил Лаврентьев несколько возвышенно и высокопарно, но, под впечатлением момента и выпитого виски, мистер Гопкинс свое согласие с каждым услышанным словом подтверждал неизменно кивком маленькой плешивой головы на длинной и сморщенной, словно у индюка, шее.
– О, йес, – говорил он. – Йес, да, конечно! Что делается с Россией! Она – словно конь, поднявшийся на дыбы на самом краю пропасти! А большевизм надо уничтожить в собственном гнезде. Его надо выжигать, как раковую опухоль – каленым железом. Вот почему, дорогой мистер Лаврентьев, мое правительство не жалеет средств и сил, дабы задушить гидру в младенчестве. Иначе плохо будет, как говорят у вас, русских, дурной пример заразителен. Думаю, что все умные правители и государства должны объединить свои усилия против коммунизма. Это великая война, и мы обязаны, если хотим жить, выиграть ее…
Лаврентьев вздохнул еще тяжелее:
– Мне, как истинному патриоту, обидно и стыдно за свою родину, мистер Гопкинс. Но еще обиднее видеть, как кое-где поддерживают и привечают цареубийц. Поверьте, что не далее двух часов назад, гуляя по набережной, я увидел стоящее на рейде русское судно «Ставрополь». Еще несколько дней назад во Владивостоке я слышал ужасную историю о том, что его команда изменила богу и правительству господ Меркуловых. Образно выражаясь, это же просто-напросто гражданский вариант «Потемкина»!
От удивления и неожиданности Гопкинс позабыл даже не только кивнуть головой, но и выпить поднесенное ко рту виски:
– Как, мистер Лаврентьев? Здесь «Потемкин»?! – глаза его сделались совсем круглыми.
– Не совсем, конечно, то, о чем вы изволили подумать, мистер Гопкинс, но почти то же. «Ставрополь», отказавшись подчиниться законным властям, бежал несколько дней назад из Владивостока. Его команда, видите ли, хочет служить только большевикам… И здешние власти принимают этих красных с распростертыми объятьями. Чувствую сердцем: дадут они мятежникам и воду, и продовольствие, и уголь… А те потом отсюда через Суэц да прямиком в Питер и дернут…
Гопкинс встал и, вытянув шею, захлопал себя по карманам брюк, отчего вдруг снова сделался похожим на большого рассерженного индюка:
– Куда же подевался этот проклятый блокнот? – раздраженно бросил он. – Ну, уж нет, мистер Лаврентьев! Этот номер тут у господ большевиков не прорежет! Я сейчас же позвоню в английскую военную миссию… У меня найдутся знакомые, которые смогут положить конец этому безобразию! Надо изолировать этот пароход от берега, изолировать как можно быстрее и намертво. Как вы сказали, он называется?
– «Ставрополь», мистер Гопкинс.
– Интересное название! По-гречески, если не ошибаюсь, это означает «город креста»? у вас в России и вправду есть такой город? И там действительно на людях есть крест? Хоть какой-нибудь, хоть самый плохонький? А если да, то почему нет этого креста на моряках этого парохода?
Довольный каламбуром, Гопкинс улыбнулся длинными серо-синими полосками губ.
– Поверьте, мистер Лаврентьев, западные державы не только делали и делают, но и сделают впредь все для многострадального русского народа. Мы будем помогать ему всеми нашими силами и средствами! Уверяю: победа в конце концов будет на нашей стороне. Виктория ожидает нас и только нас!..
– Истину изволите говорить, – склонил голову Лаврентьев. – Так позвольте и мне поднять сей скромный тост за все только что вами сказанное и пригласить вас к себе в гости. Признаюсь, сам я – лицо от политики далекое. Но и мне очень хотелось бы помешать этим типам с парохода. Сделать-то, в сущности, надо немного: лишить их пищи, воды да угля, и они сами вернутся восвояси с повинной… Уж если есть такая у вас воля – оказать России посильную поддержку в этом деле, скажу вам прямо и честно: за мною не станет, я за расходами не постою! Мы, русские, умеем ценить верную и честную дружбу…
Гопкинс отхлебнул глоток виски, прищурился, посмотрел остаток на свет. И самым спокойным, самым будничным тоном ответил:
– Вот и хорошо, мистер Лаврентьев, что нас с вами заинтересовали одни и те же вещи. Деловые люди быстро узнают друг друга. И я вижу, что вас в Чифу интересует не только и не столько возможность провести остаток своих дней с помощью филиала Северокитайского банка. Судно это тоже интересует вас в значительной степени, и я готов оказать вам посильную помощь. А насчет расходов… это уж само собою разумеется. На свете ничего не делается бесплатно, и я лично в вашей благодарности не сомневался ни одной минуты. Мы ведь – люди цивилизованные.
И Гопкинс как-то по-индюшиному рассмеялся.
Подарок
Уже двое суток прошло со дня первого визита услужливого Цзяна на борт «Ставрополя». Несмотря на столь твердо данное обещание, он не приезжал. Да и вообще, казалось, о русском пароходе все начисто забыли: даже джонки с самодеятельными мелкими торговцами – и те не показывались у борта, словно в воду канули.
На завтрак истосковавшейся по свежей пище команде удалось все-таки купить у одного китайца немного рыбы. Китаец был низенький, в коротких старых штанах, в соломенной, порванной во многих местах конической шляпе. Получив свои несколько юаней, он долго кланялся, прижимая деньги к голой груди, обтянутой смуглой сухой кожей, из-под которой выпирали ребра.
Видимо, он был совсем бедняком – даже джонки – и той у него не было. В море он выходил просто на большом плоту, связанном веревками, из неструганых бревен. В углу плота Москаленко доглядел огороженный досками и засыпанный землей участок примерно в полтора квадратных метра. На участке этом что-то зеленело: не то лук, не то чеснок. Матросы, как и боцман, очень заинтересовались этим клочком земли. Решились потревожить вопросом Копкевича, который не раз бывал в Чифу и Гонконге и даже немного говорил по-китайски.
– Это же у него огород такой, – с кривой усмешкой пояснил первый помощник, – видите, лук посадил. Дело в том, что у многих китайцев в портовых городах вообще нет никакого жилья, кроме таких вот плотов. На нем он и в море ходит, на нем в будочке спит, на нем и огород выращивает. А вон, видите, еще земля в одном местечке насыпана? Так там ничего не растет, на той земле он огонь разводит и похлебку себе варит. Нищий, одним словом, человек!
Копкевич снова повторил последние слова и, полюбовавшись немного произведенным на слушателей эффектом, степенно удалился к себе в каюту. А Ивану почему-то стало до смерти жаль этого маленького человечка, у которого ничего, даже порядочного огорода, не было.
– Эй! – крикнул он. – Поди сюда!
Пошарив в карманах, нашел монету в десять юаней: – Лови, приятель! Не поминай лихом русских матросов!
Китаец подхватил монету на лету и снова, прижав к груди ладони, что-то залопотал. А к нему вдруг со всех сторон потянулись смоленые матросские ладони:
– Бери, дружище, бери, не стесняйся! От чистой души же!
А кто-то протянул пачку табаку:
– Кури, эдакий-такой узкоглазый!..
Китаец, вертясь волчком посреди плота, приседал на цыпочки перед каждым очередным своим благодетелем. А потом вдруг выпрямился и ударил себя по ребрам на груди:
– Бинь!
– Зовут его так, видно, – заулыбались понимающие матросы. – Бинь… Это же по-нашему Боря! Будешь Боря, лады?
Китаец заулыбался и с трудом повторил непонятное слово:
– Борья…
– О, поладили! – засмеялись матросы. – Молодец, Боря!
Мало-помалу Боря осмелел, сел, подогнув под себя ноги, и принялся что-то рассказывать, поминутно кивая головой и вздыхая. Никто, конечно, ничего не понял, и лишь Рощин счел своим долгом разъяснить:
– Несладкая у этого парня жизнь, паете…
Только-только проводили скромного и ободранного гостя, как к правому борту подошла шестивесельная шлюпка. Из нее тяжело выкарабкалась уже знакомая всем увесистая фигура Цзяна, сопровождаемая каким-то офицером китайской таможенной службы. Офицер, казалось, был накачан воздухом: так гордо, не сгибаясь, держал он свою ушастую голову.
– Чинь-чинь, – приветствовал всех Цзян, – здравствуйте, господа!
Офицер в знак приветствия уперся глазами в палубу.
Копкевич, стоя рядом с капитаном, поморщился:
– Экий важный господин, – негромко сказал он. – Знаете ли, Генрих Иванович, у самих китайцев есть на этот счет одна крайне интересная поговорка.
– Какая же? – механически поинтересовался Грюнфильд.
– «Из хорошего железа гвозди не делают, хороших людей в офицеры не отдают».
Генрих Иванович сдержанно улыбнулся и шагнул навстречу гостям:
– Рад вас видеть, господа, в добром здравии. Надеюсь, что все наши проблемы определенно разрешились, а все наши просьбы вами удовлетворены?
– О да! – поклонился Цзян. – Никаких проблем, начальник, для вас более не существует. Итак…
Он достал маленькую записную книжечку и почти торжественно развернул ее, открыв на нужной странице.
– Итак, господа. Вам запрещается: поддерживать какие-либо контакты с берегом, получать установленным порядком воду и продовольствие, сдавать почту, покидать рейд с целью самовольного захвата наиболее удобной якорной стоянки…
Китаец выпалил все это единым духом прямо в удивленные глаза капитана.
– Но… – начал было Генрих Иванович.
– …кроме того, вам запрещается всякое обжалование настоящего решения портовых властей – оно утверждено самим губернатором…
Неожиданные гости давно уже покинули борт, а капитан все еще стоял прямо посреди палубы в некоем подобии шока.
– Ничего, Генрих Иванович, – пытался было утешить его Шмидт, – бог поможет, не пропадем и без их помощи.
И, словно в подтверждение сказанных помощником слов, у кормы вновь раздался плеск весел, подплыл неизвестный китаец, вежливо поздоровавшийся на ломаном английском языке. В шлюпке у него лежали две связанные свиньи и несколько ящиков с овощами и свежей зеленью.
– Вам просили передать вот это, – вежливо сказал китаец. – Все, что вы видите, и, кроме того, письмо.
Грюнфильд принял письмо в оригинальном фирменном конверте отеля «Кантон» с целлулоидным окошечком впереди, сломал печать.
– Ничего не понимаю! – он протянул письмо Шмидту.
На листе бумаги значилось: «Уважаемые и дорогие мои соотечественники! Наслышавшись от портовых властей о том неприятном положении, в котором вы пребываете в настоящее время, посылаю вам свой скромный подарок в надежде, что он придется вам всем по вкусу. Очень прошу принять с искренними уверениями в моем глубоком к вам уважении. Ваш соотечественник Алексей Лаврентьев».
К письму была приложена пахнущая свежей типографской краской визитная карточка с указанием рода занятий хозяина – «промышленник и финансист», адреса его проживания – Чифу, центр, отель «Кантон», а также номер телефона – 27.
Пока китайца, доставившего подарок, угощали прямо на палубе смирновской водкой, которую он пил с величайшей радостью и удовлетворением, Генрих Иванович счел своим долгом написать несколько слов неведомо откуда взявшемуся благодетелю.
«Уважаемый г-н Лаврентьев! – писал он. – Примите самую сердечную благодарность за столь приятный и неожиданный для команды «Ставрополя» подарок. Надеюсь, что вы выберете при случае удобное для вас время, чтобы наведаться к нам на борт, ибо сами мы, к сожалению, пока лишены иной возможности поблагодарить вас лично. Наше судно, действительно, находится сейчас не в самом завидном положении, и тем дороже для каждого из нас участие и помощь всякого истинно русского гражданина. Остаюсь в ожидании Г. Грюнфильд, капитан».
Вечером на судне был подлинный пир: свежая свинина заменила собой всем изрядно поднадоевшую солонину.
Этому событию предшествовала довольно-таки значительная работа доброй половины экипажа: ведь нужно было заколоть свиней и разделать их как положено. А положено было осмолить щетинку свежей соломкой, спустить кровь на кровяные колбаски, изготовить из печени ливерные, засолить в ящик сало… На судне все это было довольно сложной проблемой, тем более что Рощин категорически запретил смолить заколотых боцманом хрюшек на палубе.
– Пожара нам, паете, для полного счастья не хватает, – ворчал он.
Выход нашел снова оказавшийся у борта «Ставрополя» Бинь. Он насыпал на свой плот толстый слой земли, привез соломы. Туши осмолили метрах в сорока от парохода, прямо на плоту. Все очень хвалили «Борю» за находчивость, и он этому очень и очень радовался.
– Интересно, – сказал за ужином Шмидт, – что это все-таки за человек? Я имею в виду господина Лаврентьева.
– Не все ли нам равно, – вполголоса ответил ему Грюнфильд. – Главное, что он расположен к нам и искренне захотел помочь нашей беде в меру своих возможностей. Поверьте мне, что сам по себе этот факт – лучшая из рекомендаций, которые нам следует принимать во внимание.
Несмотря на столь великолепный стол, настроение у всех было все-таки отвратительное. Особенно невесел был сам капитан: предстоящие трудности беспокоили его уже сейчас.
– Говоря по совести, – признался он Копкевичу, – я не вижу пока выхода из создавшегося положения. Мы уже сейчас пьем тухлую воду. А что же будет через несколько дней? Мы уже сейчас сидим на богопротивной солонине, консервах и никудышных квашеньях. Что же будет через два-три месяца? Уверяю, что на подарках господина Лаврентьева мы с вами далеко не уедем.
Копкевич мрачно кивнул головой:
– Я разделяю ваше мнение, господин капитан, – ответил он. – Полностью разделяю.
Званый гость
Алексей Алексеевич Лаврентьев, получив приглашение капитана пожаловать на борт «Ставрополя», собирался долго и тщательно.
Он подробно поговорил с дочерью о том, как нужно ей вести себя в обществе моряков, закончив свою речь несколько даже напыщенно:
– Пойми, Виктория, – сказал он, – мы с тобой будем находиться в стане врагов. Отчизна доверила нам великую миссию по спасению большого судна со славным историческим прошлым. Я не только не скрываю этого от тебя. Я рассчитываю на твою помощь в своем деле. Давай же мы окажемся достойными оказанного нам доверия!
Виктория склонила голову, отягощенную толстой русой косой:
– Я постараюсь, папенька, я все понимаю.
В этот момент она показалась вдруг Алексею Алексеевичу до боли похожей на мать–покойницу. И он не выдержал: привстав в кресле, привлек дочь к себе и поцеловал в висок с часто пульсирующей тонкой голубой жилкой.
– Все будет хорошо, дитя мое, – грустно сказал он. – Ты уж не сердись на отца за то, что втягивает он тебя в дела подобного неженского рода. Но что же делать – время такое, разбираться нам с тобой не приходится…
В порту за несколько центов они наняли бедного китайца с джонкой.
– К дальнему рейду! – распорядился Лаврентьев. – И побыстрее! Там стоит пароход «Ставрополь».
Он не был уверен в том, что голодранец-китаец понял его слова. Но, на удивление, тот безошибочно выбрал из всего громадного скопления судов именно черный, похожий на гигантского кита корпус «Ставрополя».
– Битте, – сказал китаец. – Пожалюсто, мистер!
Завидев подошедшую джонку, с борта спустили трап, а встретил гостей, как принято в особых торжественных случаях, сам капитан в белом кителе с золотыми доброфлотовскими нашивками на рукаве.
Грюнфильд крепко пожал руку Лаврентьеву:
– Господин Лаврентьев, я чрезвычайно рад видеть в этих неприветливых и далеких от нашей родины краях своего соотечественника, верного сына России.
Поцеловал руку непринужденно присевшей в ответ Виктории:
– Сударыня, я счастлив случаю, доставившему мне столь приятное знакомство с вами. Позвольте представить моих помощников – господ Копкевича и Шмидта…
После краткой церемонии представления Генрих Иванович, на правах хозяина, сделал широкой жест рукой:
– Я думаю, что судно мы с вами посмотрим потом. А сейчас милости прошу пожаловать ко мне в каюту, посидим, побеседуем, подкрепимся, чем бог послал. Мы здесь потихоньку, признаться, начинаем отвыкать от всех других лиц, кроме своих собственных. И вы своим визитом, дорогие гости, доставили нам величайшее удовольствие.
За столом не без помощи бутылки коньяка разговорились довольно быстро. Стояла жара, и, с разрешения Виктории, мужчины сняли кители. Только педант Копкевич лишь расстегнул крючки тугого воротника, бросая косые взгляды на гостя.
– Приехал я сюда, понимая, что надобно устраивать жизнь в тишине и спокойствии, – разоткровенничался Алексей Алексеевич. – Надоело, знаете ли, все время закрывать ставнями окна и вздрагивать каждый раз, когда за окном гремит случайный выстрел… Положение сейчас в России, между нами говоря, таково, что могут в любой момент за здорово живешь пристрелить прямо на улице, и никто из убийц искать просто-напросто не будет. А я, знаете ли, не хочу, чтобы моя единственная девочка сталась сиротой…
– Мне кажется, – вмешался в разговор Шмидт, – что вы очень и очень скоро начнете скучать по России. Поверьте, кому-кому, а нам, морякам, ностальгия, эта болезнь тоски по родным краям, очень даже хорошо знакома.
– О, нет! – улыбнулся Лаврентьев. – Я, господа, этой болезни не подвержен. Кстати, – он вдруг резко переменил тему беседы. – Я слышал, что вы увели пароход из Владивостока, чтобы не сдавать его Меркуловым. Скажу прямо: в душе я одобряю ваш поступок – какой, к чертовой матери, из нечесаного купчины премьер-министр? Но вот относительно разумности… Вы, если я не ошибаюсь, намерены сдать судно большевикам?
Увидев молчаливый утвердительный кивок Шмидта, Лаврентьев вскочил и пару раз прошелся по крохотной каюте взад-вперед:
– Но, господа, рано или поздно большевики потерпят крах! Неужели вам импонирует мысль о том, что вы будете повешены на одной виселице с ними? Простите меня за прямоту, но…
Грюнфильд, явно недовольный наметившимся направлением разговора, попытался разрядить возникшее напряжение шуткой:
– Отчасти вы правы, Алексей Алексеевич. Приходится надеяться только на то, что большевики рухнут уже тогда, когда нас с вами на свете не будет… А вообще-то мы находимся сейчас между Сциллой и Харибдой. Но лавируем, как видите!
– Я уверен, – упрямо крутнул головой Лаврентьев, – что вам придется вернуться во Владивосток. Я слышал от весьма и весьма компетентных людей, что вам не будут отпускать здесь ни угля, ни продовольствия, ни даже воды. Как будете жить без всего этого?
И тут вдруг встрепенулся до сих пор хранивший тяжелое молчание Копкевич. Он снова застегнул только что расстегнутые крючки на воротнике кителя и, равнодушно глядя в иллюминатор, сказал, ни к кому особенно не обращаясь:
– Если господа позволят, я расскажу им о котенке. Не притчу, а самую чистую и святую правду.
– Простите?! – изумился Лаврентьев.
– О котенке, – хмуро, как, впрочем, всегда, подтвердил свои слова Копкевич. – Я не оговорился, господа. Я видел этого самого котенка на одной китайской шхуне с год тому назад. Я ходил тогда на «Колыме», и судьба уже забрасывала меня в Печжили, так что в этих местах нахожусь не впервые. Так вот: пригласил меня капитан этой шхуны к себе в гости. Между прочим, у него очень интересное имя – его зовут Роберт Бернс…
– Восхитительно! – захлопала в ладоши Виктория. – Он, конечно же, тоже пишет стихи?
– Нет, сударыня, – едва заметно улыбнувшись, ответил помощник капитана. – Он терпеть не может стихов вообще, и я подозреваю, что он никогда не слышал о своем знаменитом однофамильце. Он сам англичанин, а командует китайской шхуной. Известно ведь, что нет на свете моряков хуже китайцев. Их правительство сознает это и берет капитанами на свои суда только иностранцев. Но мы несколько отвлеклись… Так вот, у этого самого Бернса на борту я и увидел котенка. Худой такой, ободранный, еле лапы волочит. «А ну его! – отвечает мне Бернс. – Я вообще-то давал команду, чтобы кормили, но так уж китайцы устроены: никогда не бросят куска кошке или собаке. Привыкли постоянно голодать сами, поэтому и традиция у них такая выработалась». Китайцы слышали наш разговор, головами даже закивали, языками защелкали. «Чуфан, – говорят, – надо!» Кормить, значит, надо. Ну, думаю, поняли они, что к чему. Так и ушел я тогда со шхуны «Мари Аз». А вот вчера снова увидел ее на рейде по соседству с нами. Вспомнил Бернса, как он там!? И решил смотаться к нему. Жив, оказался, вполне здоров и счастлив. С распростертыми объятиями меня встретил: «Мистер Копкевич, как тесен мир под луной и солнцем!..» И опять увидел я у него на палубе ободранного и захудалого кота – того самого, год назад бывшего котенком. Словом, не буду вас утомлять, но повторилась прошлогодняя история слово в слово. Опять китайцы головами кивали: «Чуфан, чуфан надо!» Забрал я, короче говоря, этого несчастного кота на «Ставрополь». Матросы его сразу же Васькой прозвали. Паете ему из каких-то секретных запасов сухого молока навел даже. Посмотрите, через неделю раскормят так, что шерсть блестеть будет. Ходит по палубе, мурлычет…
– О, – вздохнул Лаврентьев, – щедрость русских не присуща другим народам мира – это чисто национальная черта. Но, в сущности, с какой целью вы поведали нам эту историю, господин Копкевич? Где мораль, которой я пока что не вижу?
– И напрасно не видите! – усмехнулся помощник. – Я рассказал вам эту историю, господин Лаврентьев, к тому, что сейчас все мы, здесь с вами находящиеся, как раз и напоминаем того самого подыхающего котенка. Но ведь дело-то это временное. Кто знает, как повернутся колеса на колеснице Фортуны? Не исключено ведь, что по прошествии времени и у нас шерсть на боках залоснится? Как сейчас у вас, к примеру?
Лаврентьев косо усмехнулся.
– Ну уж что касается вас, – с едва заметным раздражением в голосе ответил он, – то вы, господа, напоминаете мне совсем другого кота. С вашего позволения, я расскажу вам о случае, коему сам был свидетелем. Происходило это в Москве, года три назад, весною. Проходя по Тверскому, заметил я толпу людей у трамвайной линии. Ну, разумеется, тоже полюбопытствовал, подошел. И увидел, господа, странное зрелище, в кое не поверил бы, не окажись его очевидцем! Искусанная собаками, ободранная, еле волочащая лапы кошка сидела на рельсе и смотрела на приближающийся трамвай. А тот – ближе, ближе… Кто–то не выдержал – выхватил кошку из-под самых колес. А она посмотрела на своего спасителя странными глазами, да и снова ползком, ползком – да на тот же рельс, дожидаться следующего трамвая. И тогда я понял: это же самоубийство на наших глазах свершается! Вы понимаете меня, господа, – самоубийство!
– Ну, – спросил Копкевич небрежно, – и свершилось?
– Свершилось, господа, – трагическим голосом ответил гость, – свершилось…
Наступило неловкое молчание, которое вновь рискнул нарушить тот же Копкевич.
– Кстати, Генрих Иванович, – по–деловому обратился он к капитану. – Суточную норму воды я сегодня сократил до одного литра на человека. Боюсь, что скоро нам придется налаживать перегонку морской воды – иного выхода не вижу. Барометр держится высоко, дождей, видимо, не предвидится.
Он встал и, сдержанно поклонившись замолкшим и погрустневшим гостям, непривычно для них сутулясь, вышел из капитанской каюты.
На палубе в окружении матросов Копкевич увидел старого знакомого – китайца Биня, прозванного Борей.
Матросы, завидев помощника, расступились, и Копкевич остался лицом к лицу с гостем. Впрочем, «лицом к лицу» – это не совсем верно: китаец был почти на две головы ниже русского. Он испуганно смотрел на важного господина в белоснежном кителе, ожидая, наверное, от него какой-нибудь пакости. Но, к его удивлению, помощник капитана повернулся сначала к боцману:
– У нас в трюме есть спички?
– Ящиков тридцать наберется, – неуверенно ответил Москаленко. – Но, конечно, посчитать можно.
– Вот и посчитайте, – распорядился Копкевич. – И обязательно доложите мне.
Он повернулся к гостю и, призвав на помощь все свои познания в китайском языке, мешая его с английскими словами и фразами, сказал:
– Воды, Боря, надо… Ватер… Понимаешь, вода? Ты нам – бочку воды. Мы тебе – коробок спичек. Вода – спички. Спички – вода. Понимаешь, Боря?
Для вящей убедительности он извлек из кармана коробок серных спичек:
– Я тебе спички, вот эти. А ты мне – бочку воды. Понимаешь?
Ровно через час, провожая с левого борта Лаврентьева, Грюнфильд с удивлением увидел, что с правого ведется активная погрузка пустых бочек из-под воды в утлые китайские джонки: Бинь сразу же нашел себе несколько добровольных помощников, желающих получить в награду за свой труд столь дефицитные спички.
Грюнфильд хотел было поинтересоваться причинами погрузки, но, заметив в непосредственной близости долговязую фигуру Копкевича, молча спустился к себе: первый помощник самолюбив, может обидеться из-за пустяка, усмотреть в этом пустяке подрыв авторитета или ущемление его власти…
А к вечеру на «Ставрополь» начали поступать бочки со свежей родниковой – подумать только! – водой. Матросы пили ее, словно это была не самая обыкновенная вода, а лучшее из вин, боясь расплескать хоть каплю. Москаленко, свято соблюдая договор, протягивал за каждую бочку китайцам коробок спичек:
– Получай, браток, – приговаривал он при этом. – Заслужил, черт короткохвостый! Давай и дальше в том же духе!
Бинь же, к удивлению, спичек брать вдруг не захотел: пояснил, что помогал русским не за награду, а просто потому, что они хорошие люди. Паете всучил ему два коробка едва ли не силой. Китайцы же были буквально вне себя от восторга: коробка спичек – большая ценность, за нее на берегу можно купить двух гусей. Последнее сообщение заинтересовало предприимчивого Копкевича еще больше.
– За каждого гуся будем давать коробку, – пообещал он. – Но нам нужно много-много гусей. Сделаешь, Боря? Понимаешь меня?
Бинь быстро-быстро закивал головой: ему очень нравился русский начальник, который относился к нему, к Биню, почти как к равному. Он показал Копкевичу десять пальцев и сказал:
– Свинь. Литл свинь…
– Идет! – сразу сообразив, что речь идет о поросятах, хлопнул китайца по плечу Копкевич. – И маленьких свиней тоже купим. Дадим по десять коробок за штуку, не обманем!
Через несколько дней на палубе пришлось оборудовать два огороженных досками загона – в одном гоготали около полусотни живых гусей, в другом резвились, довольно похрюкивая, четырнадцать поросят в возрасте от пяти до семи месяцев.
Грюнфильд пытался было поблагодарить Копкевича за старание, но тот только удивленно поднял кверху мохнатые брови:
– Еще неизвестно, – сердито сказал он, – еще неизвестно, у кого шерсть будет лосниться – у нас или у этого прохвоста Лаврентьева.
– Право же, мой друг, – возразил с досадой капитан, – вы несправедливы к этому человеку. Он не сделал нам ничего, кроме добра. Почему вы вечно пытаетесь судить о людях с первого взгляда? Откуда у вас эта привычка?
– Подождите, – угрюмо пообещал Копкевич, – он нам еще и кроме добра что-нибудь сделает! Нюхом чую, Генрих Иванович, нюхом!
– Но он даже согласился помочь нам добыть посредника для закупки картофеля и свежей рыбы, – улыбнулся, пытаясь смягчить разговор, Грюнфильд. – И сделал это, я подчеркиваю, совершенно бескорыстно. Может быть, на сей раз нюх несколько подводит вас?
Копкевич скривил губу в столь хорошо всем на судне знакомой презрительной усмешке:
– Ай-ай, какого благодетеля бог послал! – сказал он, ехидно глядя в глаза капитану. – Только боюсь, как бы его картошка не встала у нас с вами, господин капитан, поперек глотки. Знаете, не внушает мне его физиономия ни малейшего доверия. Ни малейшего! Впрочем, – Копкевич снизил голос, – впрочем, это дело не столько мое, сколько ваше, Генрих Иванович. Нравится он вам – и пусть с богом нравится…
И он, ссутулив плечи, пошел к борту, за которым вновь послышалось гусиное гоготание.
Вечером в кубрике
Август Оттович Шмидт был самым молодым среди командного состава «Ставрополя». Он обладал негромким, мягким голосом, имел обходительные, мягкие манеры. Он был единственным, кто неизменно обращался к матросам на «вы», не добавляя при этом принятого во всем Доброфлоте слова «братец». И команда платила за все это второму помощнику капитана самой откровенной и чистой любовью.
Иногда по вечерам Шмидт заходил в матросский кубрик, там случалось нечто вроде маленького праздника. Дело в том, что Шмидт являл сам по себе нечто вроде ходячей энциклопедии. Он мог часами говорить о самых неожиданных вещах – будь то история китайской национальной одежды или сокровища, покоящиеся на дне мирового океана. Рассказывал он ярко, интересно, и слушали его, что называется, раскрыв рты, в гробовой тишине.
Вот и сегодня вечером, налюбовавшись вдоволь развеселой игрой касаток в гаснущем море, матросы с наступлением прохлады мало-помалу собрались в кубрике, а Москаленко позвал Шмидта.
Слово за слово – и разговор задел вдруг интересную тему о знаменитом «Летучем голландце».
Мнения мгновенно разделились: одни безоговорочно верили в существование кораблей-призраков, другие – нет.
– Как же так нет! – возмущенно восклицал кочегар Животовский. – Как нет, если я сам два года назад видел голландца у мыса Доброй Надежды! На самом рассвете прошел мимо нас, по самому правому борту. Небольшой из себя, весь с оборванными черными парусами, без единого человека команды. Это он был, голландец, – даже перекрестился Животовский, – кому же еще?
– Август Оттович, – попросил боцман, – рассказали бы нам, а?
– Расскажу, конечно, – просто ответил Шмидт. – Коли хотите, слушайте…
Он закурил трубку и негромко начал:
– Доложу я вам, что моряки давно заметили одно очень интересное явление. Крайне редко, но все-таки случалось так, что пропавшее судно вдруг появлялось снова. Иногда оно объявлялось на океанских просторах совершенно разбитым, со скелетами матросов в каютах. Помню, в детстве видел картинку: стоит, прислонившись к мачте, скелет в капитанской фуражке, а во рту у него трубка торчит. На мою, между прочим, очень похожа… Так вот: такие корабли люди и называли призраками. Самый знаменитый из них – американский барк «Фанни Уолстон». Тридцать лет назад, во время рейса из Канады с грузом леса, он дал капитальную течь у мыса Хаттерас. Команда покинула в шлюпках уже тонущий барк и с трудом добралась до берега. Судно списали, хозяева получили за него огромную страховку. И вдруг разразился скандал: через полгода один капитан сообщил в управление порта Бостон, что в восьмистах милях от американского побережья встретил судно, название которого было «Фанни Уолстон». Пока газеты и официальные морские чиновники терялись в догадках, верить или не верить сообщению, – барк увидели в водах Саргассова моря. Потом, несмотря на специально организованные поиски, в течение двух лет о нем ничего не было слышно. А на четвертый год он вдруг объявился у самого входа в порт Нью-Джерси, создав существенную угрозу для судоходства. Пришлось несколькими выстрелами с канонерки затопить «Фанни». Подсчитано: за четыре года странствий без команды барк прошел не меньше десяти тысяч морских миль! А объяснение этому явлению простое: «Фанни», как и другие корабли-призраки, просто-напросто избежало гибели – в силу каких-то причин течь закрылась, судно осталось на плаву. И пошло по воле ветра и волн путешествовать по белому свету. Увидит его кто-нибудь, и тотчас рождается легенда… Думаю, что и вы, Животовский, видели подобное брошенное людьми судно. Конечно же, ничего удивительного, а тем более сверхъестественного в этом нет.
– В этом ничего удивительного, точно, нет! – раздался от входа веселый голос радиотелеграфиста Владимира Целярицкого. Оказывается, он вошел уже несколько минут назад, но, не желая оказаться замеченным, скромно стоял у порога.
– А вот в том, о чем я вам хочу сказать, – продолжал он, – кое-что удивительное, на мой взгляд, найдется. Удалось, Август Оттович, перехватить текст радиограммы, в которой речь идет и о летучем голландце, и о нас с вами одновременно…
– Интересно, – поднял брови Шмидт, ожидая пояснений. – Интересно будет узнать, что между нами общего.
– Вы помните «Кишинев»? Тот самый, который стоял во Владивостоке рядом с нами? Так вот: он, оказывается, тоже дал деру от господ Меркуловых! Что тот голландец – был и не стало… Господа в ярости, считают, что он идет на соединение с нами. Такая досада, что в Доброфлоте нет связи между судами. Вот бы покалялякали с кишиневцами!
Возгласы удивления и недоверия слились в один мощный всплеск шума.
– Заливаешь, Целярицкий! – убежденно сказал Москаленко. – С него, братцы, станется…
Вместо ответа радист протянул Шмидту сложенный вдвое небольшой лист бумаги. «Его превосходительству господину адмиралу Старку, – прочитал вслух Август Оттович. – Настоящим доношу, что пароход Российского Добровольного флота «Кишинев» покинул рейд Владивостока, уйдя в неизвестном направлении. Предполагается, что он возьмет курсом Чифу для соединения с ранее бежавшим «Ставрополем». Убедительно прошу оказать возможное содействие в перехвате беглого судна, дабы объединение это стало невозможным. Суда должны быть возвращены по принадлежности их законным хозяевам. Дальмормин, подписал Семенов…»
– К иностранщине на поклон пошло наше с вами морское министерство, – Шмидт аккуратно сложил листок снова. – Просят, чтобы его английское превосходительство адмирал Старк помог нас назад воротить… Плохо, однако, нам придется, если он и вправду пришлет за нами гонцов на паре крейсеров. Да нам и одного-то, честно говоря, с лихвой достаточно… Словом, надо думать, срочно принимать какие-то меры.
Он повернулся к Целярицкому:
– А вы, Владимир Иванович, просто гениальный радиотелеграфист. Виртуоз, Моцарт своего дела! Кстати, несколько минут ситуации не меняют, а я очень хотел попросить вас рассказать о колымском походе девятнадцатого года. Помните, вы тогда встречались с людьми из экспедиции Амундсена? Слышать-то я слышал много, но сам в том походе не участвовал. Вы уж расскажите, Владимир Иванович…
Целярицкий уселся поудобнее.
– Ладно, – сказал он. – Его превосходительство британский адмирал и вправду подождать может. Так вот, было это, значит, в конце октября девятнадцатого года…
Голос Целярицкого был негромкий, надтреснутый. Но рассказывал он столь интересно, что все оказавшиеся в кубрике вдруг почувствовали себя прямыми участниками событий, уже ставших достоянием истории. А события те были, и точно, достойными всяческой памяти…
Старая история
«Ставрополь» возвращался из очередного рейса к устью реки Колымы. После довольно беспорядочного трехсуточного блуждания вдоль кромки проточных припайных льдов капитан Грюнфильд понял: как ни печально, но зимовать придется в море. Отдалялись на долгие месяцы свидания с родными и близкими, куда-то за горизонт времени отодвигалось возвращение во Владивосток. Но обстоятельства есть обстоятельства. Вот почему, собрав команду, капитан коротко проинформировал ее о создавшейся обстановке.
– На зимовку попытаемся стать неподалеку от мыса Северного, там есть одна очень подходящая для этой цели бухта. Если нам удастся в нее войти, пароход будет в общем и целом независим от ледовой обстановки в океане, от ветра и погоды. Места эти населены чукчами. Народ темный, но довольно сердечный и по-своему гостеприимный. Так что мы вполне можем рассчитывать на меновую торговлю с ними. По крайней мере, голодать или питаться одной солониной нам не придется…
С мнением капитана все согласились молча, без возражений. Только один Вася Иваницкий – маленький конопатый матросик – тяжко-претяжко вздохнул: во Владивостоке у него осталась молодая жена, с которой и прожил–то он всего месяц перед рейсом. И вот…
– Терпи, казак, – рассмеялся боцман Иван Москаленко, – атаманом непременно будешь. А может, и капитаном даже!
Москаленко сочувствующе подмигнул матросику и отправился к капитану за получением инструкций по организации зимовки.
Через сутки «Ставрополь» бросил якорь в бухте острова Идлидля, у самой кромки припая. А еще через два дня открытая вода позади парохода оделась в прочный белый панцирь – «Ставрополь» оказался зажатым во льду, словно крохотная доисторическая мушка в сияющем куске янтаря.
Тщательно проверив все пароходное хозяйство, отревизовав угольные ямы, капитан приказал погасить топки. Он прекрасно понимал, что именно означает его приказ, но никакого другого выхода просто-напросто не было: черный уголь в таких случаях приобретает цену желтого золота. Постепенно температура в кубрике и каютах упала до минус восьми градусов по Цельсию. Понимая, что жить в подобных условиях в общем-то невозможно, капитан принял решение нанести «визит вежливости» береговым чукчам, или, по местному выражению, чавчу. Прихватив с собой в качестве подношения хозяевам острова несколько коробок с патронами и с десяток курительных деревянных трубок, они отправились по льду к берегу острова…
Поселение чавчу оказалось совсем недалеко, закрытое от холодных ветров склоном высокой голой горы. Убогий вид имело это стойбище! Десятка два яранг, чем-то напоминавших гигантские меховые шапки, лежащие прямо на продрогшей земле, чадили небо тонкими вырывающимися через отверстия в крышах струями сизого дыма. Яранги были почему-то разного размера – одни больше, другие меньше, третьи и совсем крохотные. Боцман не замедлил отметить это интересное, на его взгляд, явление:
– Тю, как-то чудно получается!
– Ничего чудного, – возразил капитан. – Все те же законы развития человеческого общества, что и в цивилизованной среде: кто богат – у того и яранга большая, а кто победнее – тот себе подобной роскоши позволить не может.
– Ишь ты! – причмокнул боцман. – А мы, Генрих Иванович, в какую ярангу пойдем?
– В самую большую для начала. К начальству пойдем.
Миновав упряжку дружно залаявших на моряков собак, они приподняли полы яранги:
– Можно, хозяин?
Никто не ответил, и капитан переступил порог без особого приглашения. Вокруг тлеющего дымного костра сидели до десятка мужчин и женщин в одинаковой одежде из меховых шкур. Было темно, жарко и дымно. Свет глиняного жирника вырывал из этой темноты только лица людей – сухие и изможденные.
– Здравствуйте, – сказал Грюнфильд. – Принимаете гостей?
Никто из сидящих не выразил по поводу визита моряков ровно никакого удивления: наверное, они уже давно обратили внимание на подошедший к берегу пароход и ждали гостей.
После короткого молчания навстречу пришельцам поднялся седой согбенный старик и, вежливо поклонившись, указал на место, мгновенно образовавшееся среди раздвинувшихся людей.
– Моя налод лада тебе, лусский матлоса, – сказал старик, медленно подбирая русские слова. – Моя слушай тебя холошо, моя очень твоя слушай!
Грюнфильд медленно, чтобы старик разобрал смысл сказанного, начал говорить о положении, в которое попал «Ставрополь». Пояснив, что русские моряки замерзают, что им нечего есть, он предложил чукчам имеющиеся в трюмах парохода на подобный случай товары – спички, патроны, металлические ножи, мыло, сукно. И, конечно же, порох и огненную воду – водку…
Старик выслушал капитана, не прерывая. Потом понимающе улыбнулся и кивнул в знак согласия головой:
– Моя твоя понимай, лусский матлоса! Твоя получит за товал песец, получит челный лисица. Много лисица, много песец.
Поняв, что старик договаривается с ним о торговле на принципах обмена, капитан отрицательно мотнул головой:
– Нет, я прошу взамен у вас совсем другого.
– Тебе не нужен лисица? – изумился старик. – Тогда моя снова слушай. Что хочет твоя?
– Я хочу, чтобы вы разместили моих людей в своих ярангах. На одну только зимовку. Иначе нам будет очень и очень плохо. Вы понимаете меня?
Долго молчал старик. Уже догорел костер, а он все молчал и молчал. Капитан и боцман тоже молчали, никак не решаясь торопить старика с ответом. Наконец чукча поднял голову, взял в морщинистые руки глиняную грубую трубку:
– Пусть твоя матлоса живут у чавчу. Пусть твоя матлоса не обижай чавчу.
Заверив старика, что матросы будут вести себя самым подобающим образом, капитан роздал окружающим патроны и трубки и, попрощавшись, отправился на пароход.
На борту «Ставрополя» решено было установить суточную вахту из шести человек, а команду расквартировать среди чукчей. На берег с шумом и шутками отправились пятнадцать «новоселов». Капитан предупредил особо: вести себя по отношению к местному населению корректно, частных обменных операций ни под каким видом не производить, ничего лишнего с собой на берег не брать…
С помощью старика – человека в стойбище, как видно, весьма уважаемого – всех довольно быстро распределили по ярангам, в каждую семью по одному человеку. Новые жилища матросов, несмотря на их кажущийся примитивизм, довольно неплохо сохраняли тепло, конечно, если внутри горел костер. Огонь в очаге день и ночь поддерживали женщины, сменяя одна другую. Они же заготавливали ягель и олений навоз, которые служили здесь, на Идлидле, основным топливом.
Боцман Москаленко попал на постой в одну из самых маленьких яранг, в которой жили двое мужчин и три женщины. Раньше, как выяснилось, и мужчин было трое, но месяц назад одного из них задрал белый медведь. Таким образом, его жена осталась вдовой.
– Твоя может блать ее в жены, – милостиво сказал старик. – Твоя не жалей будет.
Под дружный общий смех матросов Иван сердечно поблагодарил за неожиданное предложение, но отказался от него.
– Какомэй! Моя не понимай твоя, – с досадой ответил, выслушав его, старик. – Она будет холошо делай кушать, очень холошо.
И он удалился с видом человека, добрый поступок которого оказался не понятым окружающими…
Прошло три недели. Каждый предыдущий день был похож на день последующий, словно два новеньких медных пятака. Матросы ходили на судно отстаивать вахты, возвращались, помогали женщинам заготавливать ягель, готовить пищу. Радиотелеграфист Целярицкий на самодельных проволочных шампурах изготовил очень недурной шашлык из оленьих языков. Удовольствию и восхищению чукчей не было при этом предела. Они лакомились невиданным доныне блюдом, закрыв совсем узкие щелочки прямых глаз:
– Вай, вай, как холошо! Много холошо!
А больше, пожалуй, ничего интересного не было.
К исходу четвертой недели завертела метель, и все попрятались в свои яранги, только олени да собаки остались на улице.
Усевшись у огня, Москаленко, опять, в который раз, обратил внимание: чукчанка Рану сидит рядом с ним. Она сняла свой причудливый головной убор, рассыпала по плечам длинные, черные, словно антрацит, волосы. Он незаметно скосил глаза и вдруг почувствовал – красивая женщина сидит с ним рядом! А она, словно угадав его мысли, только улыбнулась краешками тонких бронзово-алых губ: сам, дескать, виноват, что не взял меня в жены.
Неожиданно за пологом залаяли собаки, послышался какой-то шум. Мужчины, а за ними и Москаленко, поспешно оделись и вышли на улицу. Из самой метели навстречу им шагал плотно закутанный снегом человек. Что-то неразборчиво сказав, он свалился на руки подоспевших матросов…
Пришельцу, появившемуся в стойбище столь неожиданным и даже таинственным образом, было очень и очень плохо. Его знобило, он все время что-то выкрикивал в горячечном бреду. Но ни одно из его слов не было понято окружающими. Чукчи предложили было позвать шамана, но помощник капитана «Ставрополя» Алексеев решительно этому воспротивился:
– Обойдемся как-нибудь без помощи духов!
Тогда человека уложили в двойной мешок из оленьих шкур, но он все равно, не приходя в сознание, стучал зубами от холода.
Пяну – так звали старейшину – посмотрел по сторонам. И, ничего не поясняя, величественно кивнул двум оказавшимся рядом женщинам. Те, нимало не смущаясь, быстро разделись догола, обнажив смуглые, покрытые замысловатой татуировкой молодые тела, и забрались в мешок, тесно прижавшись к больному. Через час-полтора он согрелся, бред прекратился: женщины, как видно, сыграли роль живой грелки.
– Вот так медицина! – засмеялся Алексеев. – Полезное с приятным, как говорится!
– Моя знай, что делай! – гордо сказал старик. – Моя всегда делай так, если злой дух холода входит в чавчу.
Кроме всего прочего, Пяну распорядился привести к яранге молодого олешка. Он взял в руки большую чашу и сам подошел к олешку с ножом в руках. Через несколько минут, вернувшись в ярангу, он протянул Москаленко чашу с дымящейся оленьей кровью:
– Пусть твоя болной человек выпьет все! До самый дно! Моя знай, что делай…
Несмотря на некоторое сомнение, высказанное Алексеевым, Москаленко все же начал вливать еще горячую кровь в плотно сжатые губы больного. Через несколько минут по телу его прошла дрожь, он сделал судорожный глоток и, под общий вздох облегчения, открыл глаза. Обвел взглядом склонившихся над ним людей, сморщил лоб, будто пытался что-то припомнить. Потом, с трудом высвободив из мешка руку, попробовал поднять ее, указывая направление:
– Амундсен… Амундсен…
Силы вновь покинули его, он снова потерял сознание.
Собравшись вместе, Грюнфильд, Алексеев, Москаленко, Рощин и Целярицкий обсуждали происшедшее. Еще будучи во Владивостоке, они слышали о том, что покоритель Южного полюса Руаль Амундсен решил предпринять попытку, вмерзнув в лед своим судном «Мод», продрейфовать через Северный полюс.
– Видимо, у норвежца что-то случилось. – Скорее всего, этот человек пришел к нам с «Мод», – высказал предположение Алексеев.
– Пожалуй, так оно и есть, – согласился Генрих Иванович. – Наверное, Амундсен попал в какую-то беду и послал его, чтобы найти в океане людей, землю. Во всяком случае, не подлежит сомнению только одно: одинокие путешественники посреди льдов и торосов ни с того ни с сего не появляются…
Еще через сутки больной окончательно пришел в себя. Чукчи еще раз напоили его горячей оленьей кровью, и он окреп настолько, что смог говорить. Гость действительно оказался матросом с «Мод». Затертое льдами судно дрейфовало на северо-запад, никаких надежд пройти через широту Северного полюса у Амундсена больше не оставалось. Зато появились болезни, кончались припасы. И Амундсен, посылая своего человека к берегу, дал ему указание найти способ снестись по радио с Америкой: американцы в этом случае смогут сообщить в Норвегию весть о бедственном положении судна, попросить выслать в помощь экспедиции аэроплан.
Норвежский матрос с надеждой смотрел сейчас на матросов «Ставрополя». Он, конечно же, рассчитывал на судовую радиостанцию русских. И, конечно же, ничего не знал о том, что топки парохода давно погашены и вычищены. А это значило, что нет на борту «Ставрополя» энергии, нет, стало быть, связи с Большой землей.
…Существует старое поверье: настоящим моряком не может быть человек с нечистой совестью. Море требует от людей немало сил и достоинств, не прощая им ни единой слабости. Вот почему вечером в яранге Грюнфильда собрались едва ли не все свободные от вахты члены команды «Ставрополя». Решался вопрос о способах оказания помощи попавшему в беду судну норвежского путешественника. Уже благополучно выкурили целый коробок табаку, но сколько-нибудь стоящей мысли в голову никому не приходило. О том, чтобы поднять пары – не могло быть и речи: каждый пуд угля находился на строгом учете, его было в обрез на обратный путь только-только до Петропавловска.
– Что же все-таки делать? – в который раз Генрих Иванович обводил взглядом лица товарищей. – Не можем ведь мы сознаться гостю в своем бессилии…
А в последнем, кстати говоря, не было бы ровно ничего зазорного: «Ставрополь» и сам находился в крайне незавидном положении, сам, по хорошим временам, нуждался в помощи со стороны. Можно, наверное, взять да и просто-напросто пояснить норвежцу: так, мол, дорогой наш человек, и так: связи с Америкой при всем своем желании установить не сможем…
– Выход? – капитан поднимался и снова устало опускался на разостланные в яранге теплые оленьи шкуры. – Я твердо знаю, что какой-то выход непременно есть.
Как истинный моряк-полярник, Грюнфильд с юношеских лет усвоил одну простую и одновременно сложную истину: безвыходных положений на свете не бывает. Но они, положения эти, обязательно появляются, как только человек теряет волю и опускает руки.
И, как ни удивительно, и на сей раз выход тоже был найден. Правда, не тотчас, а почти сутки спустя. К капитану по собственной инициативе подошел Целярицкий и молча протянул ему исчерченный карандашом лист бумаги. Генрих Иванович взглянул на него, ненадолго задумался, а потом лицо его посветлело.
– Молодец, братец! – восторженно воскликнул он. – Исполнено не хуже, чем в императорском театре! И сколько же, по-твоему, понадобится людей, чтобы оперативно смонтировать сию установку?
Радист неопределенно пожал плечами:
– Человек десять-двенадцать, никак не больше.
– А по времени?
– Пары дней, полагаю, хватит…
В тот же день со «Ставрополя» сняли рулевое колесо и динамо-машину. С помощью хитроумной системы, состоящей из вала и передаточного механизма, прямо на льду соорудили установку, которой кто-то мгновенно дал название чертовой машины. С помощью кабеля ее соединили с радиорубкой парохода, и Алексеев, дабы поддержать состояние всеобщей приподнятости, торжественно перерезал ножницами «ленту», протянутую у колеса:
– Прошу почтеннейшую публику ознакомиться с удивительными последними достижениями современной отечественной техники!
Несмотря на то, что роль ленточки выполнял самый обыкновенный телефонный провод, а на улице стоял сорокаградусный мороз, раздались дружные аплодисменты.
– К штурвалу! – торжественно скомандовал Алексеев. – Даешь энергию на нужды Норвегии.
Чтобы обеспечить необходимое напряжение, по подсчетам Рощина, предстояло вертеть этот самый штурвал не менее двадцати пяти оборотов в минуту. Дело это оказалось далеко не таким уж простым и легким: буквально через десять минут от первой смены матросов повалил пар, и они сбросили полушубки на лед. Но зато восторгам не было конца, когда появившийся у борта парохода радист поднял обе руки кверху: аппаратура заработала.
Сутки прошли в тревогах: радисту никак не удавалось установить связь с континентом. Несмотря на все его старания, эфир упорно безмолвствовал.
– Так мы долго не протянем, – тяжко вздыхал Грюнфильд. – Подобная физкультура команде скоро окажется не по силам…
Но, как иногда случается в жизни, помощь пришла совершенно неожиданно, и оттуда, откуда ее никто не ожидал. Вернувшиеся с охоты мужчины стойбища, столпившиеся вокруг машины, долго и восторженно щелкали языками, глядя на горящую контрольную электрическую лампочку. Крутят колесо матросы – горит удивительная штуковина, перестают крутить – гаснет.
Наконец, из их толпы вперед, к чертовой машине шагнул какой-то парень. Он нерешительно протянул руку к колесу, робко посмотрел на Алексеева. Тот только безнадежно махнул рукой:
– Ладно уж, покрути немножко, коли тебе и вправду так хочется…
Чукча ухватился за рукоятки и с таким усердием завертел колесо, что лампочка, под общий гул зрителей, загорелась ярче прежнего.
– Началник! – истошно завопил, рванувшись вперед, еще один из охотников. – Началник! Моя тоже будет клути колесо! Позволь, началник?!
Словом, чертова машина с этого момента больше не знала ни минуты роздыха: чукчи, сменяя друг друга, не отходили от нее ни на шаг. Сам этот нехитрый производственный процесс, как видно, доставлял им огромное и неподдельное удовольствие, а усердие их только утроилось, когда расчувствовавшийся капитан приказал выдать каждому из охотников по стакану огненной воды. Водка вдохновила чукчей, как вдохновляют аплодисменты не слишком избалованного ими артиста.
– У-э-э-эх! – пронзительно взвизгнул один из работников, и все остальные, дружно подхватив клич, снова направились было к машине. Алексееву стоило немалого труда умерить их трудовой пыл:
– Сейчас не надо, други мои! – пояснил он умоляющим голосом. – Сейчас надо спать, по ярангам идти. Отдохнем немного, опять крутить будем. Потом поработаем, други мои!
Но даже целая неделя усилий не принесла команде ничего нового: связи с Большой землей по-прежнему не было, а надежд установить ее оставалось все меньше и меньше… Единственное, что обрадовало всех, – услышанная по радио весть об установлении Советской власти в Анадыре. Обсуждали ее на все лады, судили, рядили и комментировали каждый по-своему. Конец дебатам положило еще одно, не менее сенсационное и удивительное происшествие: в стойбище пришли двое моряков с «Мод». Гансен и Вистинг – так звали норвежцев – были посланы Амундсеном на поиски возможно зимующих в Арктике судов. После встречи и беседы с ними капитан только головою вертел от изумления:
– Понимаете ли вы, какая это удивительная вещь! – в который уже раз говорил он своему старшему помощнику. – Этот знаменитый норвежец, как видно, и вправду родился в рубашке. Он ведь решил найти иголку в стоге сена, да еще и среди темной полярной ночи. И нашел! Можете представить себе подобное чудо – он нашел эту самую иголку!
…После полумесяца бесплодных попыток установить связь с американским побережьем капитан Грюнфильд полностью осознал всю их безнадежность.
Снова собрался в его вместительной яранге «военный совет», снова начались мучительные поиски выхода. Ясно было только одно: норвежцам нужно пробираться в Анадырь. Только оттуда, используя мощную береговую станцию, можно будет перекинуть радиомост на Аляску. Но как это сделать?
Решено было купить у чукчей две собачьи упряжки: одну – для путешественников, вторую загрузить провиантом и кормом для собак.
– Думаю, что хорошие деньги помогут уговорить чукчей дать норвежцам и проводника, – сказал Алексеев, – да вот только беда: в нынешнее тревожное время они, несмотря на отсталость, признают только золото. У норвежцев его нет вовсе, а у нас – кот наплакал. Но лично у меня два золотых червонца наберется…
– В чем же дело, давайте сбросимся! – воскликнул Москаленко. – Бог с ним, с тем золотом, речь о судьбах человеческих идет. Я вот сам, к примеру, семь золотых припрятал. Но ничего, дело наживное, потом еще подсоберу. Давайте, Генрих Иванович, я сам с матросами поговорю.
Вечером Пяну, внимательно выслушав просьбу команды «Ставрополя», задумчиво и долго смотрел на положенную у его ног небольшую кучку золотых и серебряных монет. Потом неожиданно спросил, повернувшись к Алексееву:
– Твоя блат есть?
– Он, видимо, интересуется, имеешь ли ты брата, – попытался расшифровать странный вопрос капитан. – Зачем ему это?
И Грюнфильд сам ответил за помощника:
– Имеет он брата, Пяну. Старше его лет на пять.
– Твоя тоже белет с блата золотой за доблый дело?
– Ну уж! – возмутился Алексеев от одного подобного предположения. – Еще чего старик выдумал! Разве с брата за услугу деньги берут?
Пяну снисходительно улыбнулся и, кивнув понимающе головой, отодвинул осторожно деньги от себя подальше. Потом встал и торжественно произнес:
– Чавчу и лусский, – он ткнул морщинистой рукой в грудь сначала себя, а потом Алексеева, – и есть блатья. Моя – твоя блат, твоя – моя блат! Моя не белет от блат деньги. Моя дает блата собак, дает налты, дает еда, дает пловодник. А золото моя не белет…
Алексеев порывисто сделал шаг вперед и обнял старика, который был на две головы ниже его самого:
– Спасибо тебе, брат! Огромнейшее спасибо!
И все чукчи, как завороженные, смотрели на эту необычную сцену. Никогда еще ни один белый не обнимал ни одного чукчу, не целовал его, не называл своим братом!
…Провожали маленькую экспедицию торжественно, с троекратным ружейным залпом.
– Бог вам в помощь, друзья, – сказал на прощание краткую речь Грюнфильд. – Думаю, что придет время – еще встретимся. У русских говорят: мир тесен…
Исчезли в мгновение ока в снежном тумане быстрые собачьи упряжки, затихли вдали звонкие крики проводников. И, смахнув с ресниц налипший снег, капитан повернулся к Алексееву:
– Скоро уж и подвижка льда, надо полагать, начнется. Весною вовсю пахнет. Надо бы нам начинать готовиться в обратный путь.
«Мы честно выполнили поставленную перед нами задачу, – записал тогда капитан в рейсовом отчете. – Думаю, что, если не сейчас, то впоследствии не только команда, но и морские власти Норвегии будут признательны их российским коллегам за оказанную «Мод» бескорыстную помощь, более коей сделать мы уже не в силах».
***
Как зачарованные слушали матросы удивительный рассказ радиотелеграфиста.
– Да, – вздохнул во время одной из пауз Рощин, – вон она, паете, как закончилась эта история.
И, конечно, ни Рощин, ни сам Целярицкий не могли даже предполагать тогда, что придет время, минут годы, и история эта получит свое продолжение. Какое именно?
В книге В. Г. Гниловского «Занимательное краеведение» есть несколько строк, рассказывающих об этом. Вот они.
«В 1928 году в девятый раз «Ставрополь» отправился в колымский рейс и прошел мимо места своей исторической стоянки. А годом раньше Амундсен посетил Владивосток, чтобы еще раз выразить свою благодарность морякам «Ставрополя». На владивостокском вокзале к Амундсену подошел советский моряк и заговорил с ним по-английски. Моряк был не кто иной, как тот самый радист со «Ставрополя», который в памятную зимовку в Ледовитом океане сконструировал знаменитое колесо для связи с Америкой.
– Помните ли вы «Ставрополь» и русских моряков, оказавших вам помощь в 1919 году, и что передал вам тогда о колесе капитан Вистинг?
Амундсен, вспомнив о случае с колесом, обрадованно заулыбался и ответил, что Вистинг ему все рассказал.
– Я очень рад, – сказал в заключение Амундсен, – что мне лично удалось встретить и поблагодарить в вашем лице экипаж «Ставрополя», оказавшего мне неоценимые услуги в 1919 году.
Амундсен на прощанье крепко пожал руку моряку. Ни советский радист, ни великий норвежец не знали, что это была их последняя встреча. Через год Руаль Амундсен погиб при поисках полярной экспедиции Нобиля…
Так было потом. Но тогда в тесном кубрике «Ставрополя» никто об этом ничего не знал, да и знать не мог.
***
Некоторое время после рассказа Целярицкого все молчали. А потом вдруг кто–то сказал, поглядев на притихшего Москаленко:
– Да, боцман, мы тебя человеком считали. А ты… такую невесту упустил!
– Все он правильно рассказал, Володька-то. А вот насчет невесты, этой самой Рану, и меня тоже – приврал, черт этакий!
– Вот те крест святой! – под общий хохот торжественно перекрестился Целярицкий. – Чем хотите, братишки, поклянусь: все так и было…
Снова Цзян
Прибывший на джонке полуголый китаец доставил с берега записку из управления портом, в которой сообщалось о том, что завтра поутру на борт пожалует с визитом уже хорошо знакомый команде Цзян. Капитан, ознакомившись с этой вестью, вызвал к себе кока Корчагина:
– Вот что, Владимир Васильевич, – сказал он, – большой гость в нашу сторону движется. В другое время руки бы ему не подал, но в нашем положении друзей выбирать не приходится. Не мешало бы сообразить на завтрак что-нибудь более или менее китайское, из риса, к примеру. Несколько килограммов у нас найдется? Вдруг, того и гляди, китаец растрогается да что-нибудь хорошее для нас сделает, какое-нибудь послабление в режиме. Кстати, как идет торговля с лодками?
– Слава богу, Генрих Иванович, пока ничего, чтоб не сглазить. Спичек у нас с Колымы осталось много, с голоду, если так и дальше пойдет, помереть не должны…
На ужин команде выдали подгоревшую овсяную кашу со свининой.
– Корчагин занят, – пояснил буфетчик Матвеев. – Ему сейчас не до вашей поганой каши. Китайцу завтрак готовит. Всю ночь, говорит, будет работать.
И не зря старался Корчагин. Когда утром жирного Цзяна усадили за стол, перед участниками завтрака появились какие-то поистине сказочные блюда! К отварному рису было подано восемь самых удивительных и непохожих друг на друга соусов. Особенно хорош был один из них под названием «кэрри». На его приготовление кок убухал все более чем скромные наличные запасы гвоздики, красного перца, мускатного ореха и кардамона.
Цзян восторженно щурил глаза, делаясь от этого похожим на большого домашнего кота, которого сытно накормили, а теперь в придачу ласково гладят по спине. От ложки он отказался, достал из кармана предусмотрительно привезенные с собой палочки.
– Вери гуд! – громко хвалил он произведения Корчагина. – Ошень, ошень карашо!
Но главное свое внимание, надо сказать, китаец уделил все-таки не еде, а поданной к столу в пузатом и потном большом хрустальном графине водке. Он то и дело подливал смирновскую в свою рюмку и пил с видимым наслаждением, довольно быстро хмелея. Захмелев, Цзян попытался «по-отечески» выговорить капитану за незаконные торговые связи с местным населением, но, начав, быстро забыл о своих намерениях, едва лишь ему самому было преподнесено несколько коробок спичек, завернутых в папиросную бумагу.
– Сейчас комендант порта уехал в Цзинань по делам, – сказал он неожиданно, – и пробудет там очень долго. А главным в Чифу остался я! И я разрешаю русским начальникам один раз в неделю, в воскресенье, съезжать на берег. Только в городе надо вести себя очень и очень хорошо! Понимаете меня?
– Завтра как раз воскресенье, – великодушно добавил Цзян. – Вы можете съехать хоть всей командой, а я дам команду в гостиницу на берегу, чтобы вас приняли и разместили как следует!
Трудно сказать, какую радость испытали моряки при этих словах чиновника. Для того, кто долго плавает, нет большего наслаждения, чем снова ощутить, после долгих недель и месяцев, проведенных в море, под ногами твердую и надежную почву вместо зыбкой палубы.
Грюнфильд с чувством пожал руку китайцу, тепло поблагодарил его. А чиновник делался с каждой минутой все щедрее и щедрее.
– Я пришлю к вам к шести вечера свой катер, – пообещал он. – Вы сможете наведаться в клуб моряков, выпить виски, побаловаться с хорошенькими девочками. Там найдут их на все вкусы – от японок до русских. Весело и совсем недорого! – расхохотался Цзян, наполнив рюмку вновь. – Вам не придется жаловаться на наших красавиц, господа русские моряки!
…Матросы не успели еще извлечь из своих сундучков парадные форменки, как на борт «Ставрополя» явился еще один гость – это был Лаврентьев. Свежевыбритый, пахнущий одеколоном, он обнял капитана.
– Рад видеть вас сегодня в добром здравии и хорошем настроении, – просто сказал он. – Вижу, что с питанием у вас дела несколько наладились. Китайцы за спички, самосад и водку отдадут не только что украденного поросенка, но даже и папу с мамой в придачу.
Алексей Алексеевич засмеялся, довольный своей осведомленностью.
– Что верно, то, пожалуй, верно, – согласился капитан. – С мясом и водой у нас сейчас полный порядок. Вот с овощами – беда, по-прежнему нет, а китайцы не привозят. Команду кормим бульонами даже без картошки.
– А ведь я как раз и приехал, чтобы оказать вам небольшое содействие именно в этом вопросе, – заулыбался Лаврентьев. – Помните, мы ведь как-то на эту тему уже говорили, и я пообещал вам подыскать посредника на предмет закупки овощей? Так вот: я его нашел. Но… есть ли у вас деньги, господа?
– С деньгами плохо, – признался откровенно Грюнфильд. – В рублях около тысячи, а в долларах и фунтах – почти совсем ничего. Юаней же, как говорится, и вообще кот наплакал.
– Давайте же мне поскорее эти ваши доллары, юани и фунты, – решительно сказал гость. – Все давайте. В таком случае завтра вы получите на них картофель и зелень. Посредник, скажу вам правду, ждет меня уже сейчас на берегу.
Скромно выслушав благодарность капитана и положив в карман деньги, гость достал блокнот и вырвал из него листок бумаги.
– Позвольте написать расписку, – сказал он. Но Грюнфильд остановил его.
– К чему эти условности, Алексей Алексеевич? – вздохнул он. – Наша с вами дружба стоит намного дороже всех этих юаней и долларов, и я не допускаю даже мысли, что вы можете употребить их без пользы для нас. Да и, кроме всего прочего, что мы сможем сделать и в худшем случае с вашей распиской? Ровным счетом ничего. Само небо послало вас нам, дорогой Алексей Алексеевич!
Лаврентьев молча наклонил седую голову, как наклоняет ее человек, принимающий давно заслуженную им благодарность…
После его отъезда ликование на судне приняло поистине всеобщий размах. По поручению Копкевича боцман составил список желающих съехать завтра на берег. Оказалось, желают все до единого!
– Придется все-таки человек шесть-семь оставить, – сказал капитан Шмидту. – Для порядка, конечно, для проформы, никак не более. Вы сами-то, Август Оттович, поедете?
– Как вы, не знаю, – неторопливо ответил второй помощник. – А я, Генрих Иванович, не поеду.
– Почему же, дорогой мой? – изумился от всего сердца Грюнфильд. – Столько времени без суши и не поедете. Я – капитан, мне положено остаться на борту. А вы бы могли немножко развлечься.
– Нет, Генрих Иванович, – упрямо тряхнул головой Шмидт, – и не уговаривайте, не поеду. Уж больно, доложу я вам, не понравился мне разговор с этим самым Цзяном. С чего это он нам такую честь оказывает? Откуда любовь такая?
– Право же, Август Оттович, – досадливо поморщился капитан, – вы с Копкевичем во всех и всюду видите нечто подозрительное! Просто-напросто водка развязала китайцу язык, и он решил как-то нас облагодетельствовать. Ежели вы твердо решили не съезжать на берег, то тогда оставайтесь за старшего, а я с удовольствием проведу вечер в клубе моряков.
– Хорошо, – кивнул согласно Шмидт. – Только я попрошу оставить на борту не менее дюжины матросов.
Грюнфильд удивленно посмотрел на него:
– Уверяю вас, Август Оттович, что подобная мера предосторожности совершенно излишняя. Впрочем, береженого бог бережет. Будь по-вашему…
Тревожная ночь
Ночь с субботы на воскресенье выдалась на редкость тихой и очаровательной. Абсолютный штиль успокоил море, сделав его ласковым и приветливым. Угомонились на берегу голосистые, шумливые китайцы, прижались к причалам яркие джонки.
Многие матросы приспособились на своих сундучках писать письма родным и близким в Россию, которые надеялись завтра в городе сдать на почту. Первое в жизни письмо написал домой, в Одессу, печатными буквами кочегар Кожемякин: от нечего делать кто–то выучил его читать и писать. Целярицкий устроил для матросов нечто вроде историко-географического кружка, а Шмидт в свободное время занимался с ними корабельной теорией.
Запечатал в серый конверт свое послание во Владивосток и Иван Москаленко. Откинул назад голову, и невольно задумался. Вспомнился вдруг с поражающей отчетливостью Приморский бульвар, вспомнилась красивая девушка Ксюша, которой он говорит: «До завтра!». И она отвечает ему: «До завтра, Вань!..» Как же давно все это было, четыре с лишним месяца назад! Он долго еще колебался, а потом все-таки решился: выпросил у радиотелеграфиста листок красивой глянцевитой бумаги. Тот удивленно уставил глаза на боцмана:
– У тебя же, кроме матери, писать больше некому.
– Да так, – смутился Москаленко, – есть еще одно дело. Человеку одному, понимаешь, черкнуть хочу…
Боцман смущенно закашлялся и поспешно вышел из радиорубки: любопытный какой радист этот!
Закрыв огромной ладонью листок от глаз любопытных, он надписал на конверте адрес:
«Во Владивосток
в лавку Фрола Прокопыча Берендеева
его дочери Ксане в собственные руки».
И вдруг чернильница, стоявшая на крышке матросского сундучка, подпрыгнула, перевернулась в воздухе и покатилась вниз, щедро заливая фиолетовым своим содержимым и только что надписанный конверт, и почти новую белую холщовую робу автора несостоявшегося письма. Все в кубрике мгновенно вскочили на ноги: корпус судна дрожал, словно его лихорадило, и кренился поочередно на оба борта. «Штиль ведь на море, – мелькнуло в голове боцмана, – что за диво такое!»
Но особенно раздумывать было некогда: на палубе раздались тревожные голоса, все, словно горох из прорванного мешка, враз выбежали наверх. Еще пять минут назад совершенно спокойная вода за бортом кипела, словно в котле. На горизонте, недавно темном, мерцала тревожным заревом какая-то светлая полоска, все время меняющаяся в размерах.
На ходу застегивая китель, на мостик взбежал капитан:
– Всем по местам!
Обратился к Копкевичу:
– Не везет нам, да и только. Кажется, моретрясение. С рейда нам не уйти – машины застопорены, топки погашены. Якоря, полагаю, поднимать не следует, иначе может выбросить на берег. Будем надеяться, что, на наше с вами счастье, новых толчков не последует.
Но еще два, правда, не таких сильных, толчка морякам все-таки пришлось пережить. Сдерживаемое якорными цепями судно, то проваливалось по самые верхушки мачт между исполинскими волнами, то вздымалось на их гребнях, словно щепка. Но мало-помалу море успокоилось, таинственная полоска на горизонте погасла. Грюнфильд, облегченно вздохнув, сразу же ушел к себе в каюту, а Шмидт, видя явственный испуг на многих лицах, спустился в кубрик к матросам – рассказать об этом удивительном природном явлении.
Но, едва только он начал говорить о землетрясениях и моретрясениях, у него вдруг объявился «содокладчик» в лице конопатого кочегара второго класса Тимофея Шимко.
– Это что! – пренебрежительно воскликнул он, подняв маленькие круглые глаза к потолку. – Я лично и не такое диво дивное видел, братишки. Сегодня так, пустяки, и бояться было нечего.
– Ишь ты, храбрец какой выискался! – раздался иронический голос. – Тебе там, окромя твоего антрацита, ничего просто не видно. Ты и море-то, надо понимать, нечасто видишь!
Кочегар обиженно шмыгнул носом:
– И вовсе не в энтом дело, – ответил он деловито. – А вот только в восьмом году служил я действительную на крейсере «Цесаревич» нашего Российского военного флота. Мы тогда в самый раз в Италию ходили. И там, в Мессинском проливе, такое же вот безобразие и приключилось. Так город ихний, Мессина называется, за минуту развалило! Наша эскадра, значит, в полном своем составе – линкор «Слава», мы да еще крейсера «Богатырь» и «Адмирал Макаров» – туды сразу. Сам я людей откапывал из земли. Потянешь за ногу, ан глядь – а нога-то того…
– Чего «того»?
– Того самого. Без человека-то нога! Сама по себе нога-то…
Глаза у кочегара округлились еще больше:
– Денно и нощно работали, братишки. Вот те крест, не вру. Много людей откопали, и живых тоже много. Но мертвых больше. Раз во сто покойников больше было, чем живых.
– Заливает, – решительно вмешался в разговор кочегар Стороженко. – Я его, братцы, хорошо знаю. Он любит поперед себя иногда тюльку прогнать! Нашли, право слово, кого слушать-то! Пущай уж лучше Август Оттович нам все по правде расскажет.
Но Шмидт и сам с нескрываемым интересом слушал сумбурный рассказ Шимко.
– Погодите, право, – обратился он к матросам. – И ничего, доложу я вам, Тимофей поперед себя не гонит. Коли он служил в девятьсот восьмом году на «Цесаревиче», то каждое его слово – чистая правда. «Цесаревич», «Слава», «Адмирал Макаров» и «Богатырь» тогда действительно помогали несколько дней итальянцам в ликвидации последствий землетрясения. За сорок секунд не стало города Мессины, из двух тысяч уцелело всего около трех десятков домов. И на помощь горожанам пришли наши моряки. Они работали, точно, день и ночь, как самые настоящие герои, как могут работать россияне!
Он встал и с чувством пожал кочегару руку:
– Не знал, что вы с «Цесаревича». Примите по этому поводу мои искренние поздравления и восхищение.
Стороженко, всего минуту назад столь агрессивно нападавший на своего коллегу, хлопнул теперь его по плечу:
– Вот так дело! Я ведь знал, что ты с «Цесаревича». А что такой герой, извини, Тимофей, не думал. Ну-ка, друг, закури!
И он сунул в руки кочегару огромную фанерную табакерку.
Вдохновленный общим признанием, Шимко вдруг раскрыл сундучок и достал с самого дна бережно сложенную вчетверо газету.
– Вот, – торжествующе сказал он. – В этой самой газете про нас написано!
Михаил Иванович нацепил на нос очки.
– Да ведь тут, паете, ничего не понять нельзя. Не по-нашему написано.
Шмидт взял газету в руки:
– Это «Эль Джорно», неаполитанская газета за 20 декабря 1908 года.
Он читал вслух, запинаясь и останавливаясь, а потом переводил.
– Писательница Матильда Серао рассказывает тут обо всем… Сначала о землетрясении пишет. А потом… пишет, – что «появились неведомые люди, в глазах их светилось сострадание и сочувствие. Эти люди пришли с моря… Они были моряками: офицерами и простыми матросами, сынами иного народа, детьми иной земли. И они были первыми, кто пришел на помощь страдающей Мессине. Спасая заживо погребенных, эти люди так боялись причинить им боль, что разбирали камни не кирками, а руками, сдирая с них кожу, обагряя камни своей кровью…»
Довольно скоро о моретрясении забыли, начали говорить о другом, и Шмидт по пути к себе постучал в капитанскую каюту.
– Не спите, Генрих Иванович?
– Нет, заходите, ради всего святого.
С минуту посидели молча. Потом капитан встал, вынул из настенного шкафчика бутылку «Мадеры», разлил по рюмкам:
– Давайте за то, что мы здесь уже пережили. Если бы толчки оказались посильней – беда нам с погашенными топками. Ну, с богом!
Выпив, снова молчали.
– Так вы завтра на берег едете? – поинтересовался Шмидт на прощание.
– Решил съездить, Август Оттович, коли уж вы на судне остаетесь. Побудьте, батенька, сами за старшего. А в следующий раз – ваш черед, я останусь.
Шмидт молча кивнул и, натянув на самые глаза потрепанную фуражку, ступил на порог.
На берегу
Едва только моряки «Ставрополя» сошли на берег, навстречу им быстрыми шагами направился человек в белом безрукавом костюме и тропическом пробковом шлеме.
– Смотрите, Генрих Иванович, – Копкевич тихо тронул капитана за рукав, – никак сам Лаврентьев нас встречать изволит?
Человек, подойдя поближе, и вправду оказался Лаврентьевым. Сердечно раскланявшись со всеми и осведомившись о здоровье, он скороговоркой доложил Грюнфильду:
– Деньги на овощи переданы посреднику, все будет в полном порядке. Узнав о том, что вам разрешен выход в город, я решил предложить вам свои услуги в качестве гида. Матросы могут идти в гостиницу, места я заказал. А вас, господа, приглашаю совершить небольшую прогулку по городу. Я уже кое-что узнал здесь, и вполне могу поделиться этими знаниями с вами. Чифу – совсем крохотный, и вы быстро его запомните. А вечером нас ждет к себе наш общий друг Цзян. Вы ведь не пробовали еще настоящего китайского обеда? Нет? О, тогда все складывается как нельзя более великолепно. Но… – он окинул присутствующих быстрым взглядом. – Но почему вас так мало, господа? А где господин Шмидт? Или остальные приедут вторым рейсом?
– Остальных вместе с Августом Оттовичем мы оставили для охраны судна, – пояснил Грюнфильд. – На всякий, как говорится, случай…
– О, господа, ведь это совершенно излишняя предосторожность! – воскликнул, даже переменившись от огорчения в лице, Лаврентьев. – Давайте пошлем за ними катер. Поверьте совести: китайские морские пираты – это всего лишь выдумка богатых на фантазии моряков! Я очень советую привезти на берег хотя бы еще десяток матросов, мы ведь можем из-за пустых подозрений и ненужных предосторожностей лишить их прекрасного отдыха. А силы людей – вещь очень и очень ценная. Я… – Лаврентьев суетился, не договаривал предложения до конца и почему-то умоляюще смотрел в глаза капитану. – Я думаю, что морякам надо съехать на берег, – закончил он тихо.
На помощь заколебавшемуся было Грюнфильду, довольно бесцеремонно перебив не в меру словоохотливого соотечественника, пришел Копкевич.
– Это не вы наших матросов лишаете удовольствия, – безапелляционно заявил он, – это мы их лишаем, Алексей Алексеевич. И мы делаем это данной нам властью без каких-либо угрызений совести. Так что всякие разговоры на подобную тему считаю излишними.
Грюнфильд сконфуженно и как-то виновато улыбнулся:
– Вы уж не сердитесь, Алексей Алексеевич. Мой помощник – человек прямолинейный.
Лаврентьев было нахмурил сердито брови, но сдержался – вновь на лице его появилась вежливая улыбка, хотя гладко выбритые щеки и покрылись красными пятнами.
– Вы совершенно правы, господа, – сказал он. – А я напротив: сунулся явно не в свое дело, за что и получил вполне заслуженный щелчок по носу. Но, честное слово, я не сержусь за него на господина Копкевича!
И он повел их по узкой улочке к центральной части города, мимо возвышающегося среди безалаберных некрасивых построек довольно стройного двухэтажного особняка.
– Комендатура, что ли? – спросил Грюнфильд, но тотчас осекся и конфузливо замолчал, углядев сидящих прямо на подоконниках размалеванных полуодетых девиц с кислыми минами на лицах. Они с явным интересом и нескрываемой надеждой смотрели на приближающихся русских.
– О, – засмеялся Лаврентьев, – вы, милостивый государь, почти угадали! Это, конечно, комендатура, но несколько иного рода. Я бы сказал, комендатура нравов… Здесь, действительно, как и положено, отмечаются все прибывающие в порт матросы. Сейчас у девушек – отдых: жара, как видите, несусветная. А вот к вечеру, как только матросики налижутся по кабакам, так и повалят сюда, словно мухи на мед. Манящий свет красного фонаря, знаете ли, со всех концов городка заметен. Но пока – сами понимаете…
Грюнфильду ничего не оставалось, как только удовлетворенно кивнуть головой. И, желая сменить тему разговора, он указал на выходящего из дверей тощего как спичка пошатывающегося китайца.
– Кстати, о кабаках, господин Лаврентьев, – сказал он. – Может быть, мы заглянем туда, откуда только что вышел сей красавец? Пить очень уж хочется. По бокалу холодного шампанского, полагаю, нам нисколько не может помешать, а?
И снова Лаврентьев улыбнулся:
– Я вновь вынужден вас разочаровать, господин капитан. Это не чайхана, а курильня, в которой туземцы курят опий. Вы, разумеется, об этом наслышаны. Но, честно говоря, я бы советовал вам заглянуть сюда хотя бы на минуту…
Моряки прошли под мрачными сводами длинного коридора в довольно просторную невысокую комнату, битком набитую лежащими прямо на полу людьми, в основном мужчинами. Все они были страшно худы, с высохшими и сморщенными, как смятый пергамент, лицами. Трудно было определить их возраст – все они, казалось, приближались годам к семидесяти. Несколько женщин, оказавшихся в этом вертепе, возлежали в самых неприличных позах, от чего казались еще более омерзительными, чем представители «сильной» половины человечества.
– Почему здесь одни только старики? – поинтересовался вполголоса капитан. – Почему, Алексей Алексеевич?
Он старался вдыхать струившийся по комнате сладковатый дым, выдыхаемый курильщиками.
– Ну почему же? – несколько принужденно рассмеялся Лаврентьев. – Я бы лично рекомендовал вам, господа, причаститься. Говорят, ни с чем не сравнимое удовольствие. Приказать?
– Опиум уничтожает возрастные признаки человека, – словно не слыша последних слов Лаврентьева, хмуро вступил Копкевич. – Опиум столь сильно влияет на организм курильщика, что тот очень скоро теряет всякий аппетит, и начинается практически его медленная смерть от истощения. Многие из тех, кого вы видите, еще не достигли и тридцатилетнего возраста, но они ничем не отличаются от стариков… С каждым днем они курят все чаще и больше, грудь их впадает, и в конце концов они умирают от отравления.
– Ну, – снова засмеялся Лаврентьев, – не так уж страшен черт, как нам его малюют! Вы видите, как все просто: для курения опиума китайцы имеют четыре прибора. Первый из них – трубка на манер кальяна с чрезвычайно узким наконечником, в который и вставляется столбик опиума… Утверждают, что курильщики испытывают необыкновенное блаженство…
– Но, говорят, – прервал на этот раз рассказчика механик Рощин, – говорят, паете, что от курения опия отвыкнуть невозможно?
– Мне рассказывали, – не дал раскрыть рта Лаврентьеву Копкевич, – что существует метод одного китайского ученого. Желающего излечиться сажают в железную клетку с толстыми прутьями. Постепенно уменьшая дозу опия, ему дают для поддержки жизненных сил кофе. Затем опий перестают давать, и начинается самое страшное. Человек мучается, рыдает, умоляя дать ему трубку. Наконец он приходит в бешенство: начинает грызть решетку зубами, биться об нее головой, часто ломает руки или ноги. Но зато потом наступает выздоровление: через месяц наркомана выпускают из клетки, и он, как правило, уже больше никогда не берет в руки опия.
Грюнфильд буквально за руки потащил своих собеседников к выходу из курильни.
– Это же омерзительно! – в волнении говорил он. – Это же – низшая ступень возможного падения человека. Это ужасно!
Побродив по городу и осмотрев на склоне горы сохранившиеся от древних времен кельи буддийских лам, Лаврентьев, Грюнфильд и Копкевич направились к дому помощника коменданта порта. Он оказался одноэтажным и узким, но зато никак не менее сорока метров длины.
– Не дом, а поезд какой-то, – пошутил Лаврентьев. – У него из комнаты в комнату переходишь, как из вагона в вагон.
Хозяин встретил гостей прямо на пороге и с распростертыми объятьями. Долго и церемонно здоровались, терлись щеками друг о друга, но все-таки Копкевич и тут не выдержал – проворчал вполголоса во время всей этот церемонии несколько соленых и выразительных русских слов.
– Что это с вами? – удивился Лаврентьев.
– До чего же богопротивная рожа! – бормотал помощник капитана. – Сам ведь нас не пускал на берег, голодом хотел уморить, а теперь – пожалуйста! – лучшим другом прикидывается. Ух!
И Копкевич еще раз, теперь уже «для облегчения души», выругался.
Прежде чем пройти за стол, Цзян представил гостям свою жену, о которой по городу ходили слухи как о редкой красавице. Глянув на нее, Грюнфильд глазам своим не поверил: в «красавице» было никак не больше тридцати вершков роста. И если ростом этим она напоминала десятилетнюю девочку, то уж комплекция… До чего бывали крестьянки толсты в станицах под Пятигорском, где Грюнфильд провел свое детство, но чтобы до такой степени… В талии очаровательная супруга китайского чиновника напоминала слоненка средней упитанности! Передвигалась она по комнате еле–еле, осторожно ступая на какие–то слишком маленькие, словно у младенца, ноги. Потом, воспользовавшись кратким отсутствием Цзяна, Копкевич пояснил:
– Вы уж виду не подавайте, Генрих Иванович. Туземцы они и есть туземцы, хоть и мнят себя помазанниками божьими, детьми поднебесной империи. Это у них такое понятие: чем женщина ниже ростом и толще – тем она красивее.
– Да, но ведь ноги… Что у нее с ногами? – прошептал капитан. – Ведь она несомненно больна!
– Ничем она не больна, – буркнул Копкевич. – Здоровее нас с вами, наверное. Целый день только и делает, что на подушках лежит. А на ноги ей еще в детстве надевали специальную обувь, которая сдерживает рост ступни. Вот в результате всего этого и получилась подобного рода «красавица».
«Красавица», как только дело дошло до стола, немедленно удалилась: по местным обычаям женщина не имеет права сидеть за одним столом с мужчинами и тем более – участвовать в пиршестве.
Пятеро обедающих чинно расселись за большим круглым столом орехового дерева и принялись за еду. Вместо вилок подали палочки, о которых русские, конечно, слышали и раньше. Есть ими, как оказалось, вполне можно: все блюда были заранее нарезаны и сложены так, что палочки оказывались не хуже вилок, хотя к этому все-таки нужно было привыкнуть. Плохо только, что все эти лакомства – вареные вкрутую яйца, желе, бобы, фрукты – приходилось брать из одной тарелки. Гости ели акульи плавники, креветок, нечто даже совсем непонятное – слизистое, внешне напоминавшее гусениц.
Рощин, впервые попавший за такой стол, растерянно смотрел на столь необычные разносолы, но, поймав на себе грозный взгляд капитана, все-таки решился кое-что есть. Потом подали какое-то отварное, удивительно белое мясо, очень приятное на вкус. Оно было нарезано ломтиками и неуловимо напоминала что-то среднее между куропаткой и рябчиком. Рощин, навалившись на мясо, съел его довольно много: все-таки почти европейский стол! Но тут на него с ядовитой ухмылкой уставился Копкевич:
– Я смотрю, отварные болотные гадюки пришлись нашему стармеху по душе?
Цзян так и не понял, почему русский моряк столь стремительно вылетел из-за стола и опрометью бросился к порогу…
– Сейчас вернется, – под общий смех русских сказал Копкевич, – это со всеми бывает поначалу, потом привыкают. Я вот ем за обе щеки, и хоть бы что.
Минут через пять, неловко извиняясь и краснея, старший механик вновь занял свое место за столом. Подали дымящуюся паром горячую рисовую водку.
– Пожалуйста, – счел своим долгом предупредить гостей Лаврентьев, – пожалуйста, пейте не по-русски, залпом, а маленькими глотками. И если можно, хочу предложить тост…
Он перешел на русский язык:
– За нашу новую и скорую встречу с любимой и дорогой родиной!
Все отпили из рюмок по глотку – больше не осилили. И тогда Лаврентьев достал из кармана пиджака сложенную вчетверо бумагу:
– Я уже присмотрел себе домик для покупки, но, наверное, не судьба мне в нем обитать. Сегодня я получил письмо от одного своего родственника, полковника Пазухина, из Маньчжурии.
Он небрежно бросил письмо в самый центр стола, и снова заговорил по-английски, чтобы было понятно и хозяину:
– Большевики вовсю убегают с Дальнего Востока. Судя по всему, Дальреспублика Меркуловых – государство, которое останется нашим прочным оплотом. Кроме того, говорят, что сам Ленин дал команду прекратить завоевание Дальнего Востока за ненадобностью. Вот, господа, почитайте, – он ткнул пальцем в отчеркнутое красным место в письме. – «Полагаю, дорогой мой шурин, что настала пора тебе возвратиться во Владивосток и приняться за свои коммерческие дела. Ныне твоим негоциям со стороны большевиков ровным счетом ничего не угрожает! Большевики заняты подавлением крестьянского восстания в Тамбовской губернии, во главе которого стоит народный вождь Антонов. И, кроме того, они, кажется, поняли, что и мы не по их зубам орешек. Дальреспублика навсегда останется свободной территорией великой и столь горячо любимой нами матушки-России!»
За столом воцарилось напряженное молчание, которое, минуту спустя, однако, нарушил Копкевич:
– Решили, господин Лаврентьев, воротиться на родину? – с непонятной насмешкой в голосе поинтересовался он. – Благое дело предпринять изволите?
Лаврентьев встал, поставил осторожно перед собой на стол чашку с водкой. И сказал торжественно и сурово:
– Мы с вами, господа, здесь уже основательно засиделись. Настало время принимать окончательное решение, которое одно и сможет предопределить всю нашу дальнейшую жизнь. Не скрою, я считал дальневосточное дело горелым, а карту нашу – битой; большевики казались мне без пяти минут победителями. И я счел за благо покинуть родину, уехать сюда, чтобы сохранить средства, дабы не ходить по свету, не христарадничать с протянутой рукой на старости лет. Но теперь все изменилось, – он вынул из того же кармана сложенную газету. – Вот что сообщает об этом лондонская вечерка. Читаю: «Дальневосточная республика Меркуловых – несокрушимый бастион подлинной демократии. Ленин отказывается от завоевания Дальнего Востока. В Москве на днях жителями поймана и съедена последняя крыса!» Насчет крысы, конечно, британцы перегнули, но все остальное не вызывает сомнений. Я возвращаюсь. А вот у вас, господа, положеньице… – он задумался, замолк и опустился на стул. – У вас получается нехорошо. Скорее всего, вам придется в ближайшее время возвращаться к тем самым людям, от которых вы убежали… Не пойдете же вы через Суэц в красный Питер? Не пойдете, конечно, хотя бы потому, что не дойдете. А то бы у вас был шанс отведать московской крысятинки. Да, положеньице…
За столом вновь воцарилась долгая пауза в разговоре. Оба моряка были, что называется, ошарашены всем только что услышанным. Судьба «Ставрополя», и без того постоянно беспокоившая Грюнфильда, теперь казалась ему еще более туманной.
Конец обеда, по вполне понятным причинам, оказался несколько скомканным. Снова подали уже знакомую русским подогретую рисовую водку. И снова больше чем по глотку осилить гостям не удалось.
– Может быть, нам уже пора ко мне в гостиницу? – по-русски спросил Лаврентьев. – Я заказал вам, господа, отличные номера по соседству со своим.
– Нет уж, дорогой Алексей Алексеевич! – тяжко вздохнул капитан. – Вы уж как себе хотите, а нам нужно вернуться на судно. И так надолго оставить пришлось, негоже это, совсем негоже…
Лаврентьев долго уговаривал моряков последовать его доброму совету и остаться на берегу или хотя бы закатиться прямо сейчас в добрый ресторан с женской прислугой, похлебать кислых российских щей с расстегайчиками, побаловаться и хорошенько выпить.
– К полуночи, господа, вы и вернетесь на столь милое вашему сердцу судно. Куда так торопиться, право!
Грюнфильд однако заупрямился.
– Нет, нет и нет, Алексей Алексеевич! – решительно и даже без вздоха на сей раз отрубил он. – Дело это решенное, а женская прислуга и расстегаи от нас никуда не денутся. Сейчас же мне необходимо быть там, на борту.
Лодка уже отчаливала от берега, кода Лаврентьев, надеясь, наверное, на русский «авось», прокричал ей вослед:
– А может, Генрих Иванович, все-таки останетесь?
– Нет, – отозвался Грюнфильд, стараясь в быстро сгущающихся потемках не потерять из виду дальний контур «Ставрополя». – Лучше скажите мне, сколько сейчас времени: самому без спичек не видно.
– Без четверти девять, Генрих Иванович… Счастливого пути!
– Спасибо, – устало отозвался Грюнфильд, нисколько не стараясь перекрыть голосом шум прибоя.
Покушение
Поздно ночью Августа Оттовича Шмидта сменил на вахте старший механик Рощин. Немного подгулявший Михаил Иванович, старательно выслушав напутствия второго помощника, не удержался от лирического излияния:
– Ночь-то какая, паете, даже не хочется входить в каюту. Меня, паете, всегда удивляли ночи в этих широтах. Неожиданно они приходят, ну прямо как первая любовь. Вы обратили внимание: звезды здесь напоминают цветы жасмина в волосах цыганки?
Смутившись, Михаил Иванович замолк. И у Шмидта как-то не повернулся язык высказать уже готовую сорваться шутку о том, что старик, видимо, не так уж плохо разбирается в цыганских прическах.
Наступившая неловкая пауза заставила их внимательно прислушаться к царящей вокруг тишине. И оба мгновенно повернулись друг к другу: на корме слышался едва уловимый, но отчетливый шум.
– Я, паете, взгляну сбегаю, Август Оттович, – механик надвинул решительным движением фуражку на лоб. – Не извольте беспокоиться.
Он быстрыми шагами удалился, а через несколько секунд раздался его короткий громкий крик, и снова все смолкло. Не ожидая сигнала тревоги, на корму уже спешили матросы: туда же, покинув мостик, бросился и Шмидт. Три черные фигуры, метавшиеся у запасных канатных бухт, были схвачены и в мгновение ока связаны. Целярицкий притащил электрический фонарь, и глазам матросов предстали три низкорослых китайца, которых крепко–накрепко держали дюжие российские матросы. Шмидт обратил внимание: во все время этой молниеносной операции никто, включая и самих пойманных, не проронил ни единого слова. В свете фонаря он увидел лежащего на палубе Рощина. Бросившись первым делом к нему, он выхватил из кармана спички – осветить залитое кровью лицо. Но на плечо помощника опустилась рука боцмана:
– Не надо, Август Оттович! Не зажигайте, а то, неровен час, сгорим к чертовой матери.
Он ткнул пальцем в канаты, а потом поднес его к самому носу помощника капитана: остро запахло керосином…
Китайцев, связав, поставили к мачте и принялись с помощью фонаря осматривать корму. Все канаты и палуба вокруг них были щедро политы керосином, два бидона из-под которого валялись здесь же, в нескольких шагах от борта. Одной искры было достаточно, чтобы на «Ставрополе» начался большой пожар, погасить который оказалось бы делом весьма затруднительным.
– Очевидная попытка поджога, – задумчиво протянул Шмидт, – плохо было бы наше с вами дело…
Прибежавший фельдшер привел в себя Михаила Ивановича, начал бинтовать голову, и помощник бросился к стармеху:
– Бога ради, что они с вами сделали?
Пострадавшего унесли в изолятор, а Шмидт велел посветить за борт – там оказалась небольшая шлюпка, привязанная к якорному канату.
– Спалить, значит, нас хотели? – хмуро спрашивал, ни к кому особенно не обращаясь, кочегар Погорелов. – Вон как делишки-то повернулись… Не выйдет, голубки! – он обернулся к сгрудившимся в темную серую кучу матросам: – А давайте-ка, хлопцы, отправим их за борт. Пусть поглядят, как там на дне крабы зимуют!
И тотчас, грозно зашумев на разные голоса, людская масса двинулась к мачте. Угадав ее намерение, все трое китайцев что-топронзительно закричали на своем языке.
– На дно их, проклятых! – раздались в толпе голоса. – Рыбки спасибо за прокорм скажут! Туда их, братишки!
Шмидт бросился наперерез наступавшим матросам.
– Не сметь! – крикнул он почему-то сорвавшимся на визгливый фальцет голосом. – Приказываю не трогать!
Руки, уже потянувшиеся к пленникам, неохотно опустились, толпа остановилась в ожидании, в котором явственно читался невысказанный вопрос.
– Мы не дикари с острова Борнео, а российские матросы, – подавляя волнение, громко сказал Шмидт. – Мы не будем устраивать самосуд. Эти люди схвачены на месте преступления, они пытались уничтожить судно, принадлежащее другой державе. Они преступники. Но они все-таки люди и потому имеют право на суд, на разбирательство. Мы завтра же передадим их местным властям, пусть они будут осуждены по законам своей страны. А пока… пока развяжите им руки. Боцман!
– Здесь я, – отозвался Москаленко.
– Всех отведите в карцер. Охрану не менее двух человек с оружием. И смотреть в оба!
В карманах китайцев, кроме спичек, ничего не нашли. А спички, между прочим, оказались из запасов самого «Ставрополя»…
– Ну, – толкнул Москаленко того, который был чуть повыше своих сообщников. – Потопали в карцер, ваше узкоглазие. Ужо там и ручки ваши развяжем, – раз начальство приказывает. А с утречка вызовем вашу полицию – и будьте тогда здоровы! Они вам покажут кузькину мать!
Очутившись в карцере и увидев троих подошедших с карабинами в руках матросов, китайцы, не сговариваясь, бросились перед боцманом на колени и принялись самым натуральным образом с воем и причитаниями облизывать его массивные кирзовые ботинки.
– Тьфу, сволочи! – выругался Москаленко. – Гляди, братишки, шкодить умеют, а на расправу вон как жидковаты. Не по-нашему у них получается. Пошли отседова, ну их к дьяволу!
В сутолоке никто не заметил отсутствия капитана и первого помощника. Вернувшись с берега, они еще долго оставались в каюте капитана и теперь появились вместе. Грюнфильд с каким–то растерянным выражением на лице выслушал доклад Шмидта о случившемся происшествии. Стоявший позади капитана Копкевич выразительно хмыкал во время доклада и даже два раза иронически шмыгнул носом. И капитан, никак не комментируя событие, вдруг повернулся к нему:
– Сколько сегодня на термометре?
– Точно не знаю, – недоуменно ответил первый помощник, – но полагаю, что никак не меньше сорока пяти Цельсия.
– Так где же вы, батенька мой, при такой жаре простуду схватили? – с нескрываемой злостью спросил Грюнфильд. И вновь обратив лицо ко второму помощнику, отчеканил:
– Арестованных не забудьте накормить. Организуйте смыв керосина с палубы. Курение на борту до утра и окончательного выяснения обстановки запретить.
И быстрыми шагами удалился в каюту. Шмидт, сощурив глаза, посмотрел ему вслед: от капитана несло спиртным, и он, казалось, даже не слишком твердо держался на ногах. Никогда прежде не видел Шмидт Грюнфильда в подобном состоянии. «Боже правый, как сдал капитан!» – горестно подумал он.
Пора сомнений
Время шло, и стало заметнее, что китайские власти делают все возможное, дабы лишить экипаж «Ставрополя» малейших контактов с берегом.
Как-то, когда под борт русского парохода пытались подойти джонки с местными торговцами, посреди залива объявился юркий полицейский катер, и с него раздался строгий окрик.
Но иногда китайцам все-таки удавалось подогнать ту или иную утлую посудинку к трапу, и тогда моряки за остатки денег покупали какие-нибудь продукты.
А однажды вечером Бинь вдруг пригнал целую «эскадру» плотов с птицей и зеленью. Вышедший на палубу Шмидт стал было отказываться, ссылаясь на то, что платить ему за все это добро уже нечем. Но Бинь, проявивший за последние месяцы удивительные лингвистические способности, только улыбался:
– Моя знает, у вас нету юань. Моя взял гусь все фанза. Китайса сама давай и говоли: «Лусски обизай нет правда, нет холосо»…
Взволнованный Шмидт быстро вытер платком повлажневшие глаза, даже хмурый Копкевич улыбнулся Биню и потрепал его по плечу.
– Как мало надо людям, чтобы жить в мире, – сказал он, ни к кому не обращаясь. – Можно же относиться друг к другу с любовью, с уважением хотя бы. Так нет же – воюют, грызутся, словно волки, словно вепри кровожадные. Вам не кажется, Август Оттович? Даже в нашей бедной стране: большевики и кадеты, всякие эсеры и монархисты… Не слишком ли много для одной многострадальной России?
Шмидт молча наклонил голову и тут же вспомнил, как спасали их от голодной смерти чукчи, сами голодные.
– Да, – ответил он, – кажется, конечно. Вот только не живут в мире, люди-то. А в нашей стране совершается сейчас великий поворот к братству, к жизни, к свету и счастью. Жаль только, что понимают это не все.
– Вы что же, – Копкевич снова нахмурился, – считаете, что Совдепия добьется победы и на Дальнем Востоке?
– А вы считаете иначе? – искренне удивился Шмидт. – Тогда позвольте вас спросить: на кой же ляд мы с вами здесь торчим?
– Надежда юношей питает, – буркнул Копкевич. – Она, знаете ли, изменчива всегда. А мы ведь уже далеко не юноши. А ну как ничего у нас с этим делом не выйдет? Вот и скажут тогда: «А подать сюда Ляпкина-Тяпкина!» А мне не хочется быть Ляпкиным-Тяпкиным и подставлять свою голову под плаху за идеалы, которых я не разделяю. Скажу вам больше, – первый помощник перешел на шепот. – Сегодня я слышал, что дела барона Унгерна в Монголии идут более чем славно. Он принял их веру, и весь Восток его поддерживает. В нем я нисколько не сомневаюсь. Он пообещал им создать великое желтое государство. Помяните мое слово: еще один Чингисхан появился…
– Ничего у него не выйдет, у вашего Чингисхана, – твердо и зло вдруг ответил Шмидт. – А коли боитесь… Вон он – берег! Лаврентьев обрадуется. Волков бояться – в лес не ходить!
Тут только обратили они внимание на все еще стоящего на палубе Биня. Он не мог разобрать быстрой русской речи и, тем более, понять причину спора русских начальников.
– Что есть? – спросил он с убогим видом, ежась от ночного холода в своем рваном одеянии. – Гусь плохой? Бинь сказал не так?
Копкевич махнул рукой:
– Все так, приятель. Все так. Пойдем-ка ко мне, я тебе старый китель свой презентую, смотреть же на тебя холодно.
Счастью Биня, казалось, не было предела: китель Копкевича оказался ему несколько великоват, но зато как смотрелся он на китайце, белый с золотыми нашивками на рукавах!
– Бинь есть богатый, – заторопился он. – Бинь может взять жена!
– А что, – насторожился Август Оттович. – У тебя разве жены нет?
– Бинь нет ничего, – сказал китаец с улыбкой. – Нет юань, нет ничего.
Бинь с довольным видом ощупывал китель, доходивший ему почти что до колен, и лицо его, маленькое и сморщенное, светилось подлинным счастьем.
«Да, и в самом деле, как мало нужно человеку для счастья!» – с горечью подумал Шмидт, спускаясь к себе в каюту. Там его уже поджидали несколько матросов – пришли учиться грамоте. И он, остановившись перед ними, вдруг сказал:
– А вы, товарищи, не сомневайтесь. Пройдет смутное время – и какое бытие вокруг наступит! Пусть другие сомневаются! А вы – не надо. Только… только занятий сегодня не будет. Не сердитесь.
И он ушел, торопливо хлопнув дверью: почему-то до боли хотелось побыть одному. А матросы, удивленные странным, с их точки зрения, поведением второго помощника, остались в некотором оцепенении.
Кто-то даже щелкнул слегка пальцами по горлу:
– А не того… не выпивши ли Восьмой?
«Восьмым месяцем» моряки иногда называли Шмидта за его удивительное имя – Август.
– Ну, глупости, – возразили говорившему. – В рот не берет…
Между тем вести с Дальнего Востока поступали и правда неутешительные: похоже было, что Унгерн действительно набирает силу, толкуя о походе на Иркутск и Читу и даже отпуская кое-где туманные намеки насчет самой Москвы.
И как-то вечером уже капитан пригласил к себе второго помощника. Попросил сесть, налил вина из «представительских» запасов – для встречи всякого рода гостей.
– Вот что, Август Оттович, – несколько смущенно сказал он. – Не находите ли вы, что наше пребывание в Чифу… ну, как вам это сказать? Несколько затягивается, что ли? Вы были инициатором ухода из Владивостока, матросики вас уважают, любят. Не находите ли вы возможным… м-м-м… несколько воспользоваться этим уважением и этой любовью? Ведь они вас даже в свой судовой комитет выбрали…
– Я вас не понимаю, Генрих Иванович, – признался Шмидт. – Совсем не понимаю.
– Ах, батенька мой! Какой же вы, право. Не пришел ли момент, когда надо поговорить с командой о возвращении? Вас послушают, вы у них в чести, доверием пользуетесь. Пошли, в самом деле, к родным пенатам. А повинную голову, как известно, меч не сечет…
– Нет уж, Генрих Иванович, – Шмидт поднялся со стула. – Для меня пенаты, о которых вы изволите говорить, вовсе не родные. Так что я к ним не пойду и вам не советую. Для вашего, подчеркиваю, блага и для блага вверенных вам людей.
Капитан встал, левая щека у него подергивалась:
– Как хотите, милостивый государь. Но позвольте заметить, что вы еще слишком молоды, чтобы давать подобного рода советы!
Шмидт повернулся к выходу, бросив через плечо негромкое:
– Извините.
Но на следующий день он исподволь начал прощупывать настроение моряков, и результатом остался доволен: все на своем стояли крепко, о возвращении во Владивосток никто и слышать не хотел. И Шмидт, мгновенно повеселев, успокоился. Сомнений в правоте принятого решения не было.
Даже сообщенная Грюнфильдом весть о том, что ему вне очереди придется сегодня стоять «собачью вахту» – начиная с четырех утра, – не сбила его радушного настроения. Обычно вахта эта не пользуется у моряков популярностью: прежний вахтенный почти засыпает, новый еще спит. И не случайно мировая статистика по сию пору свидетельствует: большинство несчастных случаев в море происходит именно в часы «собачьих вахт», в предрассветное время. К тому же весь следующий день человек чувствует себя разбитым и усталым. Но что представляет собой какая-то вахта, пусть даже самая трудная, по сравнению с тем, что Шмидт узнал сегодня! И потому он взбежал на мостик с улыбкой. Рулевой, про себя отметив эту улыбку, подумал: «Чудак. Ей-богу, чудак!»
…В те дни произошло и еще одно событие, которое во многом определило судьбу парохода и его команды.
Началось все с болезни Грюнфильда. Сославшись на сильную головную боль, капитан не вышел даже на авральную уборку, поручив исполнение своих обязанностей Копкевичу. Тот хмуро кивнул головой и, надвинув фуражку на самые глаза, направился к кубрику. Трудно сказать, почему именно он решил начать в тот день свою деятельность с такого прозаического и нелюбимого на флоте дела, как досмотр матросских сундучков. Обычно процедуру эту старались делать в присутствии самих матросов, предварительно оповещая их о ней. На сей раз все получилось совершенно иначе. Уже через несколько минут Копкевич вновь появился на верхней палубе, причем фуражка его едва-едва удерживалась на затылке. Он прошагал к капитанской каюте и решительно постучал. Грюнфильд открыл дверь: он и в самом деле выглядел крайне плохо.
– Я же просил, – слабым голосом сказал капитан. – У меня мигрень!
– Мигрень на сей раз, как видно, придется отменить, – усмехнулся первый помощник и бросил на стол небольшую довольно потрепанную книжку. – Вот, лучше полюбуйтесь…
– Что? Что… это? – спросил Грюнфильд, хотя уже и сам видел, какая именно книга лежала перед ним. – Откуда?!
– Это, Генрих Иванович, с вашего позволения, работа господина Ленина «Богатство и нищета в деревне», изданная Ставропольским комитетом социал-демократов, – негромко и почти торжественно сказал Копкевич. – Из сундука кочегара Кожемякина. Вот что творится на нашем с вами, с позволения сказать, судне!
Округлившимися глазами Грюнфильд посмотрел на Копкевича.
– Кожемякина в карцер! – торопливо, словно боясь, что ему не дадут закончить фразу, сказал он. – А вам приказываю провести строжайшее дознание. Раньше у меня был только судовой матросский комитет, а теперь, кажется, завелись и большевики?
– Кажется, – кивнул первый помощник. – И я бы на вашем месте прямо поинтересовался об этом у господина Шмидта…
– Август Оттович, – спросил через несколько минут приглашенного в капитанскую каюту второго помощника Грюнфильд. – Я хочу, чтобы вы ответили мне честно, ничего не скрывая… Мы вдали от родины, неизвестно, какую участь готовит нам судьба. Но я хочу знать, с кем имею дело. Вы большевик?
Шмидт с тонкой улыбкой окинул его с головы до ног, и почти такую же улыбку капитан увидел на губах Копкевича.
– С вашего позволения, – ответил Шмидт. – С одна тысяча девятьсот семнадцатого года. В Одессе вступил.
Капитан кивнул с видом, словно бы ответ этот не был для него неожиданным:
– Что ж, будь по-вашему. В конце концов, это – ваше личное дело. Но… кроме вас, на судне есть еще… лица, состоящие с вами в одной политической партии?
– Есть, – снова ответил помощник.
– Я так и думал, – вмешался в разговор Копкевич. – И боюсь, что факт, о котором только что сообщил нам господин Шмидт, может иметь пагубные последствия для состояния дисциплины на судне.
Капитан тихо опустился в кресло, и в этот самый миг дверь распахнулась сама по себе, без стука. На пороге стояла группа матросов, которых возглавлял Корж. Лица их были суровы и выражали какую-то непонятную Грюнфильду решимость.
– В чем дело, господа? – вскочил он. – Извольте немедленно убраться! – лицо капитана покрылось красными пятнами, левая щека заплясала в нервном тике.
Но предсудкома шагнул вперед:
– Не торопитесь, гражданин капитан. Мы к вам от общества, а не сами по себе. Так вот, судовой комитет постановил отменить решение об аресте Кожемякина. Пришли, чтобы поставить вас об этом в известность.
С минуту по обе стороны порога длилось напряженное молчание. А потом, покраснев сильнее прежнего, Грюнфильд ответил:
– Ясно, господа. Отменили, так отменили, вам виднее. А теперь, – он обернулся к стоящим за спиной, – а теперь я очень прошу всех оставить меня одного. Надеюсь, на это я еще пока имею право?
Капитан Грюнфильд
Тщательно прикрыв и заперев на защелку за собой дверь каюты, Генрих Иванович расстегнул крючки на вороте кителя и как был, в парадном мундире и обуви, повалился на узкую, привинченную к полу матросскую кровать: нервы сдали. Уткнувшись лицом в подушку, он, словно зверь, попавший по собственной глупости в ловушку, зарычал от бессильной ярости. Потом, повернувшись на бок, с силой ударил кулаком в переборку и с удивлением заметил выступившую на суставах пальцев кровь: боли от удара он не почувствовал.
Постепенно на смену ярости пришло какое-то странное полузабытье, покрытое туманом давно прошедшего времени, воспоминания сливались в единое целое с тревожными и горькими мыслями. Он думал о судьбе парохода, вверенного ему Россией, о своем легкомыслии и незрелости. И порою, перекрывая все это, в ушах его снова и снова звучал голос Лаврентьева: «А вот у вас, господа, положеньице… У вас получается нехорошо. Не пойдете же вы через Суэц в красный Питер? Не дойдете. А то бы у вас был шанс отведать крысятинки!..»
Так повелось в жизни, всегда человеку, попавшему в крайне трудное положение, меньше всего хочется думать о неясном будущем, а больше – о приятном прошлом. Потому, наверное, и капитану сейчас вспомнилось вдруг его детство в маленьком кавказском городке Пятигорске, насчитывавшем около тридцати тысяч мещан да обывателей. И память услужливо подсунула ему сейчас не видимые для других картины волшебного фонаря с панорамами городка.
Вот он, этот чистенький маленький домик на Николаевской – их скромное обиталище. Домик принадлежит отцу, обрусевшему немцу, мелкому заурядному торговцу, содержателю лавочки, на которой выведены непонятные для маленького Генриха слова –«Колониальные товары».
На самом же деле ничего «колониального» в лавочке не было и в помине – пахло хозяйственным мылом, дешевой селедкой, отчасти уже задохнувшейся убоиной. С тех самых пор, как умерла жена – мать Генриха – отец больше не женился, воспитывал сына один. И все надеялся: станет сын взрослым, двинет вперед его торговое дело, сумеет основать фирму не хуже, чем у знаменитого московского магазинщика Елисеева, и над главной конторой будут сиять позолоченные метровые буквы: «И. и Г. Грюнфильды и К⁰».
Так нигде и не появилась эта надпись. Зато появился со временем под луной курсант Ростовской мореходки Герка Грюнфильд, который через двадцать лет тяжелой флотской службы сделался, наконец, капитаном «Ставрополя».
Верстах в восьмидесяти от Пятигорска в Белой Мечети, у старшего Грюнфильда жил брат, к которому и направлял каждое лето на отдых своего сына мечтательный вдовый торговец. Брат этот имел в станице, на центральной заросшей бурьяном, площади, крохотную аптеку и занимался врачеванием.
Потихоньку дядя Христиан приучил к своему аптекарскому делу и племянника, довольно быстро научив его отличать по виду и действию касторку от капель датского короля.
– Не знаю, Генрих, – смеялся он, – не знаю, конечно, какой такой из тебя выйдет торговец, но вот аптекарем работать ты вполне даже умеешь!
В те далекие годы Герка – так звали его станичные мальчишки – вовсе не задумывался, разумеется, о своей дальнейшей карьере. Ему одинаково претили запахи селедки с мылом и касторки с каплями датского короля. Потому, наверное, редко удавалось дяде удерживать внимание племянника долее нескольких минут. Но однажды Христиан вдруг, вспомнив свою молодость, заговорил о времени службы судовым врачом на «Наварине». Его рассказы о моряках, о неведомых морях, бурях и шквалах потрясли воображение мальчика. Он требовал от дяди новых и новых подробностей, выслушивая их с постоянно разгорающимся любопытством и восхищенными глазами.
Когда отец приехал в Белую Мечеть забирать его в очередной раз, дядя почему-то с грустью посмотрел на брата, похлопав племянника по плечу:
– Придется нам с тобой, дорогой Иоганн, других преемников своему делу поискать. Не будет он ни торговцем, ни врачевателем.
– Кем же он будет? – удивился отец.
И Христиан очень серьезно и даже отчасти торжественно ответил брату:
– Помяни мое слово, брат Иоганн! Генрих не будет никем на свете, он будет только моряком!
Из окна дядюшкиного дома была видна заросшая лебедой центральная станичная площадь, три молодых тополя возле здания школы. И они, казалось, кивали в тот момент не под ветром, а по согласию с дядюшкиными словами.
Так и случилось. Он стал не только и не просто моряком, но полноправным хозяином одного из лучших судов Российского Добровольного флота. Он считался хорошим капитаном, да и сам, признаться, считал себя таковым. И всегда знал: капитан головой отвечает за судно и за жизни тех, кто на нем находится. Гибнет судно – капитан гибнет вместе с ним, он обязан погибнуть вместе с ним, гордо и прямо стоя на мостике. На то он и капитан. И пусть не будет рая на том свете, пусть не будет вечного успокоения души тому капитану, который осмелится покинуть в беде своих людей, свое судно, который выше их поставит свою собственную никчемную жизнь…
Поднявшись с постели, Грюнфильд до самого рассвета, часа три, метался по тесной каюте от одной переборки к другой. Он понимал: именно сегодня он обязан принять решение, которое должно определить дальнейшую судьбу «Ставрополя» и его экипажа. Разговор с Лаврентьевым, известие об утверждении белых на Дальнем Востоке, большевики на судне, – все это подействовало на него самым угнетающих образом. К тому же он давно обратил внимание на то, что портовая полиция начала без всякого стеснения регулярно заворачивать к берегу джонки китайцев, пытавшихся, как и раньше, доставлять на борт «Ставрополя» провизию и воду в обмен на спички и мыло. Вчера он умышленно не стал говорить об этом Цзяну: хотелось убедиться самому в неправомерности действий местных властей по отношению к русским.
Сейчас все это переросло в абсолютную уверенность в том, что их намерены заморить голодом, уничтожить физически. Китайцы, видимо, начали всерьез опасаться конфликта с меркуловцами – те могли предъявить счет, в связи со своим упрочением, за оказанный, хоть и невольно, приют русскому мятежному судну.
За надраенным до желтого блеска кольцом иллюминатора уже давно серело, а капитан все ходил от переборки к переборке, не в силах принять никакого окончательного решения. Он понимал: нельзя сегодня показываться на люди, не имея своего твердого мнения о вчерашних событиях. И зачем только пошел он на поводу у команды, зачем снялся несколько месяцев назад с владивостокского рейда? Мысль о том, что, как явствовало из перехваченной радиограммы, примеру «Ставрополя» последовал «Кишинев», не только не облегчала страданий, но, наоборот, усугубляла их. Генрих Иванович понимал: не сделай подобной глупости в свое время он – ее не сделали бы и другие. Значит, именно он поставил под удар не только себя и свой экипаж, но и капитана и экипаж еще одного парохода Доброфлота.
Застонав на своей койке словно от приступа острой зубной боли, Грюнфильд повернулся на спину, закрыл глаза. И вдруг у него мелькнула мысль ясная и простая, как дважды два – четыре. Несмотря на всю ее тягость, Генрих Иванович даже вздохнул от облегчения: да, это был единственно возможный выход из создавшегося положения! Он один во всем виновен, ему одному и отвечать за свои действия. Надо поднимать пары, сниматься с якоря и все-таки возвращаться во Владивосток с покаянием, взяв на себя вину за побег. Повинную голову меч не сечет. Ну, а коли и отсечет, то и тут сомневаться не приходится: капитан – единоначальник на судне, команда просто выполняла его указания. Ценою одной его жизни есть еще возможность спасти десятки жизней других людей… Вот он, единственно возможный выход!
Грюнфильд встал, застегнул крючки воротника: уже утро. Взглянул в зеркало: подчиненные не должны видеть и следа растерянности на лице начальника, иначе они просто перестанут ему доверять. Остановившись перед порогом каюты, он набрал полную грудь воздуха и собрался уже выйти на палубу, как произошло нечто, совершенно не входившее в его планы. В дверь сильно застучали, и, услышав торопливый ответ капитана, голос подвахтенного Якобсона с нескрываемым ликованьем прокричал:
– Генрих Иванович! Скорее к нам!
– Да что еще случилось? – побледнел было Грюнфильд, появившись перед матросом.
– На рейд «Кишинев» пришел! – прокричал Якобсон. – Уже и якорь, черти полосатые, отдали! Смотрите, смотрите же!
Генрих Иванович, ощутив вдруг неприятную дрожь в ногах и ничего не ответив гонцу, поднялся на мостик.
Черная смерть
Едва только Грюнфильд отдал команду спустить шлюпку, чтобы немедленно нанести визит своему старинному приятелю, капитану «Кишинева» Генриху Мартыновичу Гросбергу, как раздался голос вахтенного:
– На «Кишиневе» сигнальщик!
Генрих Иванович поднес к глазам бинокль: сигнальщик на корме «Кишинева», подняв кверху вытянутые руки с флажками, описывал ими широкие полуокружности: «Внимание!», «Внимание!». А затем начал быстро передавать с помощью семафорной азбуки какое–то длинное сообщение. Из букв складывались слоги, из слогов – слова, из слов – предложения. И их страшный смысл капитан «Ставрополя» даже не осознал сразу до конца.
«На борту – вспышка легочной чумы, – передавал сигнальщик. – После смерти пассажира-китайца, следовавшего с нами после долгой стоянки из Хакодате, умерло еще девять матросов и механик. Просим до окончания карантина не поддерживать с нами никаких непосредственных контактов. Подписал Гросберг».
Опустив бинокль, Генрих Иванович долго стоял в оцепенении. Сначала ему показалось, что он как-то не так прочитал переданное, но, увидев перед собой перекошенное от ужаса лицо вахтенного, понял: нет, все прочитано верно. И тогда, побледнев, он понял: во всем, что происходит с ними, – злой рок судьбы, перст божий. Их, ослушников, поправших свой долг перед Россией-матерью, карает сама жизнь. И карает жестоко, безжалостно, бьет больно, наотмашь. Генрих Иванович был старым моряком, и слышал много раз, что означает на судне это страшное слово – «чума». Но столкнуться с черной смертью так близко… Нет, этого ему никогда раньше не приходилось, и в мыслях не было увидеть ее столь близко!
«Кишинев» тем временем окружили, а потом, словно по щучьему веленью, мгновенно отхлынули от него прочь китайские джонки. А потом им на смену, тяжело чихая двигателем, направился большой и неуклюжий катер санитарной службы.
– И как это они не боятся туда идти? – спросил Грюнфильд, обращаясь к пустому месту вокруг. Но пустота ответила голосом второго помощника:
– Вы что-то слишком взволнованы, Генрих Иванович! Чума не так страшна, как это нам кажется. Существует так называемая хафкинская предохранительная прививка. Ее делают всем тем, кто имеет соприкосновение с пораженными болезнью. Кстати говоря, в прошлом году лично мне ее делали, и даже дважды. Так что я вполне могу сгонять на «Кишинев». С вашего позволения, конечно.
– Ни в коем случае! – резко и торопливо возразил Грюнфильд. – Только этого удовольствия нам еще недоставало!
– Но, господин капитан, прививка эта, доложу я вам, готовится медиками из убитой культуры чумных бацилл. Она абсолютно надежна.
Бледное доселе лицо капитана покрылось красными пятнами гнева. Оно как–то странно задергалось, и он крикнул вибрирующим голосом так, что даже матросы снизу начали оглядываться на мостик:
– Извольте! Извольте молчать, милостивый государь! И! Потрудитесь больше не предлагать мне подобных глупостей! Чтобы у меня сей же час!.. Соберите совещание.
Он быстро сбежал вниз по трапу и скрылся в своей каюте.
– Подвахтенный, – как ни в чем не бывало распорядился Шмидт. – Первого помощника, механика, председателя судкома и боцмана – к капитану немедленно.
…Когда все вошли, Грюнфильд уже сумел взять себя в руки. Он, окинув взглядом собравшихся, начал негромко, но с некоторой долей торжественности в голосе:
– Я пригласил вас, господа, с той целью, чтобы сообщить вам, что не спал всю минувшую ночь. Да, да! Не удивляйтесь, пожалуйста, без нужды бессонницей я пока не страдаю. Но судьба нашего парохода и людей приводит меня в трепет и лишает сна!
Капитан говорил долго, стараясь как можно убедительнее и аргументированнее изложить свои сомнения и трудности, которые, взятые вместе, должны привести и приведут команду «Ставрополя» к неминуемой гибели.
– А посему, – голос капитана зазвенел, – а посему, господа, я принял решение поднять незамедлительно пары и воротиться во Владивосток, – закончил он. – Как капитан гарантирую всем вам вполне благополучное возвращение. И заявляю, опять же как капитан, что всю меру ответственности за наш опрометчивый и, скажем прямо, достаточно неразумный шаг я принимаю на одного только себя. Я не намерен прятаться за спинами других во время ответа и смею надеяться, что это само по себе смягчит участь всех остальных членов экипажа.
Наступила долгая, напряженная тишина. Все понимали: в случае окончательного упрочения на Дальнем Востоке меркуловщины рассчитывать им ровным счетом не на что. «Как проверить, как уточнить сообщение, полученное Лаврентьевым? – мучительно соображал Шмидт. – Неужели же все в нем – правда?! Нужно развеять у матросов малейшие сомнения по этому поводу… Но как?»
– У нас нет никаких оснований не доверять господину Лаврентьеву, – тихо сказал Грюнфильд, буквально прочитав мысли своего второго помощника. – Этот человек всегда относился и относится к нам с открытым сердцем! Отчасти ему мы обязаны самим фактом своего существования до сих пор. Одним словом, – он окинул взглядом всех сидящих снова, – хватит отмалчиваться. Прошу высказываться. Первый помощник!
Копкевич встал. На гладко выбритом, как всегда, лице его не было и тени колебания.
– Я не хотел бы напоминать своим коллегам о том, что капитан – бог на судне, и его приказы обсуждению не подлежат, – твердо сказал он. – Но, уж коли сей бог считает необходимым знать по данному поводу мое мнение, отвечу. Я согласен с каждым словом, которое произнес сейчас господин Грюнфильд. Думаю, что даже господа большевики согласятся с ними. Заявляю также, что ответственность вместе с капитаном должны разделить и его помощники. Первый из них – я.
Копкевич сел, и Генрих Иванович не удержался – подойдя к нему, крепко пожал руку.
– Достойный мой друг, но не надо лишних жертв! – взволнованно сказал он.
Теперь все взгляды устремились на Шмидта – его черед, черед второго помощника. Он встал – невысокий, собранный, несколько даже щеголеватый. И заговорил непривычно громко, резко отделяя одну фразу от другой.
– Я не боюсь ответственности, господа Грюнфильд и Копкевич, – выдохнул он. – Совсем не боюсь. Но все же возвращение во Владивосток считаю шагом куда более безрассудным, нежели побег из него. Нет сомнения, что всех нас после этого немедленно вздернут для устрашения других на главной площади. Но главное, доложу я вам, даже не в этом. Главное заключается в том, что белой гвардии все равно не устоять на Дальнем Востоке, не закрепиться. А касательно решения Ленина – это вздор чистейшей воды, господа! Не таков человек Ленин, чтобы останавливаться на полпути, не дойдя шага до цели. Я лично твердо убежден в этом. Ленин и его партия устоят под любыми ветрами истории. И напрасно радуется кое-кто, что «народный вождь» Антонов разбойничает на Тамбовщине. Говорю вам твердо, со всей ответственностью: сей «антонов огонь» будет скоро погашен. Победа большевиков неизбежна! А коли это так, то все прошедшие и даже предстоящие трудности кажутся мне не такими уж и страшными. Голод? Что ж, голодает вся Россия, и мы с вами как-нибудь не умрем. Провокации, попытка поджога? Будем бдительны! Эскадра его превосходительства адмирала Старка? Но ведь не станут же благовоспитанные англичане стрелять из орудий в безоружное невоенное судно!
Август Оттович на мгновение смолк, а затем так же резко закончил:
– Я за то, чтобы оставаться в Чифу и дальше. Судно должно быть передано после стольких страданий и мытарств российскому народу, а не выродкам российским. Таково мое мнение, господа!
– Ну, а это уж, батенька мой, откровенная глупость, дозвольте вам сообщить! – взорвался капитан. – Да-с, милостивый государь, глупость, да еще какая!
– Давайте решим вопрос голосованием, – совершенно спокойно сказал Копкевич. – Коли ныне капитанского приказа недостаточно, коли демократия уже не дает покоя неким лицам и на флоте, давайте голосовать. Нас шестеро, поэтому без мнения боцмана предлагаю обойтись. Итак?
Руки поднялись: оказалось две и три. Против мнения капитана голосовало большинство…
Вечером председатель судового комитета Корж собрал общее собрание. Неторопливо доложил обстановку, выслушал мнения. И когда приступили к голосованию, Грюнфильд с ужасом увидел нечто совершенно необъяснимое: его мнение во всей команде разделил только его первый помощник! Да и тот, скорее всего, поступил так, руководствуясь привычкой к дисциплине и строгими соображениями субординации… Люди не верят ему как капитану! Не верят все – от второго помощника до буфетчика! И разве имеет он моральное право командовать ими при таких обстоятельствах? Сентиментальная немецкая душа Грюнфильда рыдала и металась в груди. Жизнь казалась ему в этот момент если не оконченной вовсе, то, во всяком случае, утратившей всякий смысл. Ссутулив плечи, он молча, вышел из кубрика.











