Читать онлайн За солёными туманами
- Автор: Мария Калюжная
- Жанр: Легкая проза, Современная русская литература
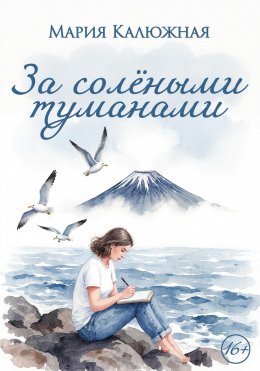
Вместо предисловия
Время – ресурс странный. Казалось бы, только недавно мы были детьми, бегали по школьным коридорам, слонялись без дела с наслаждением после уроков, влюблялись, мечтали, строили планы… И вдруг начинаешь осознавать, что было это уже несколько десятилетий назад, «в прошлом веке», а твоя школьная форма – экспонат школьного музея.
«Союз нерушимый республик свободных…» – слова, которые навсегда засели в подкорке выросших в СССР и тихонько звучат из глубины души параллельно с современными словами музыкального символа России.
Все чаще сжимается сердце от безвременного ухода мальчишек и девчонок, улыбающихся со старых черно-белых фотографий школьного альбома.
Растворилась в прошлом целая эпоха, навсегда исчезла большая стабильная «нерушимая» страна, но есть еще теплые редкие встречи с теми, кто знал тебя открытым, беззаботным, беспечным…
Эх, только бы не потерять возможность остановиться в скоротечной жизни, не утратить желание общаться, сохранить оставшуюся детскость, позволить себе хотя бы ненадолго вернуться туда, где было уютно и безопасно, где родители были молодыми, хлеб – дешевым, конфеты – натуральными, а мечты обязательно сбывались.
Воспоминания маленькой девочки, родившейся и выросшей в небольшом военном гарнизоне на Камчатке, переплетаются с деталями советской жизни. Отдельные, казалось бы, не связанные между собой сюжеты, как модули общей мозаики постепенно складываются в общую картину становления личности.
Есть произведения, которые читают запоем, увлекаясь сюжетом, пытаясь приблизить развязку. Есть другие: неспешное чтение, погружение в воспоминания, желание обсудить прочитанное. Это произведение именно такое. Иногда возможность остановиться важнее достижения результата…
С любовью к моим родителям, благодарностью к одноклассникам и с уважением к тому времени, которое сделало нас такими, какие мы есть, написана эта книга.
Глава 1. Про детский сад и «воспитание зайцем»
В воздухе пахло холодными арбузами и хрустящими льдинками. Взлохмаченные воробьи толкались и брызгались в мелких лужицах. Анечка подставила носик ободранного ботиночка под капающую сосульку. Капли отскакивали в стороны на кружево блестящих льдинок, покрывающих жесткой коркой потемневший снег. Весна. Теперь совсем недолго до встречи с бабушкой. Еще немножко подождать.
Лето у бабушки наступает рано, а здесь… Но родители его не ждали, а просто покупали билеты и каждый год в июне летели в лето. Дальний Восток: наверное, он называется «дальний» потому, что далеко от бабушки. Не то чтобы ей здесь не нравилось. Она просто не думала об этом в своем глубоко «добальзаковском» возрасте.
– Дети, собираемся! Встали парами, идем на обед! – громко объявила воспитательница. Анечка захрустела по блестящим льдинкам к своей паре.
В группе стоял запах горячего горохового супа, картофельной пюрешки, компота и предстоящего двухчасового дневного сна. Дети стягивали мокрые варежки, соединенные между собой длинной растянутой резинкой, черные кроличьи шапки, пытались поставить ровно сапожки и ботиночки, впихивали в узкие шкафчики объемные мутоновые шубки и, заплетаясь в цветных хлопковых колготках, бежали мыть красные от холодного снега ладошки.
– Какая она красивая, эта Леночка! – подумала Аня. Леночка, девочка с широко поставленными светло-карими глазами и крупным носом, действительно считалась по детсадовским меркам красивой. Она каждый день приходила в белых колготах и блестящих туфельках, с красивым ажурным бантом в густых русых волосах, была вежливой и, судя по тому, что колготки оставались белыми до конца детсадовского рабочего дня, очень аккуратной. Вокруг Леночки всегда толпились дети. О чем они говорили, Анечка не знала, а подойти и послушать и уж тем более предложить дружить боялась. Она вообще любила сидеть на жестком деревянном стульчике, украшенном ягодками или грибочками, и, уткнувшись носом в пушистый искусственный мех большого медведя, наблюдать за детьми.
Однажды, когда мама привела ее в группу первый раз после целого года у бабушки, воспитатель позвонила родителям на работу и предложила забрать Анечку, которая сидела в обнимку с медведем и отказывалась от игрушек, обеда и всяческих педагогических ухищрений.
– Ты почему ни с кем не познакомилась? Почему не ела? Воспитателя не слушала? – учинила дочери дома допрос Аллочка.
– Я думала, вы меня оставили и уехали к бабушке, – сказала Аня.
– Мы же на работу ходим! Завтра опять в садик пойдешь, – пояснила мама. Анечка поняла безысходность ситуации, осознала, вздохнула и, поскольку разговор не предполагал развиваться дальше, поплелась смотреть в окно.
На следующий день Леночка, держа за длинные пушистые уши зайца, подошла к Ане. «Вот, мы уезжаем, возьми его. Мама разрешила подарить игрушки детям», – сказала девочка, протягивая зайца Ане. Сердце Анечки сжалось, худое тельце как-то отвердело… Странный чужой голос из этого тельца выдавил «спасибо». Лена улыбнулась и добавила: «Точно можно, бери!». Она развернулась и пошла раздавать другие игрушки. Анечка по своему небольшому опыту и по разговорам взрослых точно знала, что тот, кто уезжал с Камчатки, уезжал навсегда и больше не появлялся. До знакомых доходили слухи о том, кто и как устроился, иногда люди ездили к уехавшим в гости, но обратно уехавшие точно не возвращались. Письма шли долго, заказывать переговоры на почте вечно не было времени, постепенно стирались из памяти лица, забывались имена, жизнь продолжалась без них.
Анечка сжала зайца. Как жалко! Леночка больше не будет ходить к ним в группу, а значит ничего интересного в садиковской жизни больше не будет… Единственное воспоминание – заяц. Его можно везде брать с собой, а значит, помнить Леночку.
Вечером за Аней пришел папа. При папе можно было не молчать, не слушать «то, что тебе говорят», а просто быть обычной девочкой. Папа Коля, не смотря на заботу и неподдельный интерес к тому, что происходило в садике, все же обладал всеми признаками детсадовского папы и не очень-то обратил внимание на зайца, который тоже пошел с ними домой. Зато мама…
Вопрос о зайце возник сразу, как только заяц переступил порог однокомнатной квартиры. «Да пусть оставит его! Девочка же уезжает, ей не нужно», – уговаривал Аллочку Коля. Мнение Коли для Аллочки решительно не играло роли. Не смотря на свое высшее образование и уважение на работе, домашний Коля мог говорить все, что угодно, но авторитет его как-то съеживался, затихал и в результате впадал в анабиоз перед любимой супругой. «Нельзя брать чужое!» – твердо заявила Аллочка, оделась и вытолкала Аню в подъезд.
Аллочка держала за руку Аню, Анечка – зайца, заяц пытался зацепиться лапой за всё, что попадалось на земле: камешки, фантики от конфет, льдинки. Так втроем они дошли до квартиры, где жила Леночка. В коридоре у Леночки был полумрак, стояли приготовленные к отправке большие коробки, валялись вперемежку детские и взрослые ботинки и тапочки, пахло суетой. Люди, как было принято говорить, «сидели на чемоданах». Несколько минут, пока мамы доказывали друг другу, что «зайца – я – разрешила – подарить» и «не – надо – у нас есть – игрушки – спасибо – и что-то – там – еще – какие-то – доводы», Анечка исподлобья смотрела на Леночку. Та в домашней обстановке вовсе и не была хороша: тоненькие длинные ножки с узелками коленочек, дырявые затертые тапочки, ситцевый бледный халатик. А зайца жаль. Он по-прежнему был хорош…
«И не бери больше ничего ни у кого!» – грозно выговаривала Алла, когда они возвращались домой. Анечка хотела спросить, почему, но Алла так тащила ее за руку, что хотелось повиснуть как тот заяц несколько минут назад и цепляться за камешки, фантики и льдинки…
Через много лет уже взрослая самодостаточная Анна никак не могла отделаться от мысли, что она до сих пор не такая-то и умная, раз не может объяснить, почему мама не разрешила ей взять того, будь он неладен, зайца.
Спросить у Аллы об этом она считала бесполезным – взрослые часто забывают то, что для ребенка считалось целым событием. Вероятно, Алла решила, что Аня взяла этого зайца без спроса, но, убедившись, что это не так, признать свою ошибку не смогла. То, что взрослые не ошибаются – иллюзия, с которой расстаешься с годами…
Аллочка была обычным «продуктом» своего времени, Аня – ребенком этого «продукта», который воспитывался общепринятыми инструментами. Вот только все вырастали разными. Жизнь – уникальный мастер, который и с примитивными инструментами может получать разные результаты…
Глава 2. Про игрушки, мороженое и туалетную бумагу
Игрушек у Анечки было немного и большинство из самого безвредного и популярного в то время материала – пластмассы. Разноцветные кубики, собака с коричневым ухом, большой советский пупс, которого Алла почему-то называла «Саша», кремового цвета «Волга», небольшая кукла Галя, желтый, побитый жизнью, выцветший лев…
Саша всячески сопротивлялся, когда Аня пыталась завернуть его в «кулечек» и представить, что это настоящий малыш: торчащие конечности и растопыренные пальчики делали его похожим на морскую звезду. «Волга» очень нравилась Алле. Возможно, она представляла, что когда-нибудь у нее будет автомобиль. «Белый Бим черное ухо», как называл пластмассового пса Коля, вызывал у Ани небольшое подозрение. Ухо было явно коричневого цвета, и видимо, пес немного стеснялся прилепившейся к нему клички, всячески намекая выпученными глазами на цветовое несоответствие. Лев, кубики и лохматая Галя иногда могли скрасить убогость игрушечного советского мира, но особо не котировались.
Был еще медведь. Звали его просто Миша. Кто и когда его купил, Аня не помнила. По ее меркам он был всегда: большой, лохматый, желтый, с янтарными глазами и тяжелым, набитым опилками телом. Миша покряхтывал, когда его брали в руки, и издавал протяжный низкий рык, когда кто-нибудь переваливал его с боку на бок. Медведь был импортным, немецким, но в силу долгого пребывания в советском магазине приобрел черты советского гражданина: умел выслушивать, понимать и поддерживать в трудную минуту. Делал он это молча, а умные грустные глаза придавали морде сочувствующее и понимающее выражение. Спать с ним было неудобно, однако ему вполне можно было доверить перед сном все детские тайны. Наверное, у каждого в детстве должен быть такой «медведь» …
Игрушечного магазина в поселке не было, а игрушки продавались как сопутствующие товары в универмаге и книжном магазине. Аня даже не представляла, что бывают магазины, в которых игрушек так много, что они едва помещаются на полках, а в магазине так просто заблудиться.
Однажды она оказалась с родителями в московском «Детском мире». В Деда мороза Аня почему-то не верила, а может, просто не помнила, что верила раньше. Но тут поняла: чудо все-же есть!
Увидеть, что продается за плотно стоящими телами живой очереди, конечно, возможности не было, но вот часы! Огромная бревенчатая избушка с резной крышей и ажурным забором, веселые деревянные человечки, устраивающие целое представление на парапете, желтое солнышко-циферблат, открывающее медленно глаза, а еще… Открывающиеся дверки, из которых вдруг выскакивала кукушка! Заиграла музыка, забили детскомировские куранты и нижняя челюсть Анечки медленно поползла вниз.
«Пойдем. Здесь народу много!» – сказала Алла и выдернула из этого чуда ошарашенную Анечку. «Коля, отведи ее, пусть подождет у магазина», – сказала она, передавая ему вмиг возвратившуюся в себя дочь. Анечку посадили на широкую бетонную плиту, окружающую вход в подземный переход, и приказали не уходить, а ждать. И она ждала. Просто сидела на жаре и смотрела на людей. И совсем не было скучно.
Обтягивающие футболки и рубашки с закатанными на три четверти рукавами, пестревшие надписями на непонятных языках, мини-юбки, заканчивающиеся слишком высоко от круглых советских коленок, клеши, позвякивающие металлическими монетками, приталенные яркие батники и подчеркивающие силуэт коротенькие платьица… Какие-то перышки и ленточки в волосах, желтовато-блондинистые волосы, не нуждающиеся в дополнительных деталях, «пажи», «гавроши» и «сэссуны», стильные конские хвосты, крупные волнобразные локоны … Все это превращалось в веселую удивительную мозаику – подвижную, постоянно меняющуюся в душном горячем июньском воздухе.
Тяжело ступая, прошла дородная счастливая женщина, обвешенная гирляндами из рулонов туалетной бумаги. Дефицит! В то время конкуренцию серым плотным «туалетным» рулонам составляла простая советская газета, что порождало много анекдотов:
– Доктор, у меня там что-то шуршит!
– Пациент, да у Вас там газета!
– Правда?
– Да нет, «Известия»!
Шутили, что СССР – самая читающая страна в мире из-за нехватки туалетной бумаги и что, когда американские военные отправляются на войну, за ними едет грузовик с туалетной бумагой. В СССР «туалетную мечту» делали из обычной древесины, а идея делать ее из переработанного сырья пришла гораздо позже. Несмотря на все недостатки туалетного «чуда», люди были по-настоящему счастливы, когда им удавалось отстоять очередь и получить по пять – восемь рулонов в одни руки. Остальные же продолжали пользоваться печатными изданиями, разрезая их на кусочки или отрывая и теребя для мягкости в руках. Характерное шуршание из туалета означало, что статья прочитана и процесс подходил к завершению…
Анечка увидела Колю, который возвращался из магазина, а рядом с ним – стайку удивительных темнокожих веселых девчонок с сотней тонких черных косичек! «Иностранцы. Из Африки, – сказал Коля, – ты маму не видела?» Анечка сказала, что не видела, и Коля ушел ее искать. Потом приходила мама, опять папа и опять мама… Да, выйти из «Детского мира» было можно, а вот найти друг друга внутри, если не договориться о месте встречи, сложно.
Наступил вечер, родители наконец-то обрели друг друга, довольно вручили Ане небольшую немецкую куклу и, подхватив коробки и пакеты из плотной коричневой упаковочной бумаги, которая теперь гордо называется «крафтовой», пошли к ближайшему уличному автомату с газированной водой. Сироп из сахара, лимонного сока или травяного экстракта: сплошной советский ГОСТ за три копейки, непреодолимое желание советских детей и взрослых, а уж камчатских детей, где автоматы с газированной водой так и не появились, тем более.
Нещадно эксплуатируемый граненый стакан, очередной раз искупавшийся в фонтанчике автомата, был наполнен фыркающей пенящейся жидкостью и вручен Ане. Сильная жара и приторно-сладкий вкус сделали свое дело: ребенок не смог допить жидкость до конца. Алле это не понравилось. Ей нравилось, когда все любили то, что нравится ей. Поручив «допивание» Коле, она обратила взор своих бесподобно красивых глаз на киоск с мороженым.
Советское мороженое… Пломбир в хрустящем вафельном стаканчике, сливочное с масляной кремовой розочкой, фруктово-ягодное, «Ленинградское», вафельный рожок, «Морозко», молочное, «Крем-брюлле» и верх искусства – аж за 28 копеек – эскимо «Каштан» в шоколадной нерассыпающейся глазури!
Дальний Восток, где Аня находилась с самого рождения, научил ее любить копченую кету, котлеты из горбуши и вкусную нехлорированную чистую воду из-под крана. Невиданное разнообразие мороженных изысков ввело ее в ступор, она с опаской посмотрела на Аллу и… выбрала, как ей казалось, самое вкусное: мороженое с веселой красной помидоркой в картонном стаканчике и налепленным сверху бумажным кружочком, информировавшим о ГОСТе и производителе.
– Вот еще! Фу! – охарактеризовала выбор дочери Аллочка и вручила ей шоколадную «Лакомку», обсыпанную вафельными крошками. Такое же чудо было приобретено для самой Аллы и верного пажа Коли. Шедевр был завернут в бумагу-трубочку, есть было неудобно. Мороженое капало с двух сторон, липло к пальцам и норовило попасть на платье. Аня опять не оправдала ожиданий и отдала остатки маме. Остатки были перенаправлены в Колин рот.
Дневная жара постепенно превращалась в тягучее медленное тепло, семья спустилась в метро. Неповторимый ароматный ветер московского метрополитена, впитавший в себя запахи пропитанных креозотом деревянных шпал и металлической пыли вентиляционных каналов, обдувал торопящихся советских граждан. Семья загрузилась в вагон электропоезда и полетела на ночлег к бывшим камчадалам, обосновавшимся в столице.
Несмотря на отсутствие сотовых и порой даже дисковых домашних телефонов, а также сложности с дозвоном в другой город – приходилось идти на переговорный пункт и ждать, когда телефонистка соединит с нужным абонентом, – дальневосточники все же добивались поставленной цели. В преддверии отпуска они находили заветные номера телефонов через друзей или знакомых и дозванивались до «бывших», проживающих ныне в городах, куда прилетали самолеты с Камчатки: в Москву или Ленинград.
Пахнущие рыбой и долгим перелетом, счастливые в связи с наступившим отпуском камчадалы вваливались в квартиры уставших от городской суеты и ранних подъемов на работу «материковцев». Угощали икрой и рыбой, вспоминали всю ночь совместно прожитые годы, рассказывали о том, как живут на Камчатке друзья или родственники столичных знакомых.
К утру замученные хозяева квартиры плелись в спальню, чтобы вздремнуть и через пару часов подняться на работу, а возбужденные камчадалы, поспав чуть дольше, поднимались в предвкушении исследования столицы. Девятичасовая разница во времени никак не мешала их позитивному настрою, а энергии хватало на стояние в очередях по несколько часов. И еще непременно Красная площадь, Мавзолей, музеи и театры, прогулки по шумным московским улицам.
Вечерами обсуждались покупки и экскурсии, а уставшие от бесконечных дальневосточных гостей москвичи неподдельно удивлялись тому, сколько мест можно посетить за один рабочий день. Осторожно спрашивали, удалось ли гостям приобрести билеты для продолжения отпуска в других городах необъятной Родины и, получив утвердительный ответ, облегченно вздыхали.
Так проходило около недели, после которой хозяева, накрыв перед расставанием праздничный стол, искренне радовались отъезду гостей и рассказывали о секретном месте для ключа от квартиры, если гости уезжали позже, чем хозяева уходили на работу.
Ключ следовало положить под коврик у двери или бросить в почтовый ящик. Каждый в СССР знал, что в этих местах действительно при необходимости иногда оставляли ключи. Знали это и представители воровского мира, но заглядывать под коврик каждой советской квартиры не было необходимости, ведь большинство советских граждан имело одинаковый уровень жизни, одинаковую мебель и похожую жизнь.
Аллочка, Коля и Аня, перетащив через порог сумки и пакеты, счастливые и уставшие вползли в московскую квартиру. Хозяева встретили их с улыбкой. И почему-то Аня вспомнила фразу из книжки про Винни-Пуха: «А что подумал по этому поводу Кролик, никто так и не узнал, потому что Кролик был очень воспитанный».
Глава 3. Про Первое мая, праздничный стол и чудо-фломастеры
Первомайская демонстрация! К ней в советское время начинали готовится почти за месяц: оставались после работы, рисовали агитационные плакаты, делали разноцветные цветы из яркой гофрированной бумаги, приводили в порядок флаги, выводили белой краской на алой ткани транспарантов патриотические лозунги, очищали от накопившейся пыли портреты вождей мирового пролетариата и членов Политбюро…
Детям нравился этот праздник за красочность, веселье и воздушные шарики, подросткам – за возможность пошутить и потусоваться до, во время и после демонстрации, взрослым – по разным причинам. Некоторым все это нравилось не очень, но об этом говорить было не принято.
Рано утром Алла завязала Анечке два банта, выдала нарядное платье и белые колготки. Коля надул три больших воздушных шарика и привязал их к тонкой деревянной палочке. Он считал, что так их удобней нести и поднимать, приветствуя очередной вылетающий из громкоговорителя лозунг. Семья выдвинулась к месту сбора представителей будущей колонны – средней школе – месту работы Аллы и Коли.
У школы толпились учителя, завучи и старшеклассники. Кто-то уже держал веточки с бумажными цветами, флажки, шарики, гвоздики. Остальные ждали, когда им выдадут атрибутику для демонстрации безапелляционной борьбы с капитализмом во всем мире. Взяв инициативу в свои руки, Коля повел подростков за этой самой атрибутикой. Приподнятое настроение, шутки, громкие разговоры, какое-то внутреннее волнение – все говорило о готовности поскорей пройти по центральной и единственно широкой улице небольшого военного поселка.
«Мальчики, транспаранты должны быть растянуты, чтобы было видно лозунги! Девочки, после каждого приветствия надо махать цветами и флажками! Построились в колонну по четыре!» – отдавались классными руководителями последние наставления. Через несколько минут нестройная колонна двинулась по намеченному маршруту, чтобы влиться с другими такими же колоннами во всеобщее ликование.
У Коли была особая миссия: запечатлеть процесс на пленку своего фотоаппарата. «Смена 8» заинтересованно выглядывала из коричневого кожаного футляра, выбирая наиболее «патриотичные» кадры: портреты Маркса-Энгельса-Ленина-Гречко-Косыгина-Устинова, лозунги «Да здравствует Первое Мая – День международной солидарности трудящихся!», «Решения… съезда КПСС – в жизнь!». Сидящие на плечах отцов дети с интересом наблюдали за борцами с капитализмом и тоже удостаивались внимания «Смены».
Вокруг царило приподнятое настроение: впереди колонны – трудовик и физкультурник несли эмблему школы, за ними шли учителя с «цветущими» веточками, а дальше – живая веселая цветная масса из учеников, транспарантов, шариков, стягов и шуток. «Вперед, к победе коммунизма! Да здравствует Первое мая! Ура, товарищи!» бодрил колонны трубный голос невидимого диктора. «Ура-а-а-а!» – неслось волной над колоннами, и в это приветствие вливалась вся молодая, неуемная подростковая энергия. Анечка болталась между высоких мальчишеских фигур и тонких, стройных девчачьих ножек, смотрела на них снизу вверх, поднимала палочку с шариками выше и тоже попискивала: «Ура!».
Шествие наконец-то завершилось, и борцы за коммунизм, разбившись на группы, направились на вторую долгожданную часть Первомая: праздничный обед.
– К кому пойдем? – спросила Алла своих подружек-коллег, сгруппировавшихся возле нее после демонстрации.
– Ну, давайте в этом году к нам! – предложила статная, хорошо одетая Мария Васильевна, учитель начальных классов.
– Тогда собираемся и через часик у Вас! – радостно защебетали коллеги и полетели за салатиками и прочими заготовленными заранее вкусностями.
Традиции нарушать нельзя! Все знали, что после демонстрации следует объединиться, как пролетарии всех стран, и в ожидании первомайского концерта продолжить сплочение во имя светлого будущего. Учителя тоже не были исключением.
На праздничном столе занял свое постоянное место салат «Оливье», рядом пристроилась «Мимоза», чуть дальше – половинки яиц, начиненных тресковой печенью, квашеная капуста, политая жареным луком вареная картошка, традиционная для Камчатки тарелка с нарезанной копченой рыбой и дефицит. Куда же без него? Тонко нарезанная сырокопченая колбаса с крупным жиром и ярко пахнущие бутерброды с рижскими шпротами. Советское шампанское, гордая «Пшеничная», веселый «Буратино» и сливочный «Крем-брюле» возвышались над всем этим изобилием.
Ане нравилось смотреть на поднимающиеся со дна бокала пузырьки, которые, добравшись до верха, начинали толкать маленький кусочек шоколадки, брошенный туда то ли для вкуса, то ли для забавы. А еще ей ужасно нравилось играть с лошадкой. Взрослые делали ее из алюминиевой пробки – «бескозырки»: четыре спички-ножки, воткнутые в хлебный мякиш, расположившийся в согнутой «бескозырке», и тупая алюминиевая морда. Нравилось ей и название бутылки из-под водки – «Чебурашка». Только вот почему ее так называют, она не знала, а родители объяснить не смогли.
В то время детям не положено было сидеть за столом вместе со взрослыми. Аня получила свою «лошадку», тарелку с салатом и картошкой, кусочек любимого лакомства – красной рыбки, и отправилась есть на кухню вместе с дочерью хозяев. Потом они тихонько перебрались в детскую, где и провели остаток праздника.
Из большой комнаты слышались праздничные песни Кобзона и Лещенко, обсуждение великолепных нарядов Пьехи, споры о политике и школьных кулуарных «группировках», о предстоящем отпуске и трудностях с приобретением билетов на самолет. В детской комнате примерялись бумажные вырезанные наряды на собственноручно нарисованную куклу, обсуждали «Денискины рассказы» и «Приключения желтого чемоданчика», показывались с гордостью импортные дефицитные фломастеры.
Гораздо позже, в восьмидесятых, фломастеры появились в свободной продаже, а тогда… Их привозили военные папы, которые побывали «за границей». Настоящие, японские, с большеглазыми красивыми девочками на белом фоне. Говорят, что первый патент на фломастеры был выдан японскому изобретателю аж в 1942 году! Однако прототип был найден еще при раскопках египетских пирамид: тонкие медные трубочки со стрежнем из тростника, пропитанным чем-то вроде чернил. Как говорится, новое – хорошо забытое старое.
Ни того, ни другого факта дети не знали. Аня с завистью смотрела на чудо-ручки, оставляющие на бумаге чуть расплывающиеся, необыкновенно яркие цветные дорожки.
– А долго они рисовать будут? – поинтересовалась она.
– Долго. Я уже одну пачку изрисовала. Можно кончик полизать или в воду помакать, тогда они опять будут писать! – пояснила дочка Марии Васильевны Надя.
Первым фломастерам повезло меньше: это чуть позже научились заправлять фломастеры одеколоном или спиртом, а пока «первенцы» окрашивали язык хозяйки в разноцветные пятнышки, что и было продемонстрировано Ане.
Удивительные наряды рисовала Надя: длинные струящиеся платья с оборками на груди, блузки с пышными рукавами и кружевными длинными манжетами, многоярусные юбки, облегающие расклешенные книзу брюки… Бумажные модели надевались на вырезанную из журнала девочку, превращая ее то в принцессу, то в строгую леди, то в задорную девчонку. У Наденьки явно был талант модельера. Родители знали об увлечении девочки, однако считали его временным и несерьезным. Спустя годы Наденька стала врачом, а пока никто не ограничивал ее проявившийся талант и не мешал ему проявляться в полной мере. «Делайте то, что любите. Любите то, что делаете!» Если бы это было так, возможно многие были бы гораздо счастливее…
Праздничный день медленно перетек в ночь. Родители долго прощались в коридоре. Аня, взмокшая под ватным пальтишком, почувствовала, что засыпает. Идти домой по холодным, всё еще заснеженным улицам не хотелось, но так как она считалась уже большой, папа не взял её на руки. Хотя, когда она считалась маленькой, она тоже всегда шла сама. Никто не спрашивал её про усталость, а говорить об этом папе она стеснялась. Он ведь, наверное, тоже уставал.
«Папа сказал, что скоро будет делать фотографии. Интересно, что там получится…», – подумала засыпающая Анечка и мягко провалилась в тёплый тягучий детский сон.
Глава 4. Про искусство фотографии, любимый сарай и настроение
Искусство советской фотографии! Не смотря на сложность процесса, такое хобби имели многие. Это сейчас можно делать неограниченное количество фото на телефон, выставлять в соцсетях, пересылать в мессенджерах и хранить бесконечно. Тогда, в далекое советское время, все было по-другому.
Всего тридцать шесть кадров на пленке, завернутой в чёрную светонепроницаемую бумагу и упакованную в специальную коробочку, содержащую информацию о светочувствительности и производителе. Шосткинский завод «Свема», казанский «Тасма»… Намотать плёнку в кассету в полной темноте и лишь затем вставить её в фотоаппарат требовало особой сноровки.
«Киевы», «Зениты», «Горизонты», «Зоркие» … У Коли был «Смена 8». Менее популярный, чем всем известный «Смена 8м», но это его нисколько не смущало. Видимо, тонкости этого искусства из-за большой школьной нагрузки были ему не так важны.
Подготовив все необходимое для процесса, он обратился к наблюдавшей за ним дочери: «Принеси шубу, будем мотать!». Анечка прибежала с чёрной искусственной шубкой. Коля положил на диван специальный чёрный бачок и плёнку из фотоаппарата, засунул руки в рукава с той стороны, где они, по идее, должны были высовываться, и попросил Анечку натянуть их до локтя. Затем присел, накрыл шубой то, что лежало на диване и начал наматывать плёнку на специальную спираль, чтобы поместить её потом в бочок. Анечка, наконец-то ощущая свою нужность, с нетерпением ожидала дальнейших манипуляций.
После заливки в бачок проявителя, промывки, купания плёнки в фиксаже и снова в воде наступил волнительный момент. Папа вытащил плёнку из бачка и начал внимательно рассматривать кадры: маленькие чёрно-белые картинки, в которых с трудом можно было разглядеть знакомые лица. «Это негативы, – пояснил он, – видишь, всё, что чёрное, потом будет белое и наоборот!» «Ой, у меня лицо чёрное, а волосы белые», – заметила Аня. «Теперь сушить», – сказал Коля и прицепил прищепкой плёнку к верёвке, растянутой от стенки до стенки в ванной. Вторая прищепка была прикреплена снизу пленки, чтобы она не скрутилась при сушке. Высушенные плёнки висели в ожидании процесса печати.
Самое интересное таинство происходило, как правило, в ванной – самом тёмном месте квартиры. Некоторые оккупировали кухню, но ванная требовала меньших усилий для соблюдения «тёмных» правил печати. В «фотолаборатории» был установлен серый, видавший виды, фотоувеличитель, принесены кюветы, пинцет и фотобумага. Почти в полной темноте при тусклом красном свете начался процесс печати. Проявленные фотографии в конце концов оказывались в тазике с водой, где и ждали своих новых постепенно прибывающих фото-родственников. Процесс проявки и печати завершился под утро, когда Аня уже давно и крепко спала.
Еще окончательно не проснувшись, запихав ножки в растоптанные клетчатые тапочки, девочка потихоньку пробралась в ванную. На верёвочках висели фотографии. Рассмотреть их не позволял маленький рост ребёнка. Аня прокралась на кухню. На полу веером рассыпались фотографии, которым не хватило прищепок. За неимением специального глянцевателя Коля приклеивал мокрые фотокарточки на большое стекло кухонной двери. Высохнув, «шедевры» опадали, как осенние листья. Некоторые, правда, не сдавались и накрепко приклеивались к стеклу.
В воскресенье родители спали долго. Единственный выходной, предназначенный для стирки, уборки, готовки и написания конспектов, обладал главным преимуществом: не нужно было вставать рано. Коля обычно вставал раньше Аллы, готовил завтрак, кормил дочь и, если позволяла погода, шёл с ней по каким-то незначительным делам или в сарай за картошкой и квашеной капустой.
Сарай был особым местом для детей военного гарнизона. Он имелся во многих семьях, находился не так далеко от дома, был обит листами железа и неохотно кряхтел, когда кто-либо пытался открыть его ржавый замок. Внутри находилась куча вещей, которые могли когда-либо пригодиться или просто стали ненужными, бочка с капустой, накрытая какой-нибудь старой одеждой, погреб для картошки.
Поход туда отцов с сыновьями имел свой воспитательный момент. Мальчишки помогали доставать из погреба корнеплоды, несли домой банки с заготовками, весной помогали вытаскивать в специально предназначенные ямы гнилые, недоеденные продукты и точно знали, что скоро, когда отцы уйдут в «автономку» – длительный морской поход, всё это будет их прямой обязанностью. Для Ани такая прогулка была возможностью найти что-нибудь давно забытое, но очень дорогое. Что такое будущее она не знала, но зато умела грустить о прошлом, найдя свой старый маленький ботинок, игрушку или мамины истертые туфли, в которых Алла когда-то ездила в отпуск. Запах подгнившей картошки и холодный сырой воздух погреба не был ей неприятен. Рядом был папа, вокруг – любимые вещи из прошлого, в рюкзаке – картошка и банка капусты. Все хорошо и спокойно…
Вернувшись домой, они застали Аллу за просмотром фотографий. Настроение у нее было прекрасное. Она с удовольствием комментировала события, запечатленные на снимках. Весёлое настроение главного дирижера семьи по традиции перешло Коле и Ане.
Аня любила мамино хорошее настроение. Особенно когда Аллочка дурачилась вместе с Колей, напевая какую-нибудь песню. Счастливые и веселые они были похожи на беззаботных подростков. Их настроение передавалось Ане и она присоединялась к этому дуэту, подпрыгивая и подпевая. Однако это было нечасто. Почти всегда лицо Аллы было нахмуренным и озабоченным или, скорее, строгим. «У мамы нет настроения, ей некогда», – говорил шепотом Коля и Анечка старалась меньше спрашивать и попадаться на глаза. «Как это, нет настроения?» – думала она. – Настроение может быть плохим или хорошим, грустным или задумчивым, а как это «нет»?
Но куда бы ни исчезало настроение Аллы, оно мгновенно возвращалось, как только появлялся кто-то посторонний. Аллочка преображалась подобно артисту на сцене: появлялась улыбка и лёгкость, она шутила и щебетала, была милой и приятной в общении. Аня решила, что настроение точно знает, когда ему исчезать: оно почему-то иногда отсутствовало только для неё и папы. Фотографии сделали чудо: настроение вернулось и было прекрасным. И все были счастливы.
Спустя много лет, найдя старый фотоальбом Коли, Аня вдруг осознала, как много времени прошло с тех пор: разъехались в другие города бывшие коллеги родителей, изменилась мода, осыпался фасад родной школы. Некоторые лица не смогла вспомнить даже Алла. Фотографии потускнели и местами осыпались, да и сам фотограф уже ушел из этой жизни.
И вдруг после просмотра у нее мелькнула мысль о настроении. В тот момент его нельзя было назвать плохим или хорошим. Возможно, его просто не было? Конечно, можно вспомнить, что каждый сам причина своего настроения. Однако жизнь всё же интересная штука: она создает нам ситуации и добавляет красок в наше восприятие. В настроение Ани в тот момент добавились боль, грусть и приятное успокаивающее тепло воспоминаний. Как хорошо, что все это было и было именно так…
Глава 5. Про Новый год и ёлку
Спросите у любого ребенка или взрослого, какой праздник им нравится с детства, и они почти все наверняка ответят: «Новый год!». Ушли в прошлое празднование Годовщины Великой Октябрьской социалистической революции и апрельский День рождения вождя мирового пролетариата, остались в памяти День Пионерии и День рождения комсомола, но Новый год… Его по-прежнему ждут, к нему готовятся, отсчитывают дни, суетятся и планируют, выискивают рецепты, закупают продукты, просматривают сайты в поисках идей для подарков, приобретают что-то нужное или не очень, но непременно приобретают.
Есть, правда, одно отличие: раньше писем Деду Морозу не писали, в него просто верили. Да и ёлки были самые настоящие, натуральные, пахучие.
Утренники в детском саду – особое, хорошо организованное мероприятие. Почти месяц Аня с детьми своей группы приходила в небольшой музыкальный зал, чтобы выучить песни и потренироваться в поэтическом детсадовском красноречии. Воспитатели уходили, оставив на попечение музыкальному руководителю столпившихся малышей. Съехавшие хлопковые колготки, натянутые до пупочков шортики, застёгнутые кое-как пуговки рубашек, распустившиеся слегка бантики – ничто не могло смягчить сердце ответственного музработника. Детей строили по парам, перестраивали, они пели песни, ходили по кругу, читали стихи, участвовали в сценках и все это сопровождалось маршеподобной музыкой и вводной фразой: «И-и-и-и… начали!» Наконец «дрессировка» закончилась, родителям объявили дату и время проведения утренника и поставили задачу по подготовке костюмов.
По-новогоднему украшенный зал блестел разнокалиберными ватными снежинками, разноцветным дождиком и бумажными сосульками. В центре этого великолепия возвышалась огромная ёлка. Представление началось.
Особо одаренные мальчики и девочки вместе с воспитателями разыгрывали сценки, убегали от Кощея и Бабы Яги, забрасывали снежками «замерзшую» Кикимору, освобождали от злодеев девочку Машу, медведей и еще каких-то сильно значимых животных. На скамейках вдоль стены торчали, висели, шевелились многочисленные заячьи уши и снежинки. Костюмы детсадовцев особым разнообразием не отличались, а точнее, не отличались вообще: мальчишки – зайцы, девочки – снежинки.
Аня была…. Ёлкой. Нет, до самых ушей правила соблюдались: как у всех девочек на ней были белые колготки и белое платьице, больше походившее на майку, и только на голове на бумажном обруче была приклеена зелёная бумажная ёлка, украшенная блёстками, резаным дождиком и нарисованными шарами. Из этого следовало, что Коля, который вёл уроки рисования, решил проявить творческий подход. Аллочке же всегда было некогда, и она просто обрадовалась, что он взялся за изготовление новогоднего наряда для дочери. На утренник тоже пошел Коля. Аллочка была занята.
«Наша ёлка велика! Наша ёлка высока! Выше папы, выше мамы – достает до потолка!» – старалась Анечка-Ёлка. Коля с гордостью щёлкал фотоаппаратом. Потом были игры, новогодний хоровод, «вызов» Деда Мороза и Снегурочки, вручение подарков с конфетами. Сразу после утренника – о, чудо! – Коля забрал Аню домой.
На улице была настоящая, как говорили на Камчатке, пурга: бушующая, стонущая, беспросветная. Коля тащил санки, с трудом передвигая ноги по глубокому пушистому снегу. «А ну-ка, песню нам пропой, весёлый ветер, весёлый ветер, весёлый ветер! Моря и горы ты обшарил все на свете», – пел Коля срывающимся от ветра голосом. Аня, спрятанная в искусственную чёрную шубку и замотанная по самые глаза шарфом, ждала тех слов, которые ей особенно нравились. «Кто привык за победу бороться, с нами вместе пускай запоёт: кто весел – тот смеётся, кто хочет – тот добьётся, кто ищет – тот всегда найдёт!», – пытаясь перекричать вой пурги, запищала Аня. И этот прерывающийся от ветра дуэт, и хлёсткий снег, и колючий мокрый шарф – все это слилось в единое большое весёлое счастье…
– Ух ты, мы ёлку будем собирать? – с восторгом спросила Аня, увидев кучу веток кедрового стланика посреди комнаты.
– Сейчас сделаю её и будем наряжать, – сказал Коля.
Коля приносил кедровый стланик из школы. Это были остатки от ёлки, которую собирали на школьные праздники. Ель рядом с посёлком не росла, а поскольку искусственных красавиц такого большого размера в магазины не завозили, приходилось использовать те хвойные, что были рядом. Сделанный из дерева ствол вставлялся в деревянную крестовину, крестовина закреплялась, а в отверстия, просверленные в стволе, вставлялись лапы кедрового стланика. Ёлка получалась пушистая и густая с ярким смолянистым запахом. По такому же принципу делалась ёлка и в семье Ани.
Коля с удовольствием посмотрел на собранную ёлку и сказал: «Доставай из коробки игрушки, будем украшать». Аня притащила видавшую виды картонную коробку: шарики-прожекторы, стеклянные луковки, огурцы и хрущевская кукуруза, шишки, покрытая блестинками избушка, завёрнутый в стеклянное одеялко малыш, картонные золотые рыбки и петушок, стеклянные бусины и трубочки, нанизанные на проволочку… Постепенно бережно вытащенные новогодние украшения были выложены на пол возле ёлки. «Подавай!», – скомандовал Коля и процесс украшения ёлки начался. Шары и часики на нитках, космонавты и ракеты на прищепках, бумажные флажки с героями из сказок, электрическая звезда и длинная новогодняя гирлянда наконец-то перекочевали с пола на ёлку.
– Красота! – сказал Коля.
– Красота! – повторила Анечка.
Пришла с работы Алла и, посмотрев на ёлку, сказала: «Надо звезду поправить!». Коля поправил звезду и всё стало идеально. Через несколько дней под ёлкой появился долгожданный подарок: коробка с мандаринами, «Белочкой», «Мишкой на севере», «Грильяжем в шоколаде», шоколадными зайцами, завёрнутыми в фольгу, и другими советскими конфетными вкусностями. Дед Мороз, видимо, приходил, когда все спали. Это никак не огорчило Аню, ведь подарок она всё-таки получила, а в его существовании сомневалась. В детском саду он говорил голосом воспитательницы, а в Новый Год ни разу ей не показался.
Спустя годы взрослая Аня была уже не была так уверена: у Деда Мороза появился официальный адрес и из телевизора постоянно напоминали, что письма надо отправить до середины декабря, чтобы Дед Мороз успел их прочитать.
Современные родители ломают голову над тем, что подарить своему ребёнку. Современные дети ломают голову над тем, чего бы попросить у Деда Мороза. Изобилие игрушек и гаджетов уже никого не удивляет. Наверное, поэтому фантазия иногда ограничивается желанием иметь то, что есть, только более современное: крутой айфон или новый компьютер, новую машинку или много денег для новых возможностей. Говорят, что такие просьбы расстраивают Деда Мороза, но есть и другие, которые он называет «добрые»: чтобы не вредничала старшая сестра и давала поиграть своим телефоном, чтобы появился братик, чтобы выздоровела бабушка, а щенок перестал писать на ковёр, чтобы не растаял перед лыжными соревнованиями снег, чтобы сделали поскорей ремонт в спортивном комплексе, и чтобы в новогоднюю ночь обязательно случилось какое-нибудь чудо…
«А чего бы я попросила у Деда Мороза, если бы верила тогда, что он исполняет желания? – подумала Аня, – Может, чтобы бабушка жила не так далеко или чтобы можно было жить в домике у моря с большой умной овчаркой?» Мысль о домике у моря рассмешила её: такой подарок не помешал бы в любом возрасте.
Возможно, это глупо, но ей вдруг ужасно захотелось написать письмо Деду Мороз и спросить, почему он никогда не приходил, узнать, кем все-таки были родители Снегурочки и попросить на минуту вернуть её в детство, где была ёлка из стланика, весёлый Коля, и вечно занятая Аллочка, и самый лучший подарок из мандаринок и конфет.
Глава 6. Про время, книги и диафильмы
Время… Оно идет медленно или пролетает незаметно, тянется или останавливается. Его можно сэкономить, скоротать или провести впустую. Оно может быть лекарством или ядом. Оно воспринимается по-разному, когда тебе двадцать или семьдесят, когда ты сидишь на скучных лекциях или общаешься с интересным человеком, когда ты болеешь или наслаждаешься шорохом дождя. Оно всегда разное, но оно есть. Ты точно знаешь, сколько времени нужно, чтобы приготовить ужин или дойти до ближайшей остановки, а если не знаешь, то тебе непременно установят сроки, будут нормировать и дозировать твою жизнь: хронометраж, тайм-менеджмент, коэффициент экстенсивного использования рабочего времени…
В детстве всё по-другому. В определённом возрасте его просто нет, а потом оно незаметно, но настойчиво входит в твою жизнь. И вот ты уже оцифрованный член сообщества хорошо структурированных индивидов.
Аня была в том счастливом возрасте, когда время только начинало проникать в её неокрепшие мозги. Тем не менее, были моменты, которые хотелось бы, чтобы длились как можно дольше.
Родители целыми днями были на работе, Аня – в садике. Вечером Алла и Коля строчили конспекты к предстоящим урокам, что-то бурно обсуждали, читали дополнительную литературу. У Ани тоже была своя литература. Читать она не умела, поэтому несколько имеющихся в её библиотеке книжек были засмотрены и затроганы до состояния промокашки, которую в то время вкладывали в каждую тетрадь. И всё же бывали вечера, когда в единственный у родителей выходной Аллочка, залезая с дочерью под одеяло, читала ей книжки.
Это случалось так редко, а книжек было так мало, что желание продлить моменты книгочтения достигало почти болезненных размеров. Если бы Анечка понимала, что такое время, она непременно променяла бы свой скудный игрушечный арсенал на эти неповторимые моменты, которые как кубики можно было сложить в вечность.
Философские высказывания «Сказок дядюшки Римуса» Дж.Ч. Харриса превращали Аллочку в теплую, смеющуюся, беззаботную маму. Анечка тоже хохотала над Братцем Лисом, Смоляным чучелком, остроумным Братцем Кроликом, который упрашивал не бросать его в терновый куст, находчивым Братцем Черепахой, перехитрившим Братца Медведя… «Коржики – они, конечно, лучше на вкус, чем на слух…», – читала Алла и через мгновение у всей семьи появлялась улыбка! А еще именно тогда Анин маленький мозг вдруг начал шевелиться и пытаться осмыслить, почему «Так часто бывает на свете: один натворит бед, а другой за них отвечает» и «Тот, кто всем докучает и суёт нос, куда не нужно, всегда попадает впросак».
Детская книжка «Петелька за петелькой» восхищала достижениями таких же как Аня девочек, которые уже умели вязать шарфики, шапочки и носочки. Ей тоже очень хотелось сделать что-нибудь теплое, мягкое и полезное, но Алле было некогда, а Аня пока не могла прочитать о секретах рукоделия. Цветные схемки и графики всё же очень трогали её воображение.
Еще была книжка Марии Прилежаевой «Жизнь Ленина». Она, правда, была включена в школьную программу, но Ане её купили раньше. Еще до того, как она научилась читать и писать, девочка успела испытать первую любовь к маленькому кудрявому мальчику, мама которого тоже читала вечерами книжки всей семье. Правда дедушка Ленин слишком быстро вырос и даже успел, как сказал Ане папа, умереть. Она старалась об этом не думать. Наверное, чтобы не потерять это зачаточное, нежное чувство, да и само понятие смерти пока никак не воспринималось её детским умом.
Еще были диафильмы, рулончики плёнок в маленьких алюминиевых коробочках. Слово, давно вышедшее из употребления за ненадобностью. Попробуйте объяснить его современному ребенку! Википедия попыталась это сделать, пояснив, что «Диафильм – разновидность слайд-шоу, сопровождаемого титрами, которое использовалось в образовательных и развлекательных целях до конца двадцатого века», а «фильмоскоп – принятое название диапроекторов, специально предназначенных для демонстрации рулонных диафильмов». Не знаете, что такое «диапроектор»? Придется опять обратиться к вездесущей Википедии… А в то время эти слова были обычными для каждого ребёнка и просмотр диафильмов был процедурой, полной удовольствия, радости и единения семьи.
Коля торжественно доставал из коробки аппарат, Алла вешала на дверь белую простынь-экран, Анечка выбирала очередность показа диафильмов: «Мальчик с пальчик», «Красная Шапочка», «Принцесса на горошине» … Семья устраивалась на полу, под фильмоскоп подкладывались толстые книги, выключался свет, и комната превращалась в домашний кинотеатр. Яркий луч прожектора отражался на экране картинками диафильма. Перематывались вручную кадры, читались сказочные строки и в темноте постепенно уплывали минуты культурного наследия такой большой, светлой и стабильной страны.
Прошли годы, дорогие маленькому сердцу книжки о вожде и диафильмы вместе с древними фильмоскопами стали предметом раритетной продажи на электронных площадках…
Как-то в поисках очередной «супернужной» вещи взрослая Анна, заблудившись на просторах интернета, наткнулась на фотографии эсэсэсэровских вещей: посуда, книги, одежда, магнитофоны, фотоаппараты и прочая атрибутика ушедшей эпохи. Интернет-страницы шелестеть не могут и, переходя с одной на другую, вы не почувствуете ни запаха бумаги, ни её шуршащей шероховатости. Они лишь бесконечная лента товаров. Аня вглядывалась в прошлое, отражающееся в холодном экране, и вдруг ощутила, что время остановилось. Его просто нет…
Глава 7. Про первый класс, шариковые ручки и первую учительницу
Жизнь каждого из нас состоит из определённых периодов. Кто-то утверждает, что их всего шесть, кто-то – восемь, некоторые считают, что наша жизнь укладывается в четыре «квадрата», каждый из которых состоит из четырех семилетних циклов… Однако все соглашаются с тем, что каждый отдельный отрезок жизни имеет определенную значимость для человека. Именно к такому значимому периоду незаметно подошла и Аня. Наступал торжественный момент превращения дошкольника в школьника.
Читать и писать она, как и большинство детей того времени, почти не умела. Буквы, которые они учили в садике, никак не складывались в слова и вместо «мама» и «папа» получалось «мэ-а-мэ-а» и «пэ-а-пэ-а». Буквы «В» и «Я» писались в зеркальном отражении, а буква «О» походила на кривой овал с волнистыми очертаниями. С цифрами большой дружбы тоже не получалось. Дружба с мальчиками и девочками и прочая социализация были в зачаточном состоянии.
Нет, она, безусловно, хорошо усвоила элементарные правила и нормы поведения: не сидела с гостями за праздничным столом, не задавала вопросы, когда разговаривали взрослые, ела всё, что должна была съесть, гуляла рядом с домом, здоровалась и прощалась, не мешала родителям, когда они готовились к урокам и никогда и ничего не просила. Разговаривать особо ей было не с кем и не о чем. В детском саду ей больше нравилось наблюдать за детьми. Активные игры её не привлекали, а о чем разговаривать она особо не знала. Возле дома она примыкала к группкам детей и опять слушала и наблюдала. Дети знали её, и она была молчаливой частью их игр и других развлечений. Свободно разговаривать и играть она могла только с двумя мальчишками, родители которых были друзьями Аллочки и Коли.
Савва был шустрым ребенком с вечно хлюпающим носом и большой любовью к пластилину, из которого лепил всё и везде, не считая времени, проведенного в садике и в кровати. Егор был гораздо старше и если бы ни дружба между родителями, он вряд ли общался бы с такими малявками.
Савке и Ане купили портфели, школьную форму, прописи, тетради и всё, что необходимо, чтобы не опозорить родителей и учиться, учиться и учиться… Наступило первое сентября.
Многие дети с нетерпением ждут первого дня в школе. Кто-то испытывает страх, кто-то волнение, для кого-то это торжественное и радостное событие. Проходят годы и детали этого дня стираются. Остаются ощущения, чувства, фотографии.
Аня смотрела на чёрно-белое фото себя: короткое платьице с белым «крылатым» фартучком, три длинных гладиолуса, два убогих бантика, каким-то чудом закреплённых Аллой на тоненьких волнистых волосинках. На лице той маленькой девочки не было ни волнения, ни радости, ни тени торжественности…
Алла и Коля часто приводили её в школу, забрав вечером из садика. Сидя на задней парте, она наблюдала за мальчишками и девчонками, которые громко и весело обсуждали что-то на классных часах, готовились к мероприятиям или просто дурачились и получали удовольствие. Она знала расположение кабинетов, не любила резкий звонок, стеснялась учителей, друзей Аллы и Коли и побаивалась вечно хмурого директора. Школа не была для неё чем-то особенным, поэтому первое сентября означало просто начало чего-то нового. Хотя … был страх. «Вдруг не получится учиться хорошо? Вдруг я не понравлюсь первой учительнице? Вдруг маме и папе будет стыдно за меня?» – думала Аня. Неуверенности у неё было столько, что ею можно было вполне поделиться с окружающими.
На крыльце школы читали стихи талантливые дети, что-то говорили учителя и какие-то важные приглашенные люди. Такие речи обычно не особо слушаются, да и не запоминаются. Но вот ощущения…
Речи закончились и новоиспеченных школьников начали «разбирать» старшеклассники, чтобы провести по школьным коридорам в классы – место старта новой, почти взрослой жизни. «Давай руку!» – произнес высокий худой мальчик и протянул Ане ладонь. Ладонь была холодная, с подрагивающими тонкими пальцами. С правой стороны от старшеклассника пристроилась Аня, с левой – Савка. Нестройная колонна бывших детсадовцев поднялась на крыльцо школы, прошуршала по узким школьным коридорам, поднялась на второй этаж, зашла в класс, где предстояло провести четыре года и, свалив в цветочную кучу свои букеты, по команде учительницы рассыпалась по партам.
Первый день в школе состоял из объяснения правил поведения и трех уроков. В то время первое сентября выходным не было, да и вообще многое было по-другому. Выходной был только один – воскресенье, школьные кружки и секции были по желанию и посещались далеко не всеми, уроки даже в первом классе были по сорок пять минут, обучение проводилось в две смены и все это длилось не одиннадцать, а десять лет.
На партах еще оставались небольшие углубления для чернильниц, но ручки уже поменялись на шариковые. Вместе с перьевыми ручками ушли в прошлое и уроки чистописания – каллиграфия. Споры о пользе и вреде авторучек не утихают до сих пор.
Сторонники перьевых утверждали, что такие ручки учили писать чисто и разборчиво, приучали к аккуратности, правильно ставили руку и были в соответствии с психофизическим развитием детей: частота нажатий на перо совпадала с сердечным ритмом ребёнка. Защитники шариковых считали задержку дыхания и сбой сердечного ритма во время письма ерундой и ратовали за прогресс. Дети писали тем, чем было положено на тот момент. Однако Ане очень нравились перьевые ручки, которые по-прежнему оставались в обиходе на почте. Их можно было макать в «непроливайки» и выводить четкие разной толщины буквы или рисовать человечков на бланках для телеграмм.
Впечатление о первой учительнице было несколько смазано тем, что Аня знала её еще с дошкольного возраста. Гуляя по вечерним школьным коридорам, Аня могла видеть, как строгого вида женщина, наклонив кудрявую седую голову, проверяет тетради и, грустно вздыхая, записывает что-то в журнал.
Глаза у Екатерины Петровны были светло-голубые, почти выцветшие и при встрече смотрели на Аню безразлично и устало. Возможно, усталость от школьной жизни была спутником её преклонного возраста. Все надо делать вовремя и уходить с работы тоже. Однако мужа у Екатерины Петровны не было, дети давно обзавелись семьями и оставаться по утрам в пустой квартире было невмоготу. Как говорится, надо же куда-то ходить по утрам. Активные и любознательные от природы младшие школьники невольно успокаивались под её взглядом и становились дисциплинированней, что в принципе было неплохо. Поэтому на её возраст в школе никто не обращали внимания, и она продолжала и продолжала работать.
Аня слышала, что первая учительница – это какой-то особый человек, что она должна навсегда остаться в памяти, что её полагалось любить и поздравлять с Днем учителя всю оставшуюся жизнь. Дав себе слово, что так и будет, с твердым намерением стараться изо всех сил, Аня уселась за парту.
Тараща на первую учительницу глаза, чтобы выглядеть серьезной, Аня отсидела уроки с такой прямой спиной, что к концу последнего ощутила напряжение во всём теле. Екатерина Петровна усердие новоиспеченной первоклассницы не заметила и похвалила какую-то девочку, поднявшую упавшую у учителя ручку. Девочка чувствовала себя героиней дня. Аня чувствовала себя разбитой.
После уроков Аня, сопровождаемая Савкой, побрела домой. Савка, как молодой радостный спаниель, постоянно бегал вокруг Ани и непрестанно болтал. «А как же теперь с Колдовской школой?» – вдруг спросил он, заглядывая в её глаза.
Колдовская школа занимала особое место в её с Савкой отношениях. С самого детского сада они мечтали найти такое место, где можно исполнить любое желание, а может даже найти волшебную палочку. Особых желаний у них не было, и игра превратилась в бесконечный процесс: они искали её за домом и по пути в магазин, бегая в рябиновых кустах по сопке и собирая камушки на черном вулканическом песке у бухты, обсуждали планы поиска в детской, пока взрослые отмечали праздники, отчитывались друг другу о поисках, когда возвращались после летнего отдыха. Пожалуй, Савка верил в реальность существования Колдовской школы даже больше, чем Аня, а может, главное было придать смысл беззаботным детским прогулкам. Иногда процесс становится гораздо важнее результата. И они продолжали искать.
– Будем продолжать. Обязательно когда-нибудь найдём! – уверенно сказала Аня.
– А когда? Теперь же уроки надо будет учить!
– Ну, в выходной, или на каникулах, или в праздники…
И Савка, вроде, поверил. Друзьям надо верить, даже если они и говорят что-то сомнительное. Настоящие друзья и сами верят в то, что говорят. Иначе это не дружба.
Девочка пришла домой, вытащила из портфеля всё, что в нём было, задумчиво посмотрела на прописи. Надо было написать первые «палочки», но неуверенность всё же победила желание приступить к домашнему заданию. «Надо подождать. Кто-то придет, папа или мама. У них сегодня есть «окна», – подумала Аня и залезла на подоконник, чтобы понаблюдать за людьми и собаками.
Глава 8. Про желание, музыкальное образование и соответствие чужим ожиданиям
О развитии младших школьников написаны миллионы книг. Что делать для когнитивного и эмоционально-чувственного развития, как способствовать физическому и эмоциональному совершенствованию, что читать, чем поощрять, как воспитывать…
В советское время направлений было не так много: спортивная секция, кружок по рукоделию, «художка», «музыкалка». Особенный внутренний мир ребёнка, куда сегодня заглядывают с большой осторожностью, возможно был таким и много лет назад, но советским родителям быстро удавалось скорректировать его «особенность» своими волевыми решениями.
Аня любила рисовать. Она рисовала, оставшись одна, рисовала, когда нельзя было мешать родителям, когда были гости, когда болела, когда слушала пластинки, когда не выходила гулять из-за плохой погоды, рисовала, рисовала, рисовала. «Неужели это ты нарисовала? – с восхищением и некоторым страхом спросил однажды Коля дочь, когда та показала ему дедушку Ленина, срисованного с десятирублевой купюры. – Аля, посмотри, как она нарисовала!». Аллочка с неподдельным интересом рассматривала нарисованного вождя. Коля как-то странно захихикал и сказал, что это надо непременно показать коллегам. Рисунок был, действительно, неплох. И как бы повернулась жизнь Ани, если бы не решение Аллы… Спустя несколько дней, когда школьные коллеги отвесили кучу комплиментов начинающему художнику, Алла решила отдать дочь в музыкальную школу.
Аня успешно прошла экзамен-прослушивание, ей купили нотные тетради, приобрели тёмно-коричневое лакированное бывшее у кого-то в использовании пианино «Приморье», кряхтя от усердия, затащили его на второй этаж и умудрились втиснуть в комнату, где уже стоял шкаф, диван, кресло-кровать и письменный стол. Удалось достать жёсткий круглый стул, сиденье которого вертелось вокруг своей оси для регулировки высоты, и чёрный метроном со стальной стрелкой.
Роскошь музыкального образования! Высококультурные граждане советского общества, хорошо разбирающиеся в классической музыке, знающие нотную грамоту, чувствующие гармонию звуков и ориентирующиеся в музыкальной истории, – одна из воспитательных задач того времени. Целая система музыкального образования была подчинена этой задаче: семилетняя «музыкалка» – музучилище – консерватория, а ещё – спецшколы при консерваториях… В отличие от спортивных школ, музыкальные и художественные школы были платными. Савку отдали в спорт, Егор развивался самостоятельно, а Аня, как потомственный «музыкант» – Алла вела в школе уроки пения, – просто обязана была ходить в музыкалку.
Маленькая музыкальная школа располагалась на первом этаже двухэтажного полуразвалившегося здания. Рядом был магазин «Рыбкооп», торгующий копчёными богатствами Камчатки: кета, горбуша, кижуч, спинки минтая, консервы с ухой, рыбой в масле и томате. Ученики музыкальной школы вдыхали запах копчёностей, работники магазина наслаждались нестройными звуками начинающих гениев, исполняющих Баха, Моцарта, Шопена…
В маленьких узких кабинетах проводились уроки по сольфеджио, специальности, музыкальной литературе. Ане нравился хор. Обладая хорошим слухом, но слабыми голосовыми данными, девочка с удовольствием «пряталась» среди звучных голосов талантливых учеников. Еще музыкальная литература. Специальность – основное, ради чего и ходили в школу, – вызывала у неё какое-то холодное сковывающее чувство. Преподаватель Елена Викторовна садилась рядом и начинала раскачиваться в такт этюдам, сонатинам и прелюдиям. «Так, так, живее, кисть держи так, как будто держишь теннисный шарик… Глубже звук, локти, локти не разводи!» – покрикивала она. «Вот так надо», – играла она своими пальцами на Анином плече, показывая силу нажатия на клавиши.
Чувство прекрасного никак не приходило, плечо побаливало, времени на рисование не было и однажды Аня сорвалась. «Ненавижу эту музыкалку! Ненавижу эти ноты! Не буду туда ходить!» – кричала она, разбрасывая нотные листы и дубасила по клавишам. К слову сказать, вести себя так при Алле девочка бы не посмела. Дома никого не было, и она дала волю и слезам, и гневу, и накопившейся усталости. Пианино, безжалостно избиваемое маленькими кулачками, орало, издавая жуткие звуки и призывая на помощь соседей. В стенку постучали. Аня словно очнулась. Ключ в двери повернулся. С работы возвращались родители. Времени было слишком мало, чтобы скрыть следы настоящих чувств. С красным лицом и всклоченными волосами Аня стала собирать разбросанные листы.
– Это что это у нас тут какое? – поинтересовался весело Коля.
– Посмотрите-ка на неё! Что за беспорядок? – удивилась Алла.
– Я не буду ходить в музыкалку. Я её не люблю. Я рисовать хочу! – пробубнила Аня.
– Это еще почему? – удивляясь смелости дочери спросила Аллочка.
– Не хочу! – набычилась девочка.
– Как это не будешь? Выучишься – еще нам спасибо скажешь! – парировала она.
– Играть же так здорово! Ты просто пока не понимаешь! – подключился Коля.
Больше Аня ничего не говорила. Она медленно продолжила собирать разбросанное. Ни Алла, ни вставший на её сторону Коля не смогли добиться от неё ни слов, ни обещаний ходить в музыкальную школу.
Не понимая, что она применяет простой психологический прием – манипуляцию, Аллочка решила использовать самый весомый довод. «Завтра всем в школе про тебя расскажу! И учительнице, и Марии Васильевне, и Савке, и Егору!», – завершила она. Аня сжалась. Егор ей нравился и втайне она испытывала к нему что-то, напоминающее чувство к дедушке Ленину. Сердце её дрогнуло. Однако откуда-то появившееся упрямство не отпускало, и она ничего не сказала.
Весь следующий день в школе Аня чувствовала себя как голый в бане, когда туда неожиданно входит посторонний. Ей казалось, что вот-вот придет Алла и начнет рассказывать, какой позор Аня для семьи. Алла не приходила. «Наверное, она сейчас Егору говорит обо мне», – думала девочка. Прошли уроки и она, стараясь быть незаметной, побежала домой.
Придя домой, Аня взяла лист бумаги, карандаш и написала: «Я хочу ходить в музыкальную школу. Мне нравится играть. Мне кажется, что это маленькие гномики бегают по клавишам…». И много еще разной ерунды. По щекам Ани катились слёзы. Они капали на бумагу и пытались стереть эту маленькую детскую ложь.
Вечером вернулись с работы Алла и Коля. Прошел ужин, но никто не начинал разговор о недостойном поведении Ани, никто не спрашивал про её успехи в школе и не рассказывал, как отреагировали на это «событие» те, кому Алла грозилась рассказать накануне. Аня взяла листок, на котором было написано про «жгучее желание» продолжать ходить в музыкалку, и подала его маме. «Вот!» – только и смогла выдавить она из себя. Подошел Коля и они месте с Аллочкой пробежали глазами измятый расплывшийся текст.
– Ну и хорошо! – сказал Коля, – Ты нам еще спасибо скажешь!
– Иди спать! – жестко сказала Алла.
Аня поплелась в ванную, умылась, разделась и залезла с головой под одеяло. Облегчение от исчерпанного конфликта не наступало. Мысль о том, рассказала ли Алла про неё Егору, все еще тревожила девочку. Но противней всего было то, что она наврала. Было не понятно, что хуже: то, что она поступила нечестно, или то, что ей придется продолжить заниматься нелюбимым делом. Она в первый раз ощутила непринятие себя и то, как трудно соответствовать чужим ожиданиям. Как долго ей потом пришлось искать правильный ответ на вопрос «А надо ли им соответствовать?»
Глава 9. Про бабушек, самолеты, такси и счастье
У каждого ребенка должна быть бабушка. Просто должна быть и всё. Родители – воспитывают, бабушки – любят. Любят тебя за то, что ты есть, за то, что тебя можно кормить, за то, что ты просто свой и самый лучший. Они не верят, если о тебе говорят плохо, не ругают, если ты что-то разбил, не читают нотаций и не жалуются на тебя родителям. Нет, конечно бывает и по-другому, но любимые бабушки обязательно должны быть, иначе в детстве, даже в самом прекрасном, будет чего-то не хватать…
Аня начинала ждать поездку к бабушке сразу же после возвращения от неё. Тем, кто живет с бабушкой по соседству или в одном городе, вряд ли удастся испытать эти чувства. Семья Ани добиралась до бабушек почти неделю. До «материка», как называли камчадалы всё, что было за полуостровом, добраться было непросто. «…В этот край таежный только самолетом можно долететь!», – любил петь Коля строчку из известной тогда песни Николая Добронравова. И это, действительно, было так. Только во время летнего отпуска родителей можно было увидеть и родные лица, и погреться на жарком материковском солнышке.
Аня плохо переносила дорогу, но радость от встречи с любимыми бабушкой, бабулечкой, бабуленькой и дедом помогала ей стойко переносить перипетии долгого пути. Сначала раздолбанный вонюченький «ПАЗик» вез их к причалу. Затем кряхтящий небольшой катер, прыгая и переваливаясь с одного бока на другой, с бесконечным урчанием тащился через бухту. Потом опять «ПАЗик», пересадка, «ПАЗик», аэропорт.
В самолёте выдавали кислые леденцы «Полет» и зелёные, ужасно пахнущие бумажные пакеты. Первое предназначалось для того, чтобы не закладывало уши. Второе – для тех, у кого завтрак еще остался и, возможно, захотел бы выйти наружу. Четыре часа на ИЛ-18 до Хабаровска, вынужденный «транзитный» отдых, семь часов на ИЛ-62 до «Домодедово» в Москве.
Тридцать килограммов ручной клади на человека: забитые рыбой и икрой чемоданы и рюкзак. Коля, навьючив на себя пахнущую копчением ношу, сгибая тоненькие мускулистые ножки, семенил по аэропорту. Алла, крепко держа дамскую сумочку с наличными, безнала тогда и в помине не было, гордо плыла за ним. Аня, зевая из-за девятичасовой разницы во времени, волочилась рядом. Достав из сумочки блокнотик с номерами счастливчиков, живущих в Москве, Алла начинала обзвон. «Алло, здравствуйте, это Алла. Да, мы с твоей мамой вместе работаем. Она говорила обо мне? Мы уже в Москве, в аэропорту. Можно к вам? Да, с Аней и с Колей! Да, на недельку где-то», – тараторила она. Рады были далеко не все. У некоторых была официальная причина отказать: гостили родственники или знакомые, опередившие Аллу. Тем, кому повезло меньше, соглашались принять внезапно позвонившую Аллочку. Куда же, как говорится, её девать с ребенком? Она не любила звонить заранее: зачем тратить время, тащиться в переговорный пункт, да ещё и трубку вдруг не возьмут! Спонтанность была её характерной чертой.
Роскошь поездки на такси! «Наши люди в булочную на такси не ездят!», – веселился Коля, таща поклажу к остановке такси возле аэропорта. Двадцать копеек за посадку и двадцать за километр – не такая уж большая оплата для работящего камчадала. Все было нормировано, дозировано и подконтрольно государству. Далеко не каждый водитель мог войти в профессию. Большой безупречный водительский стаж, положительная характеристика, служба в армии, безусловно, являлись преимуществом. Да ещё, если ты новенький, поработай на старой уставшей развалюхе, выполни план, обслужи без нареканий пассажиров. И вот, после всего этого, ты заслужил рацию для дополнительных заказов и, если повезёт, блатное рабочее место. «Вокзальщики» и «аэродромщик» – элита таксистского бизнеса.
Выстояв очередь из таких же приезжих советских граждан, семья втиснулась в машину и … «Поехали!». Мягкий тёплый летний ветерок, стройные раскачивающиеся в такт ему берёзы. На камчатке берёзы кривые, крепкие, выносливые, как ноги местного аборигена. Аня смотрела на уже окрепшую зелень, вдыхала запах встречных машин и забывала про свой капризный вестибулярный аппарат. Когда ты счастлив, не обращаешь внимания на мелочи, которые казались такими значимыми раньше.
Москвичи, у которых останавливались Анины родители, не всегда были коренными. В основном это были дети тех, кто работал с Аллой и Колей на Камчатке или их родственники, приехавшие в своё время покорять столицу. Работали они много, уезжали рано, появлялись дома поздно. Ане хотелось, чтобы родители оставили её в квартире, но Алла считала необходимым брать её с собой.
Ежедневные прогулки по магазинам в поисках подарков родственникам и того, чего не было на Камчатке, изматывали те только Аню, но и Колю. И только Аллочка носилась как горная коза, не зная ни усталости, ни сочувствия к членам семьи. Отстояв длиннющую очередь, родители покупали билеты на поезд для дальнейшей поездки и продолжали утюжить Москву до указанной в билетах даты. Ане оставалось совсем немного потерпеть до встречи с любимой бабулей.
Сначала заезжали к Колиной маме. Жила баба Таня под Иваново, была тихой и молчаливой и совсем не обращала на Аню никакого внимания. «Коляша приехал!» – обычно по несколько раз повторяла она, придя из своего дома в дом дочери. Семья Ани обычно останавливалась у тети Кати, сестры Коли, дней на семь. Родственники были спокойными, добрыми и простыми. На столе появлялась «жарёная кОртошка», доставались дозревающие в валенках помидоры, резалась камчатская рыба, разливался резкий пахучий самогон. Ивановская речь, неспешная и негромкая, убаюкивала Аню. Сквозь сон она слышала необычный «окающий» говор и неспешные разговоры о чем-то добром и хорошем.
Несмотря на душевную и спокойную атмосферу у ивановских родственников, Аня продолжала торопить время. Впереди была встреча с самарской бабушкой, которая не только любила, но и считала её самым значимым человечком в своей жизни.
Любила ли её баба Таня? Наверное, да. Просто она была очень молчаливой и больше всего на свете ждала приезда сына. Она смотрела на него с нежностью и любовью, ей достаточно было видеть его и слушать, как он разговаривает с другими. За время пребывания в деревне они ни раз ходили в гости к бабе Тане, и она молча ставила на стол хрустящие пупырчатые огурчики, отварной картофель и деревенский пахучий хлеб. Пережившая войну, потеряв на фронте мужа и вырастив троих детей, она привыкла довольствоваться малым. Вероятно, трудности и сделали её молчаливой, а может, она считала неправильным выспрашивать о жизни сына. О своей ей говорить было нечего, все и так было как на ладони: небольшой огород, простой деревянный домик с красивыми резными наличниками, да старый тяжелый сундук, в который никто кроме неё не заглядывал.
Проходило время, семья Ани, вновь запаковав в чемоданы вещи и попрощавшись с ивановскими родственниками, отправлялась дальше, к Аллочкиной маме.
«Ах, Самара-городок, беспокойная я, беспокойная я, успокой ты меня!» – задорно пела Аллочка, спускаясь с поезда на перрон, где стояли встречающие её сестра с мужем. Тетя Надя была младше Аллы на десять лет, имела пышные формы и улыбающиеся карие глаза. Её алые губы и ярко накрашенные щеки излучали искреннюю радость и казались украшением всего перрона. Рядом, держа традиционный букет из полевых цветов, которые так любила Алла, стоял улыбающийся, худой и очень высокий дядя Вова. Эта пара смотрелась немного комично, но общая радость объединяла их, делая единым сгустком доброй энергии.
Потом был праздничный стол, долгие разговоры и, конечно, песни. Аллочка и Надя пели на два голоса тихо, душевно, мелодично и Аня, лежа в кровати в соседней комнате, готова была слушать это пение вечно.











