Читать онлайн Травма, ПТСР, КПТСР: практическое руководство для перезагрузки мозга и тела после психологических потрясений
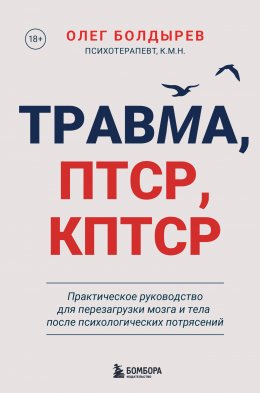
© Болдырев О.Ю., текст, 2025
© Давлетбаева В.В., иллюстрации, 2025
© Казаринова М.Д., обложка, 2025
© Оформление. ООО «Издательство «Эксмо», 2025
Эту книгу я посвящаю в первую очередь своей жене, Ирине. Без твоей любви, терпения и веры ее написание было бы невозможно, как и исцеление, с прохождением всех тяжелых периодов депрессии от тех последствий травм, которые были нанесены в детстве и юности. Твоя бесконечная сила и вера в меня в самые темные моменты моей жизни, нежность, забота и любовь давали силы делать следующий шаг, когда казалось, что сил и смыслов больше не осталось.
Эту книгу я также посвящаю своей дочери, Верочке. Твое появление на свет было настоящим чудом, родная. Я верю, с твоим рождением, а также с моими знаниями и опытом у нашего рода появился шанс изменить передающиеся из поколения в поколение разрушительные последствия комплексных психотравм и защитить его от вымирания вследствие невидимого и коварного врага, который скрывается внутри нас.
Конечно, я благодарен своему роду, моим прадедам и дедам, родителям, которые дали мне возможность появиться на свет, их стремлению, несмотря ни на что, жить и быть людьми в самом широком понимании этого слова.
Я бесконечно благодарен всем моим учителям, терапевтам и наставникам, которые искренне стремились помочь. Я также благодарен им за те ошибки, которые совершались мной в поиске путей для исцеления. Именно они со временем открывали мне всю сложность положения людей, живущих с недиагностированными симптомами посттравматических нарушений.
Я благодарен судьбе за то, что на моем пути встретился талантливый и терпеливый редактор моей рукописи и прекрасный человек Василевская Анастасия – с тобой мы сделали почти невозможное.
Часть 1
Твоя другая сторона, или Жизнь в травме
Глава 1
В лабиринтах страданий
О психическом здоровье не принято говорить, но без него нельзя считать человека здоровым. Существует огромное количество факторов, влияющих на мысли, чувства и поведение. Мы воспринимаем и познаем мир сформированными ранее когнитивными структурами. Нам говорят: нужно быть счастливыми, сильными, успешными, независимыми. Однако правда в том, что мы живем в быстро меняющемся мире, полном различных вызовов, подчас агрессивном и непредсказуемом, где всевозможные события определяют дизайн нашей психики и жизни в целом.
Надо бы честно признать, что в жизни есть место страданию, оно – такая же ее часть, как и радость. Мы неизбежно сталкиваемся с горем, утратами, потерями; проживаем кризисы, испытываем боль, иногда – беспомощность. Все это влияет на наше психическое состояние. Однако есть проблема.
Если человек порежет палец или сломает лодыжку, он может оказать себе первую помощь самостоятельно или ему окажут ее близкие. Иногда необходимо вызвать скорую, и кому-то спасут жизнь врачи-реаниматологи. Затем многим людям требуется длительный период реабилитации для восстановления утраченных функций. Но если при проблемах с физическим здоровьем большинство без стеснений просит помощи, то в случае психических травм дело обстоит иначе.
Зачастую люди не обращаются за психологической помощью, потому что не хотят выставлять напоказ свою уязвимость.
Если мы ощущаем беспомощность, находимся в смятении и не справляемся с трудностями, то можем почувствовать себя потерянными, уязвимыми и стыдимся этого. В обществе считается позорным думать о самоубийстве или мучиться от депрессии. Быть посмешищем – это один из самых больших человеческих страхов, а отвержение обществом – худшее, что может произойти с нами, ведь люди – социальные создания. И психические проблемы воспринимаются как «постыдные» и даже «заслуженные».
Во множестве ситуаций вы можете ощущать себя практически беззащитными. Человечество страдает от войн, пандемий, экономических кризисов и стихийных бедствий. Люди остаются без крова, пропитания и средств к существованию. В нашем мире происходят немыслимые с разумной точки зрения вещи; подчас люди проходят через крайние формы унижения и агрессии. Детей насилуют самые близкие родственники, у солдат отрезают гениталии на фронте. Но и в «обычной» жизни есть место потрясениям. Нередко детей наказывают и бьют дома, а если нет рукоприкладства – может быть критика и недовольство результатами, например, учебы. Кто-то ощущает себя преданным, поскольку из семьи ушел отец. Все эти события, от «представить страшно» и до «что поделать, у всех так», влияют на то, что происходит в жизни человека через месяц, год, десятилетия.
Мы создали в обществе нормы и правила, которые не дают людям делиться своей болью.
Люди не знают, с кем поговорить о том, что с ними произошло, кто и как может помочь в их ситуации. Стоит попытаться рассказать, что вам плохо на душе, и получите негативную реакцию либо игнорирование ваших чувств. Ярлыки позора при психических проблемах заставляют стыдиться и маргинализируют людей. Это главная причина, почему большинство не обращается за помощью и пытается бороться в одиночку.
Аналогично: если кто-либо из близких имеет проблемы с психическим здоровьем, проходит через кризис, испытывает депрессию, страдает от химической зависимости – это шокирует и травмирует родственников. Мы чувствуем стыд и вину за других, а себя начинаем считать неудачниками, так как должны были что-то сделать и как-то помочь, но не сделали. Или же делали, но не справились.
И это понятно. Ведь помочь себе или близким можно, лишь разобравшись в проблеме и исцелив ее.
Как и в случае с физическими травмами, при психических необходим различный уровень помощи.
Зачастую людям просто нужно, чтобы их выслушали. Это могут сделать близкие, если будут чуткими и внимательными. Иногда безопасные, стабильные и заботливые отношения помогают исцелиться. Всем нам – и вам лично – важно знать, какие надо иметь навыки и как проявлять стойкость, чтобы не просто сталкиваться с проблемами, но и преодолевать их.
Во многих ситуациях не нужно ставить диагнозы с ходу и начинать лечить медикаментозно. Важно найти безопасный и эффективный подход, который позволит освоить методы самопомощи; научиться принимать перемены, взлеты и падения, трудности, формируя новые привычки и образ жизни, который улучшает психическое здоровье. Дело не только в лечении, хотя оно часто необходимо. Дело в ментальной гигиене.
Психическое здоровье можно развивать так же, как и физическую форму.
Иногда это очень сложно. Некоторым потребуются серьезная длительная терапия и реабилитация, на исцеление могут уйти годы. Человеческий мозг и тело должны проработать травмы, боль, горе, утраты. При этом единого пути лечения нет, надо изучать каждый индивидуальный случай, уделять внимание конкретному человеку, его ресурсам и уязвимостям.
Я уверен, что эта книга даст вам шанс улучшить свое психическое здоровье, даже если оно находится в пределах нормы, научит поддерживать самих себя и других, придаст эмоциональных сил и повлияет на качество жизни как отдельно взятого человека, так и на благополучие всего социума в целом.
Все это я знаю на собственном опыте, а не вывел теоретически, начитавшись книг.
Мои личные испытания начались с гипоксии плода – постоянной нехватки кислорода в утробе матери. Родившись, я оказался в советском окраинном районе одного из крупных городов, в обычной дисфункциональной (как я понял через долгие годы) среднестатистической семье. Затем мой путь продолжился в неспокойные 90-е – во времена кромешного насилия и беспросветности. В те годы разрушилась плановая экономика, страна распалась на части, и 148 млн человек прошли через нищету, беспощадный криминал и полную неопределенность со всеми вытекающими последствиями. Кроме того, моими испытаниями были жесткие наказания с избиениями от родителей, несколько черепно-мозговых травм и химическая зависимость в тяжелой форме.
Выжив, пройдя через тяжелые уроки, получив высшее медицинское образование и защитив кандидатскую диссертацию по психиатрии, я могу поделиться с вами своими теоретическими знаниями, практическим опытом и большим набором психотерапевтических и других технологий саморегуляции живой функциональной системы под названием «ЧЕЛОВЕК». Тем, что обычно называют исцелением.
На пути личной эволюции в борьбе за жизнь я обучался методам и практикам саморегуляции и адаптации у лучших наставников, консультантов, врачей, психиатров, психотерапевтов, психологов, биохакеров, генетиков, шаманов, йогов, инструкторов цигун и тренеров личностного роста. В дальнейшем эти интегрированные в мой опыт знания я передал людям: создал программы, которые сегодня используют десятки, а может, и сотни центров реабилитации на всем постсоветском пространстве. Это помогло тысячам людей спастись и восстановить нормальную жизнь в самых, казалось бы, безнадежных ситуациях. Обучая врачей, психологов, консультантов, пациентов и их родственников, которые столкнулись с тяжелейшими последствиями психотравм, я не останавливался в поиске знаний и получал опыт собственного психологического и физиологического исцеления. И сейчас продолжаю передавать систематизированные знания – просто потому, что не могу этого не делать.
На профессиональном пути я столкнулся с большим количеством людей из самых разных социальных слоев, имевших различные эмоциональные и психические проблемы. Их объединяло наличие психических травм различной степени тяжести, что самым разрушительным образом влияло на их жизнь и жизни их близких. Однако было еще кое-что общее – даже если они пытались обратиться за психологической помощью, пройти психотерапию, то словно бились в закрытые двери.
Еще 27 лет назад, во время обучения на кафедре психиатрии медицинского университета, я был поражен тем, как мало психиатры знают о причинах болезней, которые пытаются лечить (и часто безуспешно), и как невероятно сложно устроен человеческий мозг. Наука и сейчас не может ответить на вопрос: почему, если человек стремится к счастью (каждый хочет быть счастливым, спросите себя и кого угодно!), депрессией – заболеванием, основным признаком которого является утрата способности получать удовольствие от жизни, – страдает (по оценкам Глобального обмена данными в области здравоохранения) 251–310 млн человек во всем мире?
Осенью 2023 года Агентство стратегических инициатив (АСИ) выяснило при помощи соответствующего исследования: в России в состоянии депрессии находится около 15 млн человек – по сути, 10 % всего населения!
По данным ВОЗ, на 2023 год число зарегистрированных самоубийств в мире – около 700 тыс. в год. Иными словами, каждые 45 секунд кто-то из людей, населяющих Землю, преднамеренно сводит счеты с жизнью, причем особенно распространенными причинами являются клиническая депрессия и злоупотребление психоактивными веществами. Обратите внимание, в статистике учитываются лишь «успешные» случаи, попыток – существенно больше.
Благодаря многочисленным статистическим данным мы можем увидеть корни проблемы.
ВОЗ и мировые социальные организации сообщают:
• ежегодно с насилием в той или иной форме сталкивается каждый второй ребенок в возрасте 2–17 лет;
• насильственные поступки в отношении детей присутствуют примерно в 60 % случаев домашнего насилия;
• 90 % детей являются непосредственными свидетелями насилия в семье;
• среди подростков в возрасте от 9 до 12 лет 49,8 % подвергались травле в школе, а 14,5 % – в интернете.
До понимания однозначных причин психических расстройств и создания эффективных моделей помощи людям еще очень далеко, но…
Результаты многих исследований уже сейчас позволяют сделать вывод, что психологические травмы в детстве получают практически все люди, просто с разной частотой и «глубиной».
Устойчивость к психологическим травмам бывает разная, но в детском возрасте прорабатывать их осознанно не получится – если даже забыли сам момент возникновения травмы, последствия останутся. По мере накопления жизненного опыта и столкновения с различными вызовами развиваются посттравматические расстройства – зачастую незаметно для вас. На их фоне формируются осложнения в виде депрессии, бессонницы, панических атак и различных зависимостей, девиантного поведения. Что, в свою очередь, способствует получению новых психологических травм у вас самих и окружающих.
Изучая научные определения психической травмы, можно встретиться с самыми разными концепциями и подходами. Но давайте начистоту: что обычный разум нарисует, читая эти строки, ассоциированные с болью, стрессом, шоком? В голове, скорее всего, возникнут картины войны, взрывов и других запредельных ситуаций. Ведь научные медицинские официальные ресурсы сегодня связывают возникновение посттравматического стрессового расстройства (ПТСР) со встречей человека с объективно опасным для большинства людей воздействием. Это, безусловно, так, однако не отражает проблему целиком.
Понятие посттравматического стрессового расстройства изначально возникло как научный термин по отношению к психоэмоциональным расстройствам среди участников боевых действий – тогда это называли военным неврозом, боевым шоком, вьетнамским синдромом. Затем его несколько расширили на такие ситуации, как захват террористами заложников, изнасилование.
То есть для диагноза ПТСР требовались некая очевидная травма, которую легко выделить в прошлом больного, а также наглядно заметные изменения в психике.
Многочисленные исследования показали: посттравматическое стрессовое расстройство возникает не только у военных, а гораздо чаще, чем предполагалось ранее.
По сути, мы все в обычной, казалось бы, жизни живем как на войне, о которой не принято говорить. Тут нет «фронта», нет каких-либо границ. Психотравму может нанести близкий человек, который к вам очень хорошо относится, – нечаянно. Но травма останется травмой.
Очень важно не зацикливаться на вопросе «кто виноват» и конструктивно подходить к вопросу «как с этим жить». И побеждать. Про это и написана книга.
При наличии неоднократных психологических травм, особенно в детстве, принято говорить о сложном/комплексном ПТСР. Здесь важно понимать: люди, страдающие посттравматическим стрессовым расстройством, обычно не ассоциируют симптомы своего состояния с психоэмоциональной травмой, которая произошла в прошлом.
Психотравмы детства бывают связаны не только с большими шоковыми событиями, такими как война или пожар. Общество как бы не замечает, а по сути отрицает бесконечное количество случаев домашнего насилия, зависимостей, тирании в семьях с ультрарелигиозными или с другими чрезмерными формальными требованиями. Множество факторов, которые не считаются в быту чем-то особенным, могут вызвать развитие ПТСР. Например, если возьмем воспитание детей, то чрезмерные ожидания родителей от ребенка, отсутствие похвалы «просто так», одобрение лишь за заслуги могут привести к его психической травме.
Также велика роль влияния на личность социального внешнего фактора, а в России глобальные потрясения случались слишком часто с начала XX века. Первая мировая война, затем Октябрьская революция, Гражданская война, Великая Отечественная война, война в Афганистане, перестройка и девяностые, война в Чечне, теракты, мировые экономические кризисы, пандемия… Не получается найти хотя бы одного спокойного для страны десятилетия. Итог – десятки миллионов искалеченных и растерзанных судеб. В 2022 году началась СВО – это тысячи солдат и их семей. Какая жизнь их ждет впереди? Какая жизнь ждет их детей и внуков?
Вероятно, вы уже поняли: если смотреть на ситуацию по фактам, непредвзято, найти человека вообще без психических травм крайне сложно. Оглянитесь на собственное детство – подавляющее большинство сможет вспомнить некий негативный опыт, который «всплывает» вновь и вновь, и вы его заново переживаете. А у меньшинства – просто не получится выудить его из памяти, но это никак не означает, что все и всегда было просто замечательно. Конечно, слишком радикально утверждать, что среди всего человечества нет кого-либо без психологических травм – однако тут очень в тему мудрая сентенция «нет здоровых людей, есть недообследованные». И в данном контексте – это, увы, не просто шутка.
Развитие нейронауки показывает: возбуждение в тех зонах мозга, которые были задействованы во время травмирующих событий, сохраняется и легко воспроизводится даже через многие годы, посылая сигналы в гормональную систему производить гормоны стресса. Это оказывает влияние на всю жизнь человека.
Часто, не осознавая психотравмирующих событий в прошлом, люди пытаются притворяться, всячески стараются вести «нормальную» жизнь, в надежде, что это поможет им снова стать собой. Но так не работает. Рано или поздно вытесненные тяжелые события вырываются наружу, иногда шокируя и удивляя. Одни люди скандалят, проявляют агрессию, другие попадают в состояние парализующей тоски и бездействуют, третьи выбирают токсичные отношения, наносят вред себе и окружающим, чтобы «отвлекаться» от мучительного внутреннего состояния, из которого самостоятельно найти выход невозможно. Некоторые травмированные люди жалуются на смутное ощущение пустоты и скуки, наполняющее их, когда они не злятся, не подвержены насилию либо не занимаются чем-то опасным, и неосознанно начинают стремиться ощутить то, что будет отталкивать большинство из нас.
Для многих выходом кажутся алкоголь и другие вещества, которые хоть на короткое время избавляют травматиков от самих себя, а в длительной перспективе приносят лишь больше опустошения и боли. Зависимость приводит и к более тяжелым последствиям, многие обвиняют себя в произошедшем и живут в стыде, ощущая себя сломленными и безнадежными. Так формируется петля обратной связи химической зависимости.
Кроме того, у психически травмированных людей внутренние, заученные мозгом для выживания модели срабатывают искаженно, их карты мировосприятия ведут в ошибочном направлении. Пережившие травму склонны проецировать ее на все вокруг, они испытывают сложности с интерпретацией происходящего.
Многие ходят по замкнутому кругу всю жизнь, мучительно перебирая формы компенсаций (психиатры могут это назвать, например, пограничным расстройством личности или нарушением социальной адаптации). Но, по сути, они в ловушке травмы.
События прошлого определяют настоящее и будущее человека, влияя на восприятие, оценку, анализ, решения и действия в настоящем. Люди застревают в том месте, из которого им отчаянно хочется сбежать.
После перенесенной психологической травмы – независимо от того, стала ли она результатом каких-то действий по отношению к человеку или его собственных поступков, – практически всегда сложно поддерживать близкие отношения. Как можно, пережив нечто немыслимое, научиться доверять миру, себе или кому-то другому? В этом случае человек начинает делить окружающих на тех, кто «пережил и понимает», и тех, кто «не пережил подобного и поэтому не понимает и понять не сможет». Так формируется мнение, будто людям, не имевшим опыта и болезненных воспоминаний, доверять нельзя, ведь они могут осудить, отвергнуть. К сожалению, к таковым зачастую в сознании травматика относятся специалисты, врачи, психотерапевты, супруги, друзья и коллеги.
Изоляция и неготовность получить помощь – это мощнейший барьер на пути исцеления.
Когда психически травмированные люди все-таки находят возможность обратиться за помощью к профессионалам, их клеймят различными «стыдными» диагнозами, характеризующими текущее состояние.
Даже те, кто пережил пролонгированное воздействие стресса и множественные травмы, обращаются к психологу или психотерапевту по иной причине, лежащей на поверхности, – например из-за проблем в отношениях, панических атак, неудач, тревоги, алкоголизма. Однако изначальная травма и жизнь в длительном стрессе без восстановления остаются в тени. Часто травма вытеснена из сознания, пациенты просто не могут вспомнить болезненных событий прошлого.
В таких случаях сложно поставить диагноз: человек не понимает связи между текущими проблемами, нейросоматическими и социальными, и не рассказывает про теневую изнанку детства. Получается, что специалист пытается излечить следствие, а не причину, – в результате настоящая проблема не решается, а все прочнее закрепляется в бессознательном, оказывая деструктивное влияние буквально на все сферы жизни человека.
Хорошие новости тоже есть. Выздоровление реально! Хотя это длительный и трудоемкий процесс, зависящий от многих факторов. Могут уйти годы соблюдения определенных протоколов и алгоритмов. Кому-то повезет, и семья найдет специалистов, которые действительно разберутся с причинами и подберут индивидуальные стратегии терапии.
Очень опасно, обратившись за помощью к профессионалу (а в нашей культуре это означает, что совсем уж «припекло» и проблема реально мешает жить), получить, скажем так, расплывчатый диагноз текущего состояния и терапию отдельных симптомов – фрагментированно и несистемно. Кроме того, человек приобретает очередную травмирующую проблему: «Я теперь псих, с диагнозом».
Специалисты не виноваты. Их так учили по учебникам на кафедрах психологии или психиатрии. Без большого клинического опыта (примерно 10 000 часов) знания врача-психотерапевта или психолога (кстати, не путайте!) будут очень узконаправленными. У большинства такие ограниченные взгляды остаются на весь период профессиональной деятельности.
Для работы с ПТСР необходимо обладать большим арсеналом знаний, опыта, технологий и методик, чтобы составить индивидуальную интегративную модель терапии.
Опыт и время научили меня, что сопричастность, человечность, внимание, открытость и желание помочь – базовые элементы излечения. Люди с ПТСР часто остаются без помощи именно потому, что верят – им не смогут помочь.
Чаще всего люди обращаются ко мне не за излечением психических проблем. Они приходят, поскольку у них есть сложности в коммуникациях с собой, другими людьми и с миром, их жизнь вышла из-под контроля, и они не знают, как его вернуть. Пациенты могут жаловаться на депрессию, потерю сил, тревогу, апатию, вину, стыд, отчаяние, но корневая проблема в том, что все стало слишком сложным и не хватает ресурсов разобраться с происходящим.
На этом можем закончить закончить обобщения и разговоры о каких-то людях. Ведь речь может идти конкретно о тебе или твоем близком, дорогой читатель, иначе бы ты не взял в руки эту книгу.
Итак, возможно, ты заблудился, боль и хаос лишили тебя радости и сил, и ты не знаешь, куда идти.
«Психологическое правило гласит, что, если внутренняя ситуация не осознается, она превращается во внешние события».
К. Г. Юнг
В психотерапии лечит правда. Когда терапевт ставит человека лицом к лицу с тем, чего он избегает, проживается момент истины. Это практика спасения, избавления от страдания. Правда начинается с признания проблемы и обращения за помощью.
Пока ты изолируешься и избегаешь, ты проживаешь ложь. Правда – это не то, что говорит человек, а то, как он действует.
Это больно, и да, может быть ужасно мучительно признавать собственную неидеальность, слабость и уязвимость. Иногда услышать диагноз – безумно страшно. Но самое главное – у тебя есть лишь два варианта: смерть от проблемы или потеря иллюзий и выход на битву на неизведанную территорию – хаос. Поэтому важно понять: весь твой выбор сохраняется до меньшего из двух зол. И прекрасно, что он есть! Люди, кончающие жизнь самоубийством, делают это, поскольку им кажется, будто выбора нет. А у тебя есть. Ты можешь сделать первый шаг, начать упорядочивать хаос, вступить в битву и победить. Иногда это все, что ты можешь. Если другого пути нет, тогда желаю тебе удачи в бою. Пойми, какие бы трудности жизнь ни подбрасывала, она все равно лучше, чем смерть. Хаос может стать катастрофой или новой реальностью и жизнью.
Решение проблем, пусть даже это сложно и страшно, – неизбежно в жизни. У тебя есть выбор: сражаться или отказаться от борьбы. Выбор твой, но лишь в первом варианте есть шанс победить и выжить.
Сними розовые очки своих иллюзий и иди вперед. С картой маршрута и сложностями на пути разберемся вместе.
В этой книге я выступлю в роли популяризатора психического здоровья. Прошу, не пугайся новых терминов и непонятных слов. Я постараюсь сделать все, чтобы книга была доступна большинству думающих людей. Основная задача, которую я ставлю перед собой, – это не научные обоснования, а передача надежды страдающим от когнитивных, психических и эмоциональных расстройств людям, нуждающимся в помощи. Уверен, при достаточной готовности ты сможешь применить и интегрировать в свою жизнь те протоколы, методики и практики, которые помогли исцелиться лично мне и множеству моих пациентов.
Мы все меняемся. Каждое мгновение. Мы не остаемся прежними. В течение жизни ты не раз болел и заболеешь еще. Вполне вероятно, перенесешь тяжелые заболевания, некоторые болезни станут хроническими. Ты не раз будешь терять близких, вполне вероятно – деньги и работу. И не только ты – это верно и для родных, друзей и знакомых. Ты обязательно столкнешься с личными испытаниями, зачастую тяжелыми, и проявишь лучшие качества и слабости. Твой старый мир перестанет существовать в любом случае. Но сможешь ли ты построить новый? Мне бы хотелось, чтобы смог. И я помогу.
Только тебе решать: происходящее с тобой сейчас станет для тебя гибелью или же возможностью. Готов ли ты к построению новой структуры и новым перспективам эволюции собственной жизни? Если считаешь, что готов – читай книгу дальше! Если еще нет – все равно читай: информация может перевести твою жизнь на качественно новый уровень. Вдруг ты что-то нечаянно забыл…
И знаешь, что я тебе скажу? Жить просто по инерции – больше не прокатит.
Со всей любовью, к. м. н., психиатр-нарколог, психотерапевт Олег Болдырев.
Глава 2
Мир, в котором люди получают травмы, и травмы, которые создают этот мир
Исторически сложилось так, что, говоря о психической травме, общество признает лишь яркие, крайние варианты – стихийные и военные действия, террористические акты, преступления против личности – изнасилования, похищения, плен. В крайнем случае – автомобильные аварии.
С большой неохотой мы начали признавать такие травмирующие факторы, как семейный абьюз, сексизм, бедность, буллинг, дискриминация, алкоголизм, наркомания, безработица, отсутствие социальной защищенности. Современное общество вообще склонно игнорировать длящиеся малозаметные, ставшие обыденными жизненные особенности.
Мы привыкли отрицать глубинную усталость от скорости современной жизни, уязвимость, запуганность дефицитом и информационным насилием, внешними врагами, пандемиями, экономическими кризисами и курсами валют.
Огромный пласт насилия, проникший во все слои и культуры общества, тих и незаметен. Современные реалии диктуют быть целеустремленным, сильным, несгибаемым. Таких людей достаточно. И все же многие начали признавать свою апатию, отсутствие радости, одиночество, изоляцию – времена пандемии COVID–19 этому способствовали. Проживая карантин, общество погрузилось в депрессивный период, и кто-то так и не вышел из него.
Возьмем, казалось бы, безобидное потребительство, которым всемирный маркетинг буквально пронизывает окружающую нас реальность. Суть системы – незаметно втянуть большинство людей в гонку «Покупай быстрее, покупай дороже, покупай больше!». Все это – реализация примитива социальных игр, основанных на рефлексах поиска удовольствия и ухода от боли. Надо соответствовать картинкам из журналов и соцсетей, а иначе… боль… ведь ты – неудачник. Поэтому – быстрее, выше, сильнее. Мало! Еще успешнее, еще быстрее!..
Мы, как общество, в целом признавая, что стресс вреден, игнорируем и отрицаем его.
И если в жизни кто-то рядом с вами не справляется и попадает в депрессию, кажется, что человек такой: слабак, пассивный, неудачник, странный какой-то, больной, что ли. Ведь «нормальные люди» должны быть позитивны, здоровы, упорны, настойчивы, успешны; они управляют стрессом и живут счастливо, а если что-то в жизни негативное и происходит, они быстро адаптируются и приходят в норму.
Стоит ли удивляться, что люди отрицают наличие у себя травм?
Вместо этого даже принято гордиться причинением их себе, например, работой на износ: «Я вчера только четыре часа спал, работал, голову не поднимал!» или: «Да я в отпуске три года не был!»
Можно сказать, мы одновременно страдаем от стресса, причем понимаем это (кто же против выспаться и отдохнуть наконец-то?), и сакрализируем его: мол, как же без стресса жить-то? Не выживешь… ну, или выживешь, но так, еле-еле!
Вы, вероятно, наталкивались на рекомендации «преодолеть себя», «выйти из зоны комфорта». А можно сначала хоть одним глазом заглянуть туда, в эту зону комфорта?
Хуже того: общество постоянно лицемерит. Настоящими ценностями заявляются семейные, личностный рост и саморазвитие, психическое, ментальное и физическое благополучие, «баланс труда и отдыха». На самом деле человек в современном мегаполисе работает как белка в колесе, а на что-то личное приходится выделять ресурсы по остаточному принципу, причем остаток может быть равен нулю. Хотя бы выспаться – уже счастье. Хронических трудоголиков на рабочих местах ставят всем в пример, хотя трудоголизм в подавляющем большинстве случаев – одна из неосознанных разрушительных стратегий, чтобы справиться со скрытыми психотравмами и внутренним глубинным страхом «не выжить».
Давайте посмотрим на мир, в котором нас угораздило очутиться, объективно. Мировые религии давно признают, что в «нормальном» состоянии ума у большинства людей есть ярко выраженный элемент дисфункции и даже безумия. Согласно христианству, нормальным коллективным состоянием человечества является состояние первородного греха[1]. В буддизме есть понятие «дукха» – несчастье, страдание, неудовлетворенность, которую порождает ум. В индуизме эта форма коллективного психического безумия называется майей – «завеса, иллюзия, заблуждения ума».
И это коллективное безумие легче всего распознать в истории XX столетия. Войны и геноцид, обусловленные страхом, завистью, алчностью и жаждой власти, в XX веке унесли более 100 млн жизней. Именно могучий человеческий интеллект придумал танки, химическое оружие и ядерную бомбу.
Люди страдают друг от друга больше, чем от природных катастроф.
Интеллект на службе безумия. И оно, как видите, не ослабло, а продолжается и в XXI веке. Бо́льшая часть человеческой истории лежит в проявлении безумия как обычного состояния людей.
Если бы безумие человечества было историей отдельно взятого человека, ему бы поставили следующий диагноз: «хронический параноидальный бред, патологическая склонность к убийствам и актам запредельного насилия и крайней жестокости в отношении кажущихся врагов, обусловленная проекцией его собственной неосознанности во внешний мир».
Если брать отдельную человеческую жизнь, корень этого дефекта ума – в обусловленности средой травматизации и дальнейшей реконструкции травм, затем передающихся потомкам.
Духовные учения говорят, что эту врожденную дисфункцию можно трансформировать (пробуждение, спасение, просветление). Я, как доктор, скажу вам: исцеление психики и жизни начинается с признания факта проблемы и обращения за помощью. Но сейчас о другом.
Как вы уже понимаете, разные виды травмирующих ситуаций влияют на людей неодинаково. Причем как они действуют на одного человека очень разнообразно, так и одно и то же травмирующее событие действует на нескольких отдельно взятых людей индивидуально.
Психические травмы, в отличие от физических, могут затрагивать людей, которые не являлись непосредственно участниками происшествия.
Увидев в новостях, как террорист расстреливает в упор беззащитных людей в «Крокус Сити Холле» 22 марта 2024 г. в Москве, многие ощутили внутреннее напряжение, которое усилило симптомы проявления их психоэмоциональных травм. Кто-то почувствовал возрастающую тревогу, другой ушел в запой, третий поскандалил дома, кого-то одолела бессонница или мучили ночные кошмары, пятый начал избегать киноконцертных залов или метро, а шестой провел еще неделю жизни в интернете, изучая новости и обсуждая их. Но почти никто не свяжет собственные проблемы с просмотром шокирующих новостей – это естественно. Мы – каждый из нас и как общество в целом – избегаем, отрицаем и всячески пытаемся игнорировать боль и наличие травм.
Травмы, как и сами травматические ситуации, бывают разной степени тяжести. Как сравнивать психотравмы спецназовца, который пять лет провел в плену, голодал, подвергался пыткам, например, с психологической травмой подростка из-за того, что ему в резкой форме отказала любимая девушка? Как сравнить психотравмы взрослой женщины, изнасилованной в детстве близким родственником, с психотравмой ребенка, у которого из семьи ушел родной отец?
Глобально можно выделить два вида психических травм (Л. Терр).
1. Однократные травмы – случайные, недолго длящиеся, неожиданные или внезапные события, угрожающие жизни и здоровью.
Это изолированное, редкое травматическое переживание оставляет неизгладимый след в психике. Сюда относятся шоковые ситуации, несущие угрозу и требующие для адекватной реакции высокую психологическую устойчивость, которая мало у кого есть. Поэтому подобные травмы часто приводят к ярким воспоминаниям и навязчивым мыслям о травмирующем событии, избеганию факторов, напоминающих о нем, напряжению, раздражительности и агрессивности. Люди, перенесшие однократную травму, нередко склонны «создавать» в своей жизни повторное переживание травматического опыта.
2. Хронические травмы – комплексные, постоянно повторяющиеся ситуации, вызывающие чувства бессилия и беспомощности.
Сначала травма переживается по первому типу, но, когда аналогичное травматическое событие происходит вновь и вновь, жертва начинает испытывать страх его повторения и одновременно чувство беспомощности. В результате воздействия травмы второго типа полностью меняется дизайн психики, что приводит к искажению восприятия человеком себя и мира и сопровождается чувствами вины, стыда и снижением самооценки. Сюда можно отнести и травмы отношений/развития – когда ребенок сталкивается в детстве с неблагоприятным опытом вроде пренебрежения, покинутости, депривации, жестокого обращения, который оставляет след в уме, душе и теле. При такой травматизации возникают долгосрочные проблемы личностного характера, что проявляется в обособленности от других, диссоциации, отрицании, попытках защиты от тяжелых переживаний (злоупотребление алкоголем и др.), вызывает дальнейшую виктимизацию (усугубление и отягощение состояния жертвы). Все это угрожает жизни и здоровью человека.
Также выделяют:
• большие травмы «Т» – возникают при встрече человека с катастрофическими, опасными для жизни и крайне тревожными событиями (война, пожар, сексуальное насилие или свидетельство смерти или травмы других людей);
• малые травмы «т» – относятся к относительно менее масштабным, более личным, тревожным событиям, через которые каждый может пройти в какой-то момент жизни. Они часто не опасны для жизни и не оставляют очевидных «рубцов». Это может быть стрессовый переезд, вынужденная смена работы или увольнение, травма, не представляющая угрозы для жизни, хроническая боль, работа у трудного начальника, чрезвычайная финансовая ситуация или сложный развод.
Мне нравится классификация известного немецкого специалиста по терапии психотравм, профессора Ф. Рупперта. Он расширяет и углубляет понимание травматизации и считает важной причиной травм психики эмоциональные конфликты. С его точки зрения, травмы прежде всего задевают чувства. Формируется «доминирующее переживание», которому надо найти возможную альтернативу для переработки и интеграции его психикой в автобиографическую память человека.
Также мне близок взгляд Лиз Бурбо, канадского философа и психолога. Она выделяет пять видов травм: предательство, отверженность, покинутость, несправедливость, униженность. Они мешают человеку быть собой и приводят к различным психосоматическим проявлениям. Хотя, конечно, это спорно, поскольку уровень важности, который человек может придать покинутости или предательству, может граничить с опасностью для жизни.
Чем раньше произошла травма, чем больше человек был изолирован от социальной и квалифицированной помощи, тем глубже ее воздействие на личность.
Травмы можно классифицировать и дальше. Простите за мое занудство, однако это минимум, чтобы ваше сознание вывело травмы из категорий тяжелых шоковых («со мной ничего особенно страшного не случалось и, дай бог, не случится») или перестало обесценивать их наличие и последствия («ну со всеми почти такое бывает, ничего страшного; переживем – и не такое переживали; детство прошло давно, это все глупости; просто надо собраться»). Я искренне надеюсь, что у вас вместе с изучением, идентификацией и осознанием проблемы уйдет и часть отрицания травм, а также сопротивление к исцелению. В самом начале нашего пути я предупреждал: он не будет простым. Но это не означает, что он будет не интересным.
Вы со мной? Идем дальше! Бывают также:
• травма утраты (от смерти близких и до перспектив в карьере);
• травма развития (обычно из детства);
• экзистенциальная травма (следствие угрожающих жизни ситуаций);
• травма идентичности (человек играет роли и носит маски, но при этом полноценная собственная идентичность не формируется);
• травма отношений (включая их разрыв);
• травма отвержения (измены, предательство, изгнание);
• травма из-за проблем со здоровьем;
• травма физического насилия;
• травма в области сексуальности;
• травма непоправимой ошибки (человек считает совершенный им некогда поступок аморальным и неисправимым);
• психотравма как следствие травли в школьном коллективе;
• психотравма как следствие травли в рабочем коллективе;
• травма нарциссического типа (обычно следствие обесценивания или же идеализации ребенка, неприятие его таким, какой он есть).
Любая психологическая травма заставляет человека выбирать методы ее преодоления:
• либо неосознанно компенсаторный, виктимный, невротический;
• либо жизнестойкий, когда боль травмы приводит человека к развитию личности.
Есть разные определения психических травм, но мне хочется дать свое, так как ни одно из тех, с которыми я встречался, не объясняли, в моем понимании, суть травмы до конца.
Психическая травма – это последствия незавершенной острой стрессовой реакции организма на психотравмирующее воздействие (или серию таких воздействий) со стороны внешней среды, выходящее за рамки обычных индивидуальных человеческих переживаний, воспринятое осознанно или неосознанно психикой как опасное для жизни и/или целостности, приводящее к сильному психофизиологическому потрясению и трансформации индивидуального особого взаимодействия человека и окружающего мира.
Травма – это не событие. Это отпечаток события из прошлого, который создает проблемы в настоящем.
В современной психиатрии и психологии есть много разных интересных теорий психотравм, но ни одна не в состоянии объяснить индивидуальные проявления и предсказать «букет» симптомов. Однако все они так или иначе завязаны на стресс.
Чаще всего люди обращаются ко мне за помощью после стрессовых событий только с появлением ярко выраженных последствий, таких как зависимость, панические атаки, интрузии (об этом симптоме поговорим далее). Травмированным людям трудно проходить терапию: они не верят, избегают, отрицают, уходят в зависимости, используют другие травматические паттерны совладания. Настороженность, выученная беспомощность, глубоко спрятанное мышление жертвы снижают личную активность человека, его функции и социализацию в целом.
Чтобы разобраться со всем этим многообразием психотравм и их проявлений, предлагаю начать с самых истоков.
Рождение
Время спасать вашего неродившегося ребенка начинается до беременности.
ИНДИЙСКАЯ ПОГОВОРКА
Очень много вводных данных и базовых условий могут влиять на будущую жизнь человека – наследственность в каких психофизиологических состояниях находились мама и папа в момент зарождения жизни, какие у них отношения (зрелые, в любви, поддержке и заботе, или когда пара перепутала гормональный взрыв влюбленности с глубокими чувствами), совместные перспективы, какой жизненный опыт лежит за их плечами, какие отношения у них в родительских семьях.
Важно и то, что происходит во время беременности. Будущая мать-одиночка может вынашивать ребенка, работая; жить в условиях плохой экологии. А в полной семье папа – пропадать на работе, испытывать усталость, переутомление и стресс от адаптации к новым условиям жизни. Или, возможно, ожидание малыша проходит в гармонии, любви и поддержке.
Беременность и роды – волшебный, но достаточно сложный процесс.
На эту тему существует множество концепций. С моей точки зрения, «перинатальные матрицы» Станислава Грофа, одного из основателей трансперсональной психологии, очень красиво показывают, что происходит с плодом на разных этапах его созревания и рождения.
Этап первый – до рождения
С. Гроф в своих работах назвал жизнь плода внутри материнского организма «амниотической вселенной». Мама и ее будущий ребенок – одна функциональная система. От условий пребывания зависит содержание 1-й базовой перинатальной матрицы (БПМ–1). Если в организме матери все в норме, плоду уютно и спокойно, БПМ–1 будет наполнена ощущением безмятежности, покоя и радости, легкости, переживанием отсутствия препятствий.
Когда будущая мать испытывает постоянный стресс сильнее естественного для беременных, формирующийся организм привыкает существовать в среде с повышенным фоном гормонов стресса, и это оказывает на него негативное воздействие. Если женщина употребляет алкоголь, наркотики или лекарственные препараты с токсическим действием, это обычно приводит к сильным нарушениям развития будущего ребенка, а в содержание БПМ–1 могут добавятся ощущения небезопасности, паранойи, настороженности.
Этап второй – предстартовая подготовка
Наступает, когда родовые пути еще не открыты, а схватки уже пошли, матка сжимается и плод ощущает дискомфорт, нехватку кислорода, запускается «предстартовая подготовка». С. Гроф назвал этот этап «космической поглощенностью и отсутствием выхода». Первая в жизни будущего человека динамика. Проблемы прохождения данного этапа (длительные сильные схватки) вполне могут «прописать» в БПМ–2 ощущение беспомощности, тревоги, страха, обиды, гнева, предательства, ненужности.











