Читать онлайн Эйнштейн во времени и пространстве. Жизнь в 99 частицах
- Автор: Сэмюел Грейдон
- Жанр: Биографии и мемуары, Зарубежная публицистика
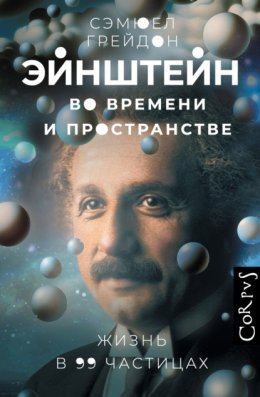
© Samuel Graydon, 2023
© И. Каганова (введение, главы 1–44), Т. Лисовская (главы 45–99, источники информации и благодарности, примечания), перевод на русский язык, 2025
© А. Бондаренко, художественное оформление, макет, 2025
© ООО “Издательство Аст”, 2025
Издательство CORPUS ®
Введение
29 мая 1919 года в небе над островом Принсипи Луна полностью закрыла Солнце – и Земля погрузилась во мрак. Началось полное солнечное затмение. Именно этого момента ждал прильнувший к окуляру астрографической камеры английский ученый, который хотел заснять это событие. И в бразильском городе Собрал, пока было темно, другой ученый тоже судорожно пытался сделать как можно больше фотографий. Оба надеялись зафиксировать искривление света далеких звезд. И им это удалось.
Когда через несколько месяцев на заседании Королевского астрономического общества в Бёрлингтон-хаус они представили свои снимки, рухнуло общепринятое представление о гравитации. Сделанные членами экспедиции фотографии зафиксировали, что, проходя вблизи Солнца, свет звезд, находящихся на расстоянии 153 световых лет от нас в центре созвездия Тельца, меняет траекторию, и звезды кажутся сместившимися со своих привычных мест на небе. Этому могло быть только одно объяснение: в присутствии Солнца искривлялось само пространство. Именно так была подтверждена общая теория относительности. Исаак Ньютон, физик-исполин, был повержен, а его место на пьедестале занял Альберт Эйнштейн – ученый, о котором мало знали за пределами Германии.
Жившему тогда в Берлине Эйнштейну было сорок лет, и седина на его висках была едва заметна. О результатах экспедиции, наблюдавшей солнечное затмение, Эйнштейн узнал незадолго до встречи со студенткой Ильзой Шнайдер. Во время разговора он показал ей телеграмму, где сообщалось, что его теория подтвердилась. Понимая, насколько существенно изменится теперь представление о Вселенной и о законах, ею управляющих, Ильза взволнованно и горячо поздравила Эйнштейна. Но Эйнштейн спокойно ответил: “Я знал, что теория правильная”[1].
Однако Ильза спросила, что было бы, если бы участники экспедиции не увидели отклонения световых лучей? Или отклонение увидели бы, но его величина не совпала бы с предсказанием теории Эйнштейна?
– Мне стало бы неловко перед Богом, – ответил он. – Теория правильная.
Двумя годами позже Эйнштейн отправился в турне по Америке, чтобы собрать средства на помощь сионистскому движению, целью которого было создание в Палестине национального очага для евреев[2]. Он был теперь знаменит настолько, насколько это вообще возможно. В каждом городе, куда он приезжал, тысячи и тысячи людей заполняли улицы, чтобы увидеть его. Толпы поклонников носили Эйнштейна на руках, он встретился с президентом и сделал доклад в сенате о трудности восприятия общей теории относительности. Годом позже Эйнштейну была присуждена Нобелевская премия по физике, и он отправился читать лекции в Азию. В Японии Эйнштейн встретился с императором и императрицей, а огромная толпа всю ночь ждала возле отеля, где он остановился, в надежде увидеть, как великий человек выйдет на балкон. Его лекция в Токио длилась четыре часа без перевода. Чувствуя себя несколько неудобно из‐за того, что подверг аудиторию столь тяжелому испытанию, Эйнштейн следующую лекцию постарался сократить до трех часов. В поезде, по пути в город, где должна была состояться третья лекция, он заметил, что с его хозяевами что‐то не так, и поинтересовался, в чем дело. Выяснилось, что устроители второй лекции были оскорблены, поскольку она была короче первой. И до конца поездки Эйнштейн читал лекции не торопясь, излагал подробно все детали, а аудитория с удовольствием его слушала.
Эйнштейн стал знаменит столь стремительно, был настолько известен, что два американских студента решили заключить пари. Они написали на конверте “Профессору Альберту Эйнштейну, Европа” и отправили письмо. Они хотели узнать, дойдет ли такое письмо до адресата. Письмо дошло, и на это потребовалось не больше времени, чем обычно.
– Как прекрасно работает почта, – только и сказал Эйнштейн[3].
За двадцать лет до этого, в 1902 году, Альберт Эйнштейн перебрался в швейцарский Берн. Ему двадцать три года, лицо по‐юношески округлое. Он энергичен, слегка напряжен и возбужден. Приятеля, с которым он познакомился в Берне, поразил “блеск его больших глаз”[4][5]. Эйнштейн надеялся получить работу в швейцарском патентном бюро и благодаря помощи одного из своих друзей действительно получил ее. Тем не менее дела Эйнштейна шли совсем не блестяще: денег было очень мало, и ему пришлось поместить объявление в местной газете, предлагая свои услуги в качестве репетитора по физике и математике[6]. Но учеников оказалось немного, расценки низкие, и Эйнштейн жаловался, что даже уличному скрипачу заработать на жизнь и то легче. Питался он плохо. Вдобавок меньше чем за месяц до переезда в Берн его гражданская жена Милева Марич родила дочь. Если бы о существовании незаконнорожденного ребенка стало известно, Эйнштейну пришлось бы распрощаться с работой в патентном бюро. Альберт и Милева о рождении дочери не рассказывали никому, даже родителям Эйнштейна. Он знал, что должен жениться, убеждал себя, что хочет этого, но не хватало смелости. Родители давно дали понять, что Марич им не нравится, и он знал, что этот союз они не благословят. Мало того, хотя работа в патентном бюро пришлась очень кстати, поступив туда, Эйнштейн в каком‐то смысле признавал, что потерпел неудачу. Два года после окончания университета Эйнштейн, пытаясь устроиться на академическую должность, рассылал резюме по всей Европе, но везде получал отказ. Необходимо было соглашаться на работу в патентном бюро, но это означало очевидный провал: невозможность заниматься наукой, отказ от любимого дела, приоритет обязательств[7].
Прошло еще пять лет, пока Эйнштейну удалось подняться на самую низкую ступеньку академической лестницы. В поисках работы, устав от постоянных отказов, он предпринял попытку устроиться преподавателем старших классов школы[8]. В качестве рекомендации Эйнштейн послал оттиски всех своих научных работ, помимо докторской диссертации там были статьи о квантах света и о специальной теории относительности. Претендентов было двадцать один человек. В тройку финалистов Эйнштейн не попал.
Может сложиться впечатление, что жизнь Эйнштейна делится на две половины: до и после подтверждения общей теории относительности, иначе говоря, до и после того, как он стал знаменит. Если следовать такой интерпретации, Эйнштейн в молодости был недооценен, но гениален, а в пожилые годы – признан всеми, но вполне зауряден. В чем‐то это соответствует истине. Свои лучшие работы Эйнштейн создал до того, как стал знаменитостью, а в молодые годы он был не слишком приметной фигурой в научном мире. Ему потребовалось девять лет, чтобы стать ассистентом профессора, и даже тогда он не был основным претендентом на эту должность[9].
Правда и то, что, став знаменитым, Эйнштейн написал всего несколько достойных внимания статей. Пожалуй, его последняя действительно важная работа была создана за двадцать лет до смерти, но и она оказалась не столь смелой и новаторской, как его ранние работы: в ней не было попытки объяснить неизвестное, придать новую форму какому‐то научному направлению. Наоборот, работа, основанная на недоверии к новой физике – квантовой механике, была реакционной[10]. Эйнштейн хотел продемонстрировать неполноту квантовой механики, обосновать несостоятельность так называемого перепутывания. С его точки зрения, это явление, теоретически возможное согласно законам квантовой механики, было недопустимо в реальности. Одна из самых замечательных особенностей Эйнштейна заключалась в том, что он был прав, даже когда ошибался. Однако в этом случае постепенно выяснилось, что перепутывание – один из фундаментальных законов Вселенной.
Последние тридцать лет жизни Эйнштейн был занят построением единой теории поля – теории всего, включающей в себя все законы природы, описывающей все: от движения небесных тел до магнетизма и того, что происходит внутри атома. Успеха Эйнштейн не добился, а коллеги-ученые все чаще его игнорировали, считая реликтом, пережитком прошлого.
И все же фигура Эйнштейна гораздо сложнее, и описать ее столь просто нельзя. Все куда интереснее. Его жизнь не сводится только к временам славы и последовавшего затем тихого угасания. При таком подходе начисто отметаются такие, казалось бы, второстепенные факты, как профессиональное признание и успех в Германии еще до публикации результатов, относящихся к общей теории относительности. Не принимаются в расчет поддержка еврейского народа и формирование пацифистского мировоззрения. А между тем перед Второй мировой войной существенно изменились именно эти стороны личности Эйнштейна. Большую часть своих денег он направил на то, чтобы помочь евреям покинуть Германию и эмигрировать в Соединенные Штаты. Кроме того, по инициативе Эйнштейна была основана международная организация помощи беженцам и переселенцам, ставшая известной как “Международный комитет спасения”.
Блеск славы Эйнштейна может помешать объективно оценить его жизнь. Если заранее ожидать от него чего‐то из ряда вон выходящего, можно не разглядеть, какую поистине удивительную жизнь он прожил. На его долю выпал подлинный, почти немыслимый успех. За год, вернее, за полгода с марта по сентябрь 1905‐го, он написал диссертацию, обосновал современное представление о свете как о частицах (заложив тем самым основы квантовой механики) и математически доказал существование атомов. Отказавшись от общепринятых научных представлений, господствовавших несколько сотен лет, он стал автором специальной теории относительности и фактически случайно[11] открыл эквивалентность энергии и материи, что навеки запечатлено в уравнении E = mc2. Все это Эйнштейн сделал в свободное время, работая шесть дней в неделю служащим патентного бюро, не пользуясь библиотекой[12], причем еще и с годовалым сыном дома.
Сверх того, спустя десять лет он стал автором общей теории относительности, сформулировав единую систему уравнений, которая с невероятной точностью определяет законы, управляющие усеянным звездами небом. Практически в одиночку Эйнштейн сформулировал новое представление о пространстве, что позволило точно рассчитать орбиту Меркурия, описать вращение двух звезд друг относительно друга и движение еще тысяч других астрономических объектов. Общая теория относительности столь успешно описывала работу Вселенной, что даже сам Эйнштейн не мог до конца поверить в ее предсказания: он считал, что Вселенная статична, а теория требовала расширения Вселенной. Права оказалась теория. Общая теория относительности настаивала на существовании в пространстве странных объектов, плотность которых столь велика, что ничто не может противостоять их притяжению. Эйнштейн считал это математической ошибкой, которой можно пренебречь. Оказалось, это вполне реальные черные дыры.
Не только в начале, но и в конце жизни Эйнштейна испытания, выпавшие на его долю, были почти столь же драматичны, сколь впечатляющи его достижения. Со временем Эйнштейну и Марич пришлось вообще отказаться от упоминаний о дочери, что серьезно сказалось на их браке. Позднее скандальный развод привел к сложным, мучительным и тягостным отношениям с двумя их сыновьями Гансом Альбертом и Эдуардом. Особенно плохо обстояло дело с Эдуардом, который в двадцать лет пытался покончить с собой, а затем лечился от шизофрении и провел большую часть оставшейся жизни в лечебницах для душевнобольных. Дважды жизнь Эйнштейна была под угрозой. После прихода к власти нацистов уровень антисемитизма, который Эйнштейн ощущал всю свою жизнь, возрос до крайности. Он вынужден был эмигрировать из Германии, оставив там дом, все свое имущество и друзей.
Во многих отношениях Эйнштейн был вполне обычным человеком. Широко распространенная идея о том, что гениальность и помешательство – две стороны одной медали, в его случае не подтвердилась. Эйнштейн не был отшельником: он легко заводил друзей и без труда поддерживал с ними отношения. Он не был одержим одной наукой: интересовался музыкой, искусством, психологией, активно участвовал в политике, открыто выражал свое мнение. Эйнштейн был одним из основателей пацифистской организации “Лига нового отечества”, работал в комитете Лиги наций по интеллектуальному сотрудничеству, был одним из сопредседателей организации “Крестовый поход против линчевания”. Не был Эйнштейн храбрым, мудрым и справедливым стоиком. Он горячо, иногда публично, спорил, когда критиковали его работы, и зачастую – вопреки здравому смыслу.
Более того, гениальность Эйнштейна не была, как может показаться, чем‐то сверхъестественным. Он был гением, это правда. Мало кто в истории способен был научно мыслить лучше, чем он. Зная его работы, утверждать иное невозможно. (Например, одно из его не самых основных достижений – построение теории вынужденной эмиссии, ставшей позднее основой для создания лазеров.) Но он не соответствовал сложившемуся представлению о гении как о вдохновенном, недоступном пониманию человеке не от мира сего. Одно из наиболее подкупающих и неизменных качеств, присущих Эйнштейну, было умение работать – действительно по‐настоящему работать.
Однажды, когда Эйнштейн был ассистентом профессора в Цюрихе[13], к нему домой зашел один из его студентов Ганс Таннер. Эйнштейн сидел в кабинете, склонившись над ворохом бумаг. Правой рукой он писал – решал какие‐то уравнения, левой держал Эдуарда, а на полу, играя в кубики и пытаясь привлечь внимание отца, сидел Ганс Альберт[14]. “Подождите минутку, я почти закончил”, – сказал Эйнштейн[15]. Он передал Эдуарда Таннеру и вернулся к своим уравнениям. Ганс Альберт вспоминал, что плач ребенка не мог отвлечь Эйнштейна[16]. Казалось, работа и служила для него целью, и успокаивала его. После первого сердечного приступа он написал, что “напряженная интеллектуальная работа”[17] и изучение природы могли бы помочь вернуть его к жизни и преодолеть трудности. В другие крайне тяжелые моменты, после смерти его жены Эльзы или во время обострения депрессии Эдуарда, Эйнштейн говорил практически то же самое: работа – единственное, что придает его жизни смысл.
Еще при жизни Эйнштейна люди пытались сформировать свое мнение о нем. Его воспринимали почти как святого, чье моральное превосходство не поколебала слава. После его смерти такое представление о нем укрепилось благодаря Элен Дюкас – бессменной секретарше Эйнштейна, которая по завещанию стала распорядителем его литературного наследства. Но в личности этого человека можно отыскать и много неприглядного. Как видно из его путевого дневника 1922 года, он разделял расистские взгляды многих из тех, с кем встречался в Азии. То же относится и к поездке Эйнштейна по Южной Америке в 1925 году. Кроме того, он постоянно унижал женщин. В личной жизни характер Эйнштейна часто становился причиной малоприятных ситуаций: он был жесток по отношению к первой жене, холоден как отец, склонен к адюльтеру и любил настоять на своем. Однажды Эйнштейн отказался провести выходной с сыном-подростком только из‐за того, что тот осмелился сказать нечто, не понравившееся отцу. Он мог мелочно и злобно третировать всех и вся, кто, в его понимании, ограничивал его свободу.
И все же Эйнштейн был располагающим к себе человеком. В какой‐то мере это связано с тем, что дерзость, умение шутить и радоваться были неотъемлемыми чертами его характера. Плавая по озеру на лодке, он на большой скорости мчался наперерез другим лодкам и, хотя плавать так и не научился, разворачивался со смехом лишь в последнюю минуту, едва избежав столкновения. “Автобиографические заметки” Эйнштейна были самым подробным рассказом о его жизни, когда‐либо написанным им самим. И, называя эти заметки “собственным некрологом”[18], он практически не упоминал в них о себе. Когда врач запретил Эйнштейну курить, он, решив, что если не покупать табак самому, то запрет нарушен не будет, стал таскать его отовсюду, куда мог дотянуться, в том числе из табакерок коллег.
Вероятно, именно дружелюбие Эйнштейна позволяло ему так легко сходиться с людьми. Эйнштейн не только приветливо и доброжелательно относился к незнакомым людям, но и был беззаветно предан, добр и честен по отношению к тем, кто ему нравился. Вне семейного круга трудно отыскать человека, который знал бы Эйнштейна и не был бы к нему расположен. В автобиографии Чарли Чаплина или в интервью уже немолодого Бертрана Рассела, в дневнике немецкого графа или в письмах бельгийской королевы, в воспоминаниях коллег со всего мира неизменно ощущается, что знакомство с Эйнштейном воспринималось как счастливый случай. Трудно было противостоять его обаянию: они все считали Эйнштейна своим личным другом, с удовольствием проводили с ним время и снисходительно, сквозь пальцы смотрели на его неудачи и слабости – и даже прощали их.
Эта книга напоминает мозаику. Здесь биография Эйнштейна составлена из разных по стилю коротеньких главок, где описаны некоторые эпизоды или стороны жизни Эйнштейна. Это могут быть какие‐то истории, рассказы о его научной деятельности или цитаты из писем. Отдельные фрагменты должны сложиться в целостную картину, по‐своему дающую столь же полное представление о человеке, как и портрет, нарисованный в традиционной биографии. Собирая эту мозаику, я не ставил перед собой цель реабилитировать Эйнштейна или выявить основные характерные особенности его личности. Меня больше интересовали присущие его жизни противоречия, непоследовательные и необъяснимые поступки, несообразные, безумные побуждения. Моей целью было нарисовать пунктиром его линию жизни.
Сегодня Эйнштейн в равной степени воспринимается и как научный лидер, и как символ чего‐то большего, чем он сам: научного прогресса, человеческого разума, эпохи. Эйнштейна превозносят за исключительный интеллект, как если бы он знаменовал собой все, на что способны люди. К его образу добавляют нравственную чистоту, беззаботное отношение к своему внешнему виду, к наградам, к тому, что о нем говорят, стремление к истине и миру. В общем, не человек, а бронзовый памятник.
Однако, присмотревшись, видишь, что гений Эйнштейна не затмевает человеческое в нем, что он не столь уж разительно отличается от других людей. Когда в 1929 году была опубликована его работа, где в очередной раз он пытался построить единую теорию поля, в церквях по всей Америке прошли службы, на которых обсуждались последствия работы Эйнштейна для теологии, а “Нью-Йорк Таймс” разослала репортеров во все приходы. Преподобный Генри Ховард, пастор пресвитерианской церкви на Пятой авеню, сравнил последнюю теорию Эйнштейна с проповедями святого Павла о природе единства всего сущего. Но на самом деле эта работа не являлась ни священным текстом, ни творением почти божественного разума – она оказалась попросту неправильной. Вскоре после того, как смолкли фанфары, Эйнштейн признал ошибку. Ошибочны были и остальные работы, относящиеся к построению единой теории поля[19].
Эйнштейн не дает нам забыть, что быть лучшим в какой‐то области – еще не значит быть безупречным во всем. Его добродетели не были атрибутом гениальности, они скорее были благоприобретенными, результатом работы над собой. И это еще поразительнее.
1
Июнь 1878 года, скоро должны загореться огни. В Париже повернули рубильник, и авеню де л’Опера – величественная улица с широкими тротуарами, в конце которой видно здание оперного театра, – внезапно осветилось. Неестественный, ослепительный свет, оставляя в тени верхние этажи, залил фасады зданий, которые построил барон Осман. Собравшаяся толпа потрясенно ахнула: авеню де л’Опера стала первой в мире улицей, где зажглись электрические фонари.
В конце года такие же фонари, так называемые свечи Яблочкова, установили на набережной Темзы в Лондоне. Основанием фонарных столбов служили свернувшиеся гигантские рыбы-чудовища. Вскоре мерцающее призрачное сияние озарило все главные бульвары Парижа, тысячи новых фонарей появились в Лондоне и в некоторых крупных городах Соединенных Штатов.
Как бы хороши ни были свечи Яблочкова, для освещения помещений они оказались слишком яркими. Надо было усовершенствовать электрические светильники, сделав их пригодными для контор, магазинов и квартир. В январе 1879 года английский химик Джозеф Уилсон Суон на лекции в Ньюкасле продемонстрировал успешно работающую электрическую лампу накаливания. В том же году в Менло-Парке, штат Нью-Джерси, Томас Эдисон занялся усовершенствованием своей модели такой электрической лампочки. У Эдисона была своя стеклодувная мастерская, непрерывно снабжавшая его стеклянными колбами. Они были ему нужны. За тот год он, подбирая материал для нити накаливания, провел больше шести тысяч опытов по карбонизации различных растений – всех, какие только мог вспомнить. Среди них были бамбук, лавровый лист, самшит, кедр, гикори и лен. 22 октября 1879 года было подано напряжение на кусок обгоревшей хлопковой нити, свернутой внутри колбы. Лампочка испускала мягкий оранжевый свет и горела дольше, чем полдня. Победила модель Эдисона.
Именно в этом необычно ярко освещенном мире 14 марта 1879 года незадолго до полудня появился на свет Альберт Эйнштейн.
Он родился на юго-западе Германии, в Ульме – старом швабском городе на берегу Дуная. Уже несколько сотен лет в Ульме бытовала присказка: Ulmenses sunt mathematici, что значит “Жители Ульма – математики”. В 1805 году Наполеон в Ульме разгромил австрийскую армию. Когда там жил Эйнштейн, заканчивалось строительство шпиля Ульмского собора, который после окончания работ стал самым высоким в мире. В этом соборе однажды играл на органе Моцарт.
Происходившая из богатой семьи Паулина Эйнштейн была на двенадцать лет моложе своего мужа Германа. Ее отец – торговец зерном Юлиус Кох – был поставщиком королевского двора Вюртемберга. Паулина, образованная и утонченная, не была высокомерной. Она хорошо знала немецкую литературу, была музыкальна: талантливо и с удовольствием играла на фортепиано. Ее считали практичной, работоспособной и волевой женщиной, она обладала язвительным острым умом, а ее саркастические, колкие замечания способны были как задеть собеседника, так и ободрить его.
Герман, как и его жена, происходил из семьи еврейских торговцев. Двести лет Эйнштейны вели свои дела в сельской Швабии, и каждое следующее поколение становилось все больше похожим на немцев. Паулина и Герман считали себя в равной степени и швабами, и евреями, но иудаизмом родители Эйнштейна интересовались мало.
Герман был полной противоположностью своей жены. Интересы этого легкомысленного и покладистого человека были более приземленными. Он любил гулять по красивой местности, заходить в таверны, где ел сосиски с редькой и пил пиво. У этого надежного, крепкого человека были усы как у моржа и квадратный подбородок. В средней школе Герман проявлял способности к математике, и хотя он не мог себе позволить поступить в университет[20], полученное образование открыло ему дорогу в высшее общество. Альберт говорил об отце как о мудром и доброжелательном человеке. И хотя из‐за непрактичности надежды Германа часто рушились, он оставался неисправимым оптимистом.
Летом 1880 года, когда Альберту был один год, младший брат Германа Якоб уговорил его перебраться с семьей в Мюнхен и стать партнером его инженерной фирмы “Якоб Эйнштейн и Ко”. В городке, где жили Эйнштейны до переезда, еще гоняли коров через ратушную площадь, а теперь вокруг бурлила жизнь большого города. В столице Баварии с населением триста тысяч человек были университет и королевский дворец, процветала торговля произведениями искусства.
Сначала братья занимались водо- и газоснабжением и производством котлов, но очень скоро переориентировались на проектирование электрических устройств. В 1882 году Эйнштейны приняли участие в Международной электротехнической выставке в Мюнхене, где демонстрировали динамо-машины, дуговые лампы, лампочки накаливания и телефон, а через три года они первыми осветили электрическими фонарями мюнхенский Октоберфест. Поэтому для маленького Альберта электрическое освещение не было чем‐то абстрактным, результатом технологической революции, происходящей где‐то вдалеке. Электричество было реальным, близким и понятным. Якоб и Герман начали приобщать мальчика к своему бизнесу. Ему рассказывали об особенностях моторов, о применении электричества и света на практике и об управляющих ими физических законах.
Дела компании пошли в гору после того, как братья пустили в оборот деньги из приданого Паулины, им удалось заключить контракты на освещение улиц в ряде городов Германии и на севере Италии. Якоб получил патенты на несколько важных изобретений, и в период расцвета, когда в компании работало до двухсот человек, она была способна конкурировать с такими гигантами, как “Сименс” и AEG. Однако в 1893 году, когда Альберт был еще подростком, удача отвернулась от братьев Эйнштейн: им не удалось заключить контракт на освещение мюнхенских улиц. Фирма “Якоб Эйнштейн и Ко” была единственной в Мюнхене, которая могла справиться с этой работой, но она была еврейской, и этого оказалось достаточно, чтобы братьям пришлось свернуть свой бизнес[21]. Компания обанкротилась, а Герману и Паулине пришлось покинуть свой дом, отобранный за неуплату. Они решили начать все заново в Италии, где перспективы для бизнеса казались лучше.
Электрический свет окружал молодого Эйнштейна: электрические осветительные приборы были и в авангарде современных технологий, и основой семейного бизнеса. И хотя ученые знали, как осветить городские улицы и заставить нити из растительных волокон часами светить золотистым светом, природа света оставалась для них большой загадкой. Вскоре это изменится.
2
УЭйнштейна была сестра. Она родилась в Мюнхене 18 ноября 1881 года. Хотя ее полное имя было Мария, всю жизнь ее называли по‐домашнему – Майя. Когда Альберту сообщили, что в скором времени у него появится сестричка, с которой можно будет играть, он представил себе что‐то вроде игрушки, а не то странное маленькое создание, которое предстало перед ним. Увидев сестру в первый раз, он был страшно разочарован и спросил у родителей: “Да, но где же у нее колеса?”[22]
Однако брат и сестра скоро стали близкими друзьями и всегда оставались таковыми. В жизни Эйнштейна отношения с Майей были одними из наиболее теплых и прочных. В целом их детство было благополучным: обеспеченным, легким и счастливым. Но Герман и Паулина считали, что человек и в своих действиях, и в своих мыслях должен полагаться на себя. Когда Эйнштейну было три или четыре года, его отправили одного гулять по самым шумным, запруженным лошадьми улицам Мюнхена. До этого родители один раз показали мальчику дорогу и теперь считали, что он должен справиться сам. Правда, они все же беспокоились и украдкой следили за ним, готовые сразу прийти на помощь, если что‐то пойдет не так. Но причин для беспокойства не было. Подойдя к перекрестку, Альберт, как подобает, посмотрел сначала в одну сторону, потом в другую, а затем уверенно перешел через дорогу.
По вечерам, когда уроки были сделаны, ему и Майе разрешалось играть в любые игры. Маленький Альберт предпочитал головоломки, конструктор и резьбу по дереву. Любимым занятием мальчика было сооружение карточных домиков. В этом деле он добился выдающихся результатов: ему удавалось возвести целых четырнадцать этажей.
Многочисленные двоюродные братья и сестры Эйнштейна часто приходили к ним поиграть в большом саду за домом, но Альберт редко к ним присоединялся. Зато, когда он участвовал в играх, его авторитет был непререкаем. Майя вспоминала, что он был арбитром во всех спорах[23]. Но вообще мальчик любил оставаться один, был обстоятелен, рассудителен и не торопился с выводами. Эйнштейн развивался медленно и так долго не мог научиться говорить, что встревоженные родители обратились к врачу. Определенные затруднения Альберт испытывал практически все детство: если ему надо было что‐то сказать, пусть даже самую простую фразу, он сначала шептал нужные слова про себя, из‐за чего горничная называла его дурачком[24]. Озабоченные родители попытались нанять гувернантку, но все кончилось тем, что и она стала называть мальчика Батюшка Зануда[25]. В конце концов к семи годам Эйнштейн перерос эту привычку.
Как и все другие дети, брат и сестра пререкались и дразнили друг друга, но иногда дело выходило за рамки обычной ссоры. Бывало, маленький Альберт закатывал истерики, во время которых, как вспоминала Майя, его лицо желтело, кончик носа становился белым и он полностью терял контроль над собой. Однажды, когда Эйнштейн перешел на домашнее обучение, он так разозлился на учительницу, что схватил стул и ударил ее. Бедняга сбежала, и больше ее никогда не видели.
“В другой раз он швырнул большой шар для игры в кегли в голову своей маленькой сестры”, – написала Майя примерно через сорок лет после того случая[26]. Вероятно, она не до конца простила брата. А как‐то Альберт ударил ее по голове детской мотыгой. Майя прокомментировала это следующим образом: “Это доказывает, что сестре интеллектуала необходимо иметь очень крепкий череп”[27].
3
Однажды, когда Альберту было четыре или пять лет, он лежал больной в постели. Отец, зашедший проведать мальчика, подарил ему карманный компас. Он хотел, чтобы Альберт понял предназначение компаса и мог с ним играть. Обследовав новую игрушку, Эйнштейн пришел в такое возбуждение, что ему даже стало зябко. Магнитная стрелка компаса заворожила его: он не мог понять, что происходит. Мальчик знал, что контакт тел может заставить их двигаться – это следовало из повседневного опыта, но стрелка была за стеклом, вне досягаемости, ее нельзя было потрогать. Ничто не касалось ее, а все же она двигалась, словно сжатая пальцами.
Альберт уже достаточно подрос, и такие явления, как, например, ветер и дождь, были ему привычны, он не приходил в замешательство из‐за того, что луна висит в небе и не падает. Это было привычно и знакомо с самого рождения. Но стрелка компаса, неизменно указывающая на север независимо от того, что он с компасом делает, казалась настоящим чудом.
Наблюдая, как дрожит стрелка, когда возвращается в исходное положение, Эйнштейн пришел к выводу, что это не укладывается в рамки его понимания мира. Он не знал ничего о магнитном поле Земли, но ему казалось, что на стрелку должна действовать какая‐то неведомая ему сила. По прошествии более шестидесяти лет Эйнштейн, рассказывая об этом эпизоде, говорил, что тогда ему стало ясно: “за этим должно таиться нечто глубоко скрытое”[28]. И он хотел попытаться найти объяснение этому “нечто”.
“Хотя тогда я был совсем ребенком, воспоминание об этом событии никогда не покидало меня”[29].
4
Герман Эйнштейн считал еврейские традиции пережитком “древних суеверий”[30] и гордился тем, что в его доме они не соблюдались. Лишь один из дядьев Альберта посещал синагогу, но делал это только потому, что, как он часто говорил, “никогда не знаешь наверняка”[31][32].
Поэтому неудивительно, что, когда Альберту исполнилось шесть, родители с радостью отправили его в Петершуле – местную католическую начальную школу. В классе было около пятидесяти детей, и он был единственным евреем. Эйнштейн учился по общей программе, изучая в том числе разделы катехизиса, Ветхий и Новый Завет и принимая участие в евхаристии. Эти уроки ему нравились, и он так хорошо все знал, что даже помогал одноклассникам выполнять домашние задания.
Несмотря на его происхождение, учителя относились к Эйнштейну хорошо, однако одноклассники дразнили его и по пути домой часто приставали и нападали.
Впрочем, отправить сына в католическую школу – это одно, но совсем другое – допустить, чтобы он всецело попал под влияние католиков. Поэтому для восстановления равновесия родители пригласили к мальчику дальнего родственника, который должен был преподавать ему основы иудаизма. Однако Эйнштейн пошел гораздо дальше. В 1888 году, когда ему было девять лет, он неожиданно превратился в ревностного иудея: по собственной воле строго следовал религиозным предписаниям, соблюдал субботу и ел кошерную пищу. Он даже сочинил свои собственные песнопения и исполнял их по дороге из школы домой. А семья тем временем продолжала жить своей собственной, светской жизнью.
Превращение католика[33] в иудея совпало с переходом Альберта в среднюю школу, гимназию Луитпольда, располагавшуюся почти в центре Мюнхена. Наряду с традиционной латынью и греческим в новой школе изучали математику и естественные науки, а кроме того, специальный учитель занимался религиозным воспитанием учеников-евреев.
Позднее Эйнштейн вспоминал, что в окружавшем их дом саду он тогда ощущал что‐то, напоминающее райское блаженство. Он был там счастлив, он мог отдаться созерцанию, а воздух, напоенный запахом весенних деревьев и едва распустившихся цветов, укреплял его веру. Здесь же, в саду, он осознал то, что называл “ничтожностью надежд и стремлений, мучающих большинство людей всю их жизнь”[34].
О том периоде своей жизни Эйнштейн говорил как о “религиозном рае”[35], но покинул он этот рай так же неожиданно, как и попал в него. В двенадцать лет Альберт утратил всякий интерес к религии. В этом возрасте ему следовало готовиться к бар-мицве, чтобы формально подтвердить свою принадлежность к иудаизму. Возможно, в какой‐то мере и это сыграло свою роль. Однако позднее Эйнштейн осторожно соотносил утрату веры с влиянием того, что можно назвать научным мышлением.
Эйнштейны, хотя и несколько нетрадиционно, соблюдали один из еврейских обычаев. В еврейских семьях принято было приглашать какого‐нибудь бедного религиозного студента на субботнюю трапезу. Эйнштейны приглашали к себе студента-медика Макса Талмуда по четвергам. Ему был двадцать один год, Альберту – десять, но они вскоре подружились. Выяснив, что интересует мальчика, Талмуд стал приносить ему учебники по математике и точным наукам, а Альберт каждую неделю охотно показывал Максу задачи, над которыми работал. Вначале Талмуд помогал Эйнштейну, но достаточно скоро тот превзошел своего учителя.
Эти занятия оказали большое влияние на Эйнштейна. “Читая научно-популярные книги, я скоро пришел к убеждению, что большинство библейских историй никак не могут быть правдивыми. Появилось ощущение, что с помощью лжи государство намеренно вводит в заблуждение молодежь – вывод сокрушительный, – вспоминал он. – Последствием этого стало прямо‐таки фанатическое свободомыслие”[36].
Такое понимание религии сохранилось у Эйнштейна на всю жизнь: он всегда возражал против религиозной ортодоксии и ритуалов, был враждебно настроен по отношению к любым авторитетам и догмам. Прямым следствием нового мироощущения стал отказ от бар-мицвы в последний момент, хотя на подготовку к этой церемонии Альберт потратил около трех лет.
5
Не только религия теперь вызывала у Эйнштейна отвращение. Под музыку барабанов и труб, чеканя шаг, через Мюнхен периодически проходили немецкие полки, вызывая радостный ажиотаж горожан. Окна дрожали, когда отряды шли строевым шагом, дети выбегали на улицу и, подражая солдатам, маршировали рядом. Однажды, увидев это представление, Эйнштейн расплакался. “Когда я вырасту, – объяснил он родителям, – я не хочу быть одним из этих бедолаг”[37].
И образование было устроено на военный лад. В гимназии Луитпольда, как и в большинстве немецких школ того времени, обучение основывалось на зубрежке, дисциплине и систематизации. Вопросы не приветствовались: урок следовало выучить наизусть и повторить заученное. Авторитет учителей всегда был непререкаем. Оценки у Эйнштейна были хорошие, но, открыто презирая школьную систему, гимназию и своих учителей (позже он назвал их “лейтенантами”), он никак не мог считаться прилежным учеником.
Как‐то один из учителей не выдержал и объявил присутствие Эйнштейна в классе нежелательным. Тот ответил, что не сделал ничего плохого. “Да, – сказал учитель, – но вы сидите там, на задней парте, и улыбаетесь, и само ваше присутствие в классе подрывает мой авторитет”[38]. Тот же учитель пошел еще дальше и сказал, что был бы рад, если бы Эйнштейн вообще покинул школу.
В пятнадцать лет Альберт оказался практически один в Мюнхене. После разорения отцовской фирмы семья переехала в Италию, а он остался в Мюнхене, чтобы закончить школу, и ему пришлось жить с дальними родственниками. Эйнштейн был в таком отчаянии, что уговорил их семейного доктора (старшего брата Макса Талмуда) выписать справку о том, что у него неврологическое расстройство и поэтому он должен прервать занятия. Затем Альберт отправился к своему учителю математики и попросил его подтвердить, что в совершенстве освоил предмет и является отличным математиком. В 1894 году, как раз перед рождественскими каникулами, Эйнштейн собрал чемодан, купил билет на поезд и, никого не предупредив, появился в доме своих родителей в Милане. Герман и Паулина оторопели, но, невзирая на их бурные протесты, Эйнштейн остался непреклонен: в Мюнхен он возвращаться не собирается.
Он обещал учиться самостоятельно и подготовиться к сдаче экзаменов в Политехникум – высшую техническую школу в Цюрихе. Именно там Эйнштейн собирался получить высшее образование. Несмотря на свои страхи и сомнения, Герман и Паулина сделали все, что было в их силах, пытаясь помочь Альберту реализовать его план. Когда выяснилось, что в Политехникум принимают только с восемнадцати лет, родителям удалось убедить друга семьи помочь сыну и уговорить ректора сделать для него исключение. Очевидно, этот друг серьезно отнесся к возложенной на него миссии и, рекомендуя Альберта, явно не скупился на похвалы. Альбин Херцог, директор Политехникума, ответил:
Согласно моему опыту, неразумно забирать ученика, даже так называемого вундеркинда, из того образовательного учреждения, где он начал обучение… Если Вы или родственники молодого человека, о котором идет речь, не согласны с моим мнением, я в виде исключения и в нарушение возрастных ограничений разрешу ему сдать вступительный экзамен в наш институт[39].
Экзамен начался 8 октября 1895 года и длился несколько дней. Эйнштейн провалился. Он хорошо справился с заданиями по выбранным им дисциплинам – математике и физике, но предметы из общего раздела – историю литературы, политические и естественные науки – сдать не смог. Эйнштейн не был ни настолько самоуверен, ни настолько глуп, чтобы не понять: его эксперимент не удался. Когда он пытался ответить на вопрос по зоологии, зияющие прорехи в его образовании стали очевидны. “Мой провал, – вспоминал Эйнштейн впоследствии, – был абсолютно обоснованным”[40].
Тем не менее его ответы по математике и физике произвели такое впечатление, что Альберта не просто отправили восвояси, а скорее обнадежили. Вопреки правилам декан физического факультета профессор Генрих Вебер[41] пригласил Эйнштейна посещать его лекции. В то же время Херцог рекомендовал ему завершить образование в местной средней школе и на следующий год сдать экзамены повторно. Если Альберт получит диплом, его допустят до экзаменов[42], хотя он и будет на полгода моложе, чем требуют правила Политехникума.
Итак, 26 октября Эйнштейн поступил в кантональную школу в небольшом городке Аарау, расположенном в двадцати пяти милях от Цюриха. У школы была репутация хорошего, прогрессивного учебного заведения. Кроме традиционных предметов там преподавали современные языки и естественные науки, имелась даже великолепно оборудованная лаборатория. Это помогало учащимся воспринимать материал, раскрывало их способности. Зубрежка и механическое заучивание исключались, а к ученикам относились как к самостоятельным личностям. Например, им предлагали использовать рисунки и мысленные эксперименты, если это помогает лучше разобраться в сути излагаемого материала.
Эйнштейн рассказывал об этой школе, что учителя с “простой серьезностью”[43] относились к своим ученикам. Они не подавляли авторитетом, а были обычными людьми, с которыми можно разговаривать и общаться. “Эта школа произвела на меня неизгладимое впечатление, – писал он. – Сравнивая ее с авторитарной немецкой гимназией, где я проучился шесть лет, я ясно осознал, насколько образование, предполагающее свободу действий и персональную ответственность, превосходит обучение, базирующееся на авторитете и стремлении доказать свое превосходство. Истинная демократия – не пустые слова”[44].
В Аарау Эйнштейн снимал комнату с пансионом у одного из своих школьных учителей – Йоста Винтелера. Семейство Винтелеров – сам Йост, его жена Роза и их семеро детей – в то время фактически стало семьей Эйнштейна, и вскоре он стал называть Йоста и Розу папой и мамой. Обычно ужин сопровождался оживленными разговорами, спорами и шутками.
Винтелер – филолог, журналист, поэт и орнитолог – был представительным мужчиной в небольших очках, с густыми волосами и бородкой клинышком. В школе он преподавал латынь и греческий. Этот либерально мыслящий, несколько напористый, принципиальный человек свободно излагал свои взгляды ученикам и держал себя с ними как равный. Он выступал за свободу самовыражения и глубоко презирал любые формы национализма. Вскоре Эйнштейн усвоил многие идеи Винтелера, в частности, он стал убежденным интернационалистом.
Сформировавшиеся политические взгляды и отвращение к немецкому милитаризму обусловили желание Эйнштейна сменить гражданство, и он попросил отца помочь ему в этом деле. Скорее всего, на его решение повлияли и гораздо более практические соображения: если в семнадцать лет он все еще будет гражданином Германии, его призовут в армию.
Письмо, содержавшее официальное признание Эйнштейна человеком без гражданства, пришло за шесть недель до его семнадцатого дня рождения.
6
Когда Эйнштейн поселился у Винтелеров, их младшая дочь Мария, недавно закончившая педагогический колледж, еще жила дома с родителями. Вскоре она должна была первый раз поступить на работу. Ей должно было скоро исполниться восемнадцать, Эйнштейну шел семнадцатый год. Веселая, с темными вьющимися волосами, не слишком уверенная в себе, Мария была удивительно мила. Оба любили музыку. Часто по вечерам Эйнштейн играл на скрипке, а Мария аккомпанировала на пианино. Через несколько месяцев, в конце 1895 года, они поняли, что любят друг друга.
Сначала взаимное чувство вскружило им головы. Часто по ночам, когда Эйнштейну не спалось, он говорил себе, глядя на небо, что теперь звезды созвездия Ориона прекраснее, чем когда‐либо раньше. В январе 1896 года Мария уехала от родителей и начала преподавать в деревне неподалеку. Хотя она часто приезжала домой, влюбленные, сетуя на разлуку, обменивались нежными посланиями. В одном из них Эйнштейн написал: “…Страдание прекрасно, когда есть кому тебя утешить”[45].
Он посылал Марии ноты песен Моцарта. А еще он посылал ей сосиски. Это было частью так называемого проекта “Пончик”[46], призванного помочь Марии поправиться. Альберт хотел и заставить ее ревновать, и пытался рассмешить. “Угадай, что сегодня было? – спрашивал он в одном из писем. – Я музицировал с мисс Бауман… Знай ты эту девушку, тебе ничего не осталось бы, кроме как завидовать ей. Она с невероятной легкостью способна вложить в игру на пианино всю свою нежную душу, правда, на самом деле души‐то у нее нет. Наверное, я опять невыносим и язвителен сверх меры?”[47]
Родители обоих молодых людей были чрезвычайно рады этому роману. Причем Паулине Эйнштейн очень хотелось продемонстрировать свое одобрение. Когда в апреле 1896 года Эйнштейн приехал на весенние каникулы к родителям в Италию, Паулина всячески пыталась прочесть его письма к Марии. В конце одного из писем Альберта она приписала: “Письма этого я не читала, но шлю Вам сердечный привет”[48].
Впрочем, их роман длился недолго. В октябре того же года Эйнштейн поступил в цюрихский Политехникум и окунулся в богемную студенческую жизнь. Похоже, переезд и новый круг знакомых почти сразу оказали влияние на его отношение к Марии, хотя поначалу он даже отправлял ей в стирку грязное белье. В письме от ноября 1896 года чувствуется одновременно и нежная преданность, и досада:
Любимый!
Сегодня я получила твою посылочку, но тщетно всматривалась и искала хоть небольшую записочку от тебя. Ведь мне достаточно даже адреса, написанного твоей рукой, чтобы почувствовать себя счастливой… Прошлым воскресеньем я под проливным дождем через лес шла на почту, чтобы отправить тебе обратно выстиранное белье. Его доставили вовремя?[49]
Однако Альберт уже решил, что больше переписываться им не стоит. Она ответила: “Любимый, я не совсем поняла один абзац в твоем письме. Ты больше не хочешь переписываться со мной, но почему, мой милый?”[50] Мария послала в подарок Эйнштейну заварочный чайничек. Он ответил почти невежливо, заявив, что ей не следовало утруждать себя. “Мой дорогой, – написала Мария в ответ. – Я послала этот глупый чайничек не для того, чтобы тебя порадовать, а чтобы ты мог заваривать в нем хороший чай… Так что успокойся и перестань корчить злые рожи, которые смотрят на меня из каждой строчки твоего письма, из каждого уголка почтовой бумаги, на которой оно написано”[51].
Эйнштейн перестал писать, и она начала сомневаться в прочности их отношений. Правда, перевернув все с ног на голову, обвиняла она главным образом себя. Мария задавалась вопросом: возможно, дело в ней? Она чувствовала, что недостаточно умна для Эйнштейна, и искренне считала, что он не бросил ее только из‐за каких‐то неразумно взятых на себя обязательств. Со своей стороны Эйнштейн, похоже, и сам не хотел причинить Марии боль. Он чувствовал себя виноватым и все еще был немного влюблен, поэтому вместо того, чтобы признаться в своих истинных чувствах, пытался успокоить Марию.
Наконец, в мае 1897 года Эйнштейн решил порвать с ней окончательно. Он послал Марии записку, где заклинал не винить себя и продолжал: “Умоляю тебя не презирать меня за то, к чему я, слабовольный человек, пришел после изнурительной борьбы с самим собой. То, что я сделал, не заслуживает даже ненависти… только презрения”[52].
Поскольку планировалось, что вскоре он поедет к Винтелерам, ему пришлось написать и Розе Винтелер – “дорогой мамочке”, как он часто к ней обращался:
Я не смогу приехать к вам на Троицу. С моей стороны было бы недостойно купить несколько дней блаженства ценой новых мук дорогого дитя, уже и так пострадавшего по моей вине… Напряженная интеллектуальная работа и созерцание Божественной Природы – вот те дающие силу и умиротворение неумолимо строгие ангелы, которые проведут меня через жизненные неурядицы… И все же до чего это странный способ уцелеть в житейских бурях – часто, в минуты просветления, мне кажется, что, почуяв опасность, я, как страус в пустыне, прячу голову в песок. Человек создает свой маленький мирок, столь незначительный и такой крохотный в сравнении с постоянно меняющимся масштабом всего сущего, но в нем он, как крот в вырытой им норе, чувствует себя удивительно большим и значительным[53].
7
На протяжении всей своей научной карьеры Эйнштейн часто использовал мысленные эксперименты как инструмент для решения задач и объяснения своих идей. Рукописи Эйнштейна полны рисунков, иллюстрирующих ход его рассуждений: поезда, дамбы и молнии, плавающий контейнер без окон, ползающие по веткам слепые жуки и сверхчувствительное устройство, способное испускать один электрон.
Во время обучения и работы Эйнштейн всегда опирался на зрительные образы. Анализируя свой мыслительный процесс, он говорил: “Похоже, слова, написанные или проговоренные, а также язык никакой роли для меня не играют”[54]. Формированию такого способа мыслить он во многом был обязан кантональной школе в Аарау, и именно там, когда Эйнштейну было шестнадцать, ему пришла в голову мысль, в равной степени воодушевившая и взволновавшая его.
Он представил себе луч света, одиноко несущийся сквозь тьму пространства, и человека, который ровно с той же скоростью бежит рядом с лучом. Эйнштейн понял, что, с точки зрения этого бегуна, свет будет “застывшим”, а горбы и впадины световой волны – неподвижны.
Однако Эйнштейн понимал, что это какая-та странная картина. Во-первых, нарушается один из установленных еще в XVII веке основополагающих научных принципов, согласно которому законы физики остаются неизменными вне зависимости от того, движется объект быстро, медленно или покоится. В соответствии с этим принципом свет не должен распространяться при одной скорости наблюдателя и “застывать”, когда скорость наблюдателя меняется.
Второе осложнение заключалось в том, что нераспространяющийся свет – это не зависящая от времени световая волна. Как отличить один момент времени от другого, если все неподвижно? “Мы приходим к не зависящему от времени волновому полю, – написал Эйнштейн позднее одному из друзей. – Но представляется, что ничего подобного существовать не может!”[55] Он интуитивно чувствовал: здесь что‐то не так.
В течение многих лет эта проблема продолжала занимать Эйнштейна, и именно она послужила отправной точкой для одного из его величайших открытий. Впоследствии он скажет: “Это был первый детский мысленный эксперимент на пути к специальной теории относительности”[56].
8
Эйнштейн любил, чтобы у него в кабинете на стене висели портреты Исаака Ньютона, Майкла Фарадея и Джеймса Клерка Максвелла. Они всю жизнь оставались его научными кумирами, первопроходцами, подсказывающими, каким курсом надо двигаться, чтобы достичь заветной цели.
Первым великим объединением, как называли это впоследствии физики, была работа Ньютона, который в конце XVII века показал, что сила притяжения одинакова и на небе, и на земле. Иначе говоря: яблоко падает на землю по той же причине, что и Луна не сходит с орбиты. Это утверждение далеко не очевидно. Ньютон установил единство двух миров, казавшихся абсолютно разными.
Второе великое объединение физики связано с работами двух других ученых, портреты которых висели в кабинете Эйнштейна. Сын кузнеца Майкл Фарадей родился в 1791 году. Фарадей показал, что движущийся магнит вызывает появление электрического тока. Точно так же переменный электрический ток производит магнетизм. Поднесите магнит к проволочной петле или проволочную петлю к магниту – в любом случае результатом будет электричество.
Фарадей был первым человеком, который с помощью магнита заставил двигаться железную стружку[57]. Он показал, что крошечные кусочки металла выстраиваются вдоль соединяющей полюса магнита изогнутой кривой. Фарадей предположил, что из магнита выходят похожие на усики “силовые линии”, образующие то, что он назвал “полем”. Магнетизм локализован не внутри магнита, а вокруг него – там, где есть силовые линии. Он доказывал, что именно эта странная невидимая “корона” – поле – обуславливает возбуждение электрического тока.











