Читать онлайн Ненормальные
- Автор: Мишель Фуко
- Жанр: Психиатрия, Состояния и явления психики
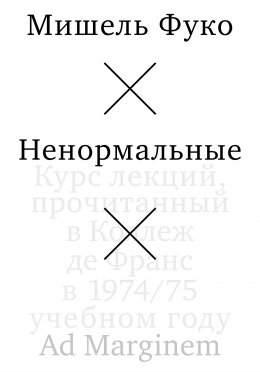
© Éditions Gallimard/Seuil, 1999
Édition établie sous la direction de François Ewald et Alessandro Fontana, par Valerio Marchetti et Antonella Salomoni, revue par Elisabetta Basso pour la présente édition
© ООО «Ад Маргинем Пресс», 2025
Перевод Алексей Шестаков
Издание подготовлено Валерио Маркетти и Антонеллой Саломони под общей редакцией Франсуа Эвальда и Алессандро Фонта
Вместо предисловия
Мишель Фуко преподавал в Коллеж де Франс с января 1971 года и до своей кончины в июне 1984 года, за исключением 1977 года, когда он воспользовался годичным отпуском, полагающимся каждому профессору раз в семь лет. Его кафедра носила название «История систем мысли».
Она была создана 30 ноября 1969 года по инициативе Жюля Вюйемена и по решению общего собрания профессоров Коллеж де Франс взамен кафедры «История философской мысли», которой руководил до своей смерти Жан Ипполит. Двенадцатого марта 1970 года то же общее собрание избрало Фуко на должность профессора новой кафедры[1]. Ему было сорок три года.
Второго декабря 1970 года он прочел свою инаугурационную лекцию[2].
Преподавание в Коллеж де Франс подчиняется особым правилам. каждый профессор обязан отработать двадцать шесть учебных часов, не более половины из которых могут составлять семинарские занятия[3]. Ежегодно он должен выносить на суд слушателей оригинальное исследование, в связи с чем содержание курсов меняется год от года. Все лекции и семинары открыты для посещения; не нужно ни записываться на курсы, ни писать итоговую письменную работу. Профессор не волен лишать кого-либо права присутствовать на своих лекциях[4]. В уставе Коллеж де Франс сказано, что профессора в нем имеют дело не со студентами, а со слушателями.
Лекции Фуко читались по средам с начала января до конца марта каждого учебного года. Аудитория, весьма многочисленная, состояла из студентов и преподавателей, исследователей и просто интересующихся, среди которых было немало иностранцев. Слушатели занимали сразу два амфитеатра коллеж де Франс. Фуко часто сетовал в связи с этим на дистанцию, разделявшую его и «публику», а также на то, что лекционная форма курса ограничивает возможности общения[5]. Он мечтал о семинаре, в котором шла бы подлинная совместная работа. В последние годы по окончании лекций он посвящал значительное время ответам на вопросы слушателей.
Вот как описал в 1975 году царившую на этих лекциях атмосферу корреспондент журнала Nouvel Observateur Жерар Петижан: «Фуко выходит на арену быстро и целеустремленно, он, словно ныряльщик, рассекает толпу, пробирается к своему стулу, раздвигает магнитофоны, чтобы разложить записи, снимает пиджак, включает настольную лампу и немедленно начинает. Его сильный, внушительный голос распространяют микрофоны – единственная уступка современности в этом зале, который слабо озаряет свет, струящийся из стуковых плафонов. На триста мест приходится пятьсот прижавшихся друг к другу слушателей, довольствующихся малейшим свободным участком. <…> Ни тени ораторских эффектов. Всё ясно и очень убедительно. Никаких уступок импровизации. У Фуко есть двенадцать часов, чтобы объяснить в ходе публичных лекций смысл работы, проделанной им за последний год. Поэтому он до предела уплотняет речь, словно продолжая письмо на полях, когда лист исписан, а сказать еще нужно очень много. Четверть восьмого. Фуко умолкает. Слушатели устремляются к его столу. Не для того, чтобы поговорить с ним, а для того, чтобы остановить магнитофонную запись. Никаких вопросов. Фуко совсем один в этой толпе». А вот комментарий самого Фуко: «Нужно было бы обсудить сказанное. Подчас, когда лекция не удалась, может хватить пустяка, одного вопроса, чтобы всё расставить по местам. Но этот вопрос никогда не звучит. Во Франции общение с группой делает разговор по существу невозможным и в отсутствие обратной связи преподавание превращается в театр. Я словно актер или акробат перед этими людьми. И когда я прекращаю говорить, приходит ощущение тотального одиночества…»[6]
Фуко подходил к своему преподаванию как исследователь: лекции служили разработками для будущей книги, распашкой новых территорий проблем, которые формулировались почти как вызов, бросаемый возможным коллегам. Поэтому и получилось, что курсы в Коллеж де Франс не дублируют опубликованные книги. И не являются наброском предстоящих книг, даже если темы их иногда совпадают. Лекции имеют собственный статус. Они выделяются среди «философских актов» Фуко особым дискурсивным режимом. Он совершенно по-особенному развивает в них проект генеалогии взаимоотношений знания и власти, сообразно которому с начала 1970-х годов – после отхода от предшествующего проекта археологии дискурсивных формаций – строилась его работа[7].
Кроме того, лекции Фуко всегда были связаны с современностью. конечно, его слушателей увлекало повествование, выстраивавшееся неделя за неделей, они восхищались стройностью изложения, но вместе с тем и замечали свет, проливаемый им на сегодняшний день. Искусство Фуко заключалось в пересечении современности историей. Он мог говорить о Ницше или Аристотеле, о психиатрической экспертизе XIX века или христианском пастырстве, и слушатели всегда улавливали в его словах связь с настоящим, с теми событиями, которые происходили рядом с ними. Присущее только Фуко лекторское дарование было связано именно с этим переплетением ученой эрудиции, личной причастности и работы над событием.
На 1970-е годы пришлось распространение и совершенствование кассетных магнитофонов; стол Фуко был буквально заставлен ими. Так сохранились его лекции и некоторые семинары.
Настоящее издание призвано как можно точнее воспроизвести живую речь Фуко[8]. Мы приложили все усилия к тому, чтобы представить ее в неприкосновенности. Однако перевод устной речи в письменный вид подразумевает вмешательство редактора: как минимум нужно ввести пунктуацию и деление на абзацы. Тем не менее мы старались не отступать от принципа максимальной верности произнесенному тексту.
Когда это казалось нам необходимым, мы устраняли повторы и оговорки, восполняли прерванные фразы и подправляли некорректные конструкции.
Многоточия в угловых скобках обозначают неразборчивые фрагменты записи. когда содержание фразы непонятно, в квадратных скобках приводится предположительное уточнение или дополнение.
В примечаниях внизу страницы, обозначенных астерисками, приведены некоторые расходящиеся с магнитофонной записью выдержки из подготовительных рукописей Фуко.
Цитаты были проверены, и в примечаниях мы дали ссылки на использованные тексты. критический аппарат призван прояснить темные места, разъяснить некоторые аллюзии и уточнить спорные детали.
Для удобства читателя каждая лекция предварена кратким резюме, в котором указаны ее основные темы[9].
Текст лекционного курса дополняет его «краткое содержание», ранее опубликованное в «Ежегоднике коллеж де Франс». Такие резюме Мишель Фуко обычно составлял в июне, вскоре после окончания своего курса. Они позволяли ему уточнить свои цели и задачи, оглянувшись на сделанное, и теперь дают о них наилучшее представление.
Каждый том завершается обзорной статьей редакторов данного лекционного курса: в ней приводятся элементы биографического, идеологического и политического контекста лекций каждого года, кратко очерчивается их связь с опубликованными книгами Фуко и положение курса в его творчестве – с тем, чтобы облегчить понимание и отвести недоразумения, связанные с незнанием обстоятельств, в каких каждый курс готовился и читался.
Публикация курсов Фуко в Коллеж де Франс открывает новый ракурс на его мысль.
Строго говоря, речь не идет о неизвестных текстах, так как издание воспроизводит публичные лекции; по-настоящему неопубликованными оставались лишь подготовительные рукописи Фуко, часто весьма обстоятельные. Даниэль Дефер, владеющий ныне архивом философа, позволил редакторам ознакомиться с ними, за что мы ему глубоко признательны.
Настоящее издание лекций, прочитанных в коллеж де Франс, осуществлено с разрешения наследников Мишеля Фуко, которые любезно согласились удовлетворить живейшую потребность в нем, проявленную как во Франции, так и в других странах. Их условием была тщательность подготовки текста. Редакторы стремились оправдать оказанное им доверие.
Франсуа Эвальд, Алессандро Фонтана
Лекция 8 января 1975 года
Психиатрические экспертизы в уголовной практике. – к какому типу дискурса они относятся? – Дискурсы истины и смехотворные дискурсы. – Легальное доказательство в уголовном праве XVIII века. – Реформаторы. – Принцип внутренней убежденности. – Смягчающие обстоятельства. – Связь между истиной и правосудием. – Гротеск в механике власти. – Морально-психологический дубликат преступления. – Экспертиза показывает, что индивид был подобен своему преступлению, еще его не совершив. – Возникновение нормализующей власти.
Мне хотелось бы начать курс этого года, предложив вам два психиатрических отчета из уголовной практики. Я прочту их целиком. Первый отчет был составлен в 1955 году, ровно двадцать лет назад. Среди подписавших его есть по меньшей мере одно громкое имя тогдашней уголовной психиатрии, и оно имеет отношение к процессу, о котором некоторые из вас, возможно, еще помнят. Это история женщины, которая вместе с любовником убила свою малолетнюю дочь. Мужчина, любовник матери, обвинялся в соучастии или как минимум в подстрекательстве к убийству ребенка, так как было установлено, что женщина убила дочь собственными руками. Итак, вот отчет о психиатрической экспертизе мужчины, которого я, с вашего позволения, буду называть А., так как до сих пор не смог выяснить, с какого момента данные судебно-медицинских экспертиз разрешается публиковать с упоминанием имен \ 1\ .
«Эксперты оказались в очевидном замешательстве перед необходимостью дать психологическое заключение об А., ибо они не могут вынести решения по поводу его моральной виновности. И всё же надо остановиться на гипотезе, что А. неким образом оказал на умонастроение девицы Л. влияние, которое привело последнюю к убийству своего ребенка. Итак, мы представляем себе элементы и действующих лиц этой гипотезы следующим образом. А. принадлежит к неоднородной и социально неблагополучной среде. Будучи незаконнорожденным, он был воспитан одной матерью и лишь значительно позднее был признан своим отцом; тогда же выяснилось, что у него есть сводные братья, с которыми, однако, его не связывали никакие семейные узы. к тому же после смерти отца А. вновь остался вдвоем с матерью – женщиной весьма неопределенного положения. Но несмотря ни на что, он поступил в общеобразовательную школу, и обстоятельства, связанные с его происхождением, несколько заглушили в нем врожденную гордость. Люди подобного сорта почти никогда не чувствуют себя благосклонно принятыми в том мире, в который они попадают: этим объясняется их пристрастие к парадоксам и ко всему такому, что способно посеять раздор. В атмосфере идей, хотя бы в какой-то мере революционных [дело, напомню, происходит в 1955 году. – М. Ф.], они чувствуют себя более уверенно, чем в устоявшейся среде с ее чопорной философией. Об этом свидетельствует история всех интеллектуальных реформ, всех духовных объединений: история Сен-Жермен-де-Пре, история экзистенциализма \ 2\ и т. д. Во всех таких движениях получают возможность проявить себя по-настоящему сильные личности, в особенности если у них сохраняется хотя бы некоторая склонность к адаптации. Они могут добиться известности и стать основателями жизнеспособной школы. Однако большинство не в состоянии подняться выше среднего уровня и стремится привлечь к себе внимание экстравагантной одеждой или экстраординарными поступками. Такие люди обычно склонны к алкивиадизму, \ 3\ геростратизму \ 4\ и т. п. конечно, они уже не стремятся отрезать хвост своей собаке или сжечь храм в Эфесе, но зачастую поддаются ненависти к буржуазной морали настолько, что отвергают ее законы и доходят до преступления, чтобы раздуть значение своей личности – тем более, чем их личность бесцветнее. Естественно, что во всем этом присутствует доля боваризма \ 5\ – способности человека представлять себя другим, нежели он есть, и чаще всего гораздо красивее и значительнее, чем суждено ему быть природой. Вот почему А. мог смотреть на себя как на сверхчеловека. В этом отношении странно, что он противился влиянию со стороны военных. Ведь он же говорил и о том, что переход Сен-Сира закалил характеры. Но, судя по всему, ношение униформы почти не оказало на поведение Альгаррона \ 6\ нормализующего воздействия. Впрочем, ему постоянно хотелось оставить армию, чтобы предаться своим шалостям. Еще одной психологической особенностью А. [наряду с боваризмом, геростратизмом и алкивиадизмом. – М. Ф.] является донжуанизм \ 7\. Он отдавал в буквальном смысле все свободные часы коллекционированию любовниц, чаще всего таких же покладистых, как девица Л. И с извращенным пристрастием заводил с ними разговоры, из которых, учитывая их начальное образование, они обычно почти ничего не могли понять. Ему нравилось развивать перед ними „разительные“, по выражению Флобера, парадоксы, которые одни слушали разинув рот, а другие – вполуха. И подобно тому как на самого А. не произвела благотворного влияния преждевременная для его социального и умственного уровня культура, девица Л. стала повторять каждый его шаг, что выглядело одновременно карикатурой и трагедией. Тут мы имеем дело с еще более глубокой степенью боваризма. Л. жадно глотала парадоксы А. и, в некотором смысле, отравилась ими. Ей казалось, будто она поднимается на более высокий культурный уровень. А. говорил о том, что влюбленные должны вместе совершить нечто из ряда вон выходящее, чтобы соединить себя нерасторжимой связью, например убить водителя такси или ребенка – просто так или чтобы доказать себе способность совершить поступок. И девица Л. решила убить катрин. Во всяком случае, так говорит она сама. Хотя А. не соглашался с ней прямо, он, во всяком случае, не переубеждал ее, позволяя себе – возможно, по неосмотрительности – строить в беседах с ней парадоксы, в которых она, за неимением критического духа, увидела руководство к действию. Таким образом, не вынося решения о том, что произошло на самом деле и о степени виновности А., мы можем понять, почему воздействие, оказанное им на девицу Л., могло оказаться таким пагубным. Однако наша задача заключается прежде всего в том, чтобы установить, какова степень ответственности А. с точки зрения уголовного права. И нам бы очень хотелось, чтобы наши термины не были истолкованы превратно. Мы говорим не о том, какова доля моральной ответственности А. в преступлениях девицы Л. – это дело судей и присяжных заседателей. Мы же лишь выясняем, имеют ли аномалии характера А. патологическую с точки зрения судебной медицины природу и являются ли они следствием умственного расстройства, достаточного, чтобы не применять к нему уголовную ответственность. Разумеется, наш ответ будет отрицательным. А., конечно, напрасно не ограничивался программными указаниями военных школ, а в любви – воскресными развлечениями, однако его парадоксы лишены примет безумных идей. И в случае, если бы А. не просто неосмотрительно развивал перед девицей Л. слишком сложные для нее теории, а намеренно подталкивал ее к убийству ребенка, чтобы по какой-то причине избавиться от него, чтобы доказать себе свою способность <к убеждению> или из одного лишь извращенного азарта, подобно Дон Жуану в сцене с нищим \ 8\ , – то, разумеется, он должен был бы нести за это полную ответственность. Иначе, чем в этой сослагательной форме, мы не можем представить свои заключения, которые могут вызвать возражения со всех сторон в этом деле и навлечь на нас обвинения в том, что мы превысили свою миссию и поставили себя на место присяжных, то есть вынесли вердикт о виновности или невиновности обвиняемого. В то же время нас могли бы упрекнуть в чрезмерном лаконизме, если бы мы сухо изложили то, чего, строго говоря, было бы достаточно: а именно, что А. не имеет никаких симптомов психического заболевания и, в общем смысле, вполне вменяем».
Так звучит текст, составленный в 1955 году. Прошу прощения за длину этих документов (вскоре вы поймете, что они составляют особого рода проблему); теперь мне хотелось бы привести другие отчеты, гораздо более сжатые, а точнее, один-единственный отчет, сделанный в отношении трех человек, обвинявшихся в шантаже на сексуальной почве. Я зачитаю заключение о двух из них \ 9\ .
Один – назовем его Х – «не блещет интеллектом, но и не глуп; умеет связно изложить идею и наделен хорошей памятью. В том, что касается морали, он гомосексуал с двенадцати или тринадцати лет, и поначалу этот порок носил характер компенсации насмешек, которые ему пришлось терпеть в детском доме в Ла-Манше [департаменте Ла-Манш. – М. Ф.], где он воспитывался. Не исключено, что женоподобное поведение Х усугубило уже имевшуюся в нем склонность к гомосексуальности, однако к вымогательству привело его не что иное, как жажда наживы. Х совершенно аморален, циничен и невоздержан в словах. Три тысячи лет назад он наверняка оказался бы одним из жителей Содома и небесный огонь вполне заслуженно наказал бы его за порочность. Но надо признать, что Y [объект шантажа. – М. Ф.] ожидало бы такое же наказание. Будучи зрелым, сравнительно богатым человеком, он не нашел ничего лучшего, как поместить Х в притон извращенцев, содержателем которого был он сам, по мере возможности возмещая деньги, вложенные в это дело. Этот Y, попеременно или одновременно выступавший по отношению к Х любовником и любовницей – точнее сказать трудно, – вызывает у последнего отвращение, доходящее до тошноты. Х любит Z. Надо видеть женоподобное поведение их обоих, чтобы понять обоснованность этих слов, ибо речь идет о до такой степени женственных мужчинах, что их родным городом должен был бы оказаться уже не Содом, а Гоморра».
Я могу продолжить. Вот что касается Z: «Довольно-таки посредственная личность, наделенная духом противоречия, неплохой памятью и способностью связно излагать свои мысли. В духовном плане – аморальный циник. Z погряз в пороке, причем вдобавок он коварен и труслив. С ним приходится в буквальном смысле прибегать к майотике [там так и написано: май-о-ти-ка, должно быть, от слова maillot – майка или пеленка! – М. Ф.] \ 10\ . Но наиболее яркой чертой его характера является, на наш взгляд, лень, масштабы которой не удалось бы передать никаким прилагательным. Естественно, проще менять пластинки и находить клиентов в ночном притоне, чем по-настоящему работать. При этом он признается, что стал гомосексуалом по причине материального неблагополучия, то есть в поиске денег, и что, почувствовав их вкус, продолжает вести себя в том же духе». Заключение: «Z совершенно омерзителен».
Вы понимаете, что о такого рода дискурсах можно сказать очень мало и в то же время много. Ведь в конце концов в таком обществе, как наше, необычайно мало дискурсов, обладающих одновременно тремя свойствами. Первое их свойство – способность прямо или косвенно влиять на решение суда, которое касается, по сути дела, свободы человека или его заключения под стражу, в предельном случае (и мы еще столкнемся с такими примерами) – жизни или смерти. Итак, это дискурсы, обладающие в конечном счете властью над жизнью и смертью. Второе свойство: благодаря чему они получают эту власть? Может быть, благодаря институту правосудия, но также и благодаря тому, что они функционируют в институте правосудия как дискурсы истины – ибо это дискурсы научного ранга, сформулированные дискурсы, причем сформулированные квалифицированными людьми внутри научного института. Дискурсы, способные убивать, дискурсы истины и дискурсы – вы сами дали этому подтверждение и свидетельство \ 11\ , – смехотворные. Причем дискурсы истины, вызывающие смех и в то же время обладающие институциональной властью убийства, – это дискурсы, которым в нашем обществе уделяется мало внимания. к тому же если некоторые из этих экспертиз, и в частности первая, относились – как вы заметили – к сравнительно серьезным и, следовательно, сравнительно редким делам, то второй процесс, прошедший в 1974 (то есть в прошлом) году, – явно из тех, что составляют повседневную рутину уголовных судов и, я бы сказал, всех подсудимых, что нас и интересует. Эти повседневные дискурсы истины, которые убивают и вызывают смех, заложены в самую сердцевину наших судебных институтов.
Функционирование судебной истины не только создает проблему, но и вызывает смех не впервые. Вы наверняка знаете, что в конце XVIII века (я рассказывал вам об этом, кажется, два года назад \ 12\ ) тот способ, каким осуществлялось доказательство истины в уголовной практике, также возбуждал иронию и критику. Вы помните об одновременно схоластической и арифметической разновидности судебного доказательства, которая в свое время, в уголовном праве XVIII века, именовалась легальным доказательством и в которой выделялась целая иерархия доказательств, уравновешивающих друг друга и со стороны качества и количества \ 13\ . Тогда существовали совершенные и несовершенные доказательства, целые и частичные доказательства, полные доказательства и полудоказательства, а также показатели и обстоятельства. И все эти элементы сочетались, дополняли друг друга в целях сбора определенного числа улик, которое закон, а вернее сказать – обычай, устанавливал в качестве необходимого минимума, допускающего осуждение. С этого момента, исходя из этой арифметики, этой калькуляции доказательств, суд и должен был выносить свое решение. Он был до некоторой степени связан в своем решении арифметикой улик. И вдобавок к этой легализации, к законному установлению природы и количественной степени доказательства, то есть к законной формализации доказательного процесса, существовал также принцип, согласно которому следовало определять наказание пропорционально суммарному числу улик. Иными словами, недостаточно было изложить – нужно было сформировать всеобщее, полное и совершенное доказательство, чтобы назначить наказание. Однако классическое право утверждало: если сумма не достигает минимального числа улик, исходя из которого можно применять полную и безоговорочную кару, если эта сумма остается в некотором смысле незаконченной, если, проще говоря, налицо три четверти доказательства, но целиком его нет, это тем не менее не означает, что наказывать не надо. Трем четвертям доказательства соответствуют три четверти наказания; полудоказательству – полунаказание \ 14\ . Словом, попавший под подозрение не останется безнаказанным. Мельчайшего или, во всяком случае, некоторого элемента доказательства будет достаточно, чтобы повлечь за собой некоторый элемент наказания. Подобная практика истины и вызывала у реформаторов конца XVIII века – у Вольтера, у Беккариа, у таких людей, как Серван и Дюпати, – одновременно и критику и иронию \ 15\ .
Вот этой-то системе легального доказательства, арифметике доказательного процесса был противопоставлен принцип того, что принято называть внутренней убежденностью \ 16\ , – принцип, о котором сегодня, глядя на то, как он действует и какую реакцию вызывает у людей, хочется сказать, что он позволяет осуждать без всяких доказательств. Между тем тот принцип внутренней убежденности, который был сформулирован и институционализирован в конце XVIII века, имел безукоризненно ясный исторический смысл \ 17\ .
Во-первых, следующий: отныне не следует выносить приговор, не придя к полной уверенности. Иными словами, надо отказаться от пропорциональности доказательства и кары. кара должна повиноваться закону «всё или ничего», и неполное доказательство не может повлечь за собой частичное наказание. Сколь угодно легкое наказание должно назначаться лишь в том случае, если установлено всеобъемлющее, совершенное, исчерпывающее, полное доказательство вины подсудимого. Таким образом, вот первое значение принципа внутренней убежденности: судья должен приступать к осуждению, лишь придя к внутренней убежденности в виновности, а не просто при наличии подозрений.
Во-вторых, смысл этого принципа таков: следует принимать во внимание не только определенные, признанные законом доказательства. Должно быть принято любое доказательство, лишь бы оно было убедительным, то есть лишь бы оно могло уверить разум, восприимчивый к истине – восприимчивый к суждению, а значит, и к истине. Не законность, не соответствие закону, а доказательность делает улику уликой. Доказательность улики обеспечивает ее приемлемость.
И наконец, третье значение принципа внутренней убежденности: критерием, на основании которого доказательство признается установленным, является не канонический перечень веских улик, а убежденность – убежденность некоего субъекта, беспристрастного субъекта. как мыслящий индивид, он способен к познанию и восприимчив к истине. Иными словами, с появлением принципа внутренней убежденности мы переходим от арифметико-схоластического и столь забавного режима классического доказательства к общепризнанному, уважаемому и анонимному режиму истины, заявляемой предположительно универсальным субъектом.
Однако на деле этот режим универсальной истины, который стал использоваться в уголовной юстиции, судя по всему, с XVIII века, содержит в себе два феномена – содержит как таковой и в своем практическом осуществлении; он содержит в себе два факта или два приема, которые важны и которые, я полагаю, составляют реальную практику судебной истины, будучи одновременно источником неуверенности в отношении этой строгой и общей формулировки принципа внутренней убежденности.
Прежде всего, вы знаете, что вопреки принципу, согласно которому ни в коем случае нельзя наказывать, не убедившись в доказанности вины, не добившись внутренней убежденности судьи, на практике всегда соблюдается некоторая пропорциональность степени уверенности и тяжести назначаемой кары. Вы отлично знаете, что если у судьи нет полной уверенности по поводу правонарушения или преступления, то он – не важно, должностной судья или присяжный, – склонен отражать эту свою неуверенность в вынесении не столь строгого наказания. Неуверенности, которая всё же не возобладала, будет на практике соответствовать в той или иной мере смягченное наказание, но всегда наказание. Иными словами, даже в нашей нынешней системе и вопреки принципу внутренней убежденности серьезные подозрения никогда не остаются совершенно безнаказанными. Именно таким образом функционируют смягчающие обстоятельства.
Каково принципиальное предназначение смягчающих обстоятельств? В общем смысле они призваны внести гибкость в суровый закон, сформулированный на страницах Уголовного кодекса 1810 года. Подлинной целью, преследовавшейся законодателями в 1832 году, когда они дали определение смягчающим обстоятельствам, не было стремление облегчить наказание; напротив, они стремились воспрепятствовать оправдательным приговорам, которые слишком часто выносили присяжные, когда им не хотелось применять закон во всей его строгости. Так, в деле о детоубийстве провинциальные присяжные обычно не приговаривали обвиняемых, так как в случае осуждения им приходилось применять закон, которым предусматривалась смертная казнь. Чтобы избежать ее, они оправдывали подсудимых. И как раз ради того, чтобы придать судам присяжных и вообще уголовному правосудию должную строгость, судам в 1832 году было разрешено применять закон со смягчающими обстоятельствами.
Но если цель законодателей была такова – что очевидно, – то что же произошло на деле? Суды присяжных стали строже. Однако в то же время возникла возможность обходить принцип внутренней убежденности. когда присяжные оказывались перед необходимостью принять решение о чьей-либо виновности – виновности, в пользу которой свидетельствовало множество доказательств, но полной уверенности в которой не было, – применялся принцип смягчающих обстоятельств и выносилось слегка или значительно меньшее наказание, чем было предусмотрено законом. Тем самым тяжесть наказания стала отражением допущения, степени допущения.
Так, скандал, дошедший до самых вершин судебного института, который вызвало развернувшееся в последние недели дело Гольдмана \ 18\ , где сам генеральный прокурор, требовавший наказания, был в итоге изумлен тяжестью вердикта, объясняется тем, что суд не применил тот вообще-то глубоко противоречащий закону обычай, согласно которому при отсутствии полной уверенности следует воспользоваться смягчающими обстоятельствами. Что произошло в деле Гольдмана? Присяжные, собственно говоря, применили принцип внутренней убежденности – или, если угодно, не применили его, но применили закон как таковой. Иными словами, сочли, что достигли внутренней убежденности, и назначили такое наказание, какого и просил прокурор. Но прокурор до такой степени привык к тому, что при наличии сомнений суд не удовлетворяет требование обвинения, а понижает его на ступень, что был потрясен строгостью наказания. Своим изумлением он словно проговорился об этом совершенно незаконном или, во всяком случае, противоречащем принципу обычае, в соответствии с которым смягчающие обстоятельства призваны отражать неуверенность суда. В принципе-то они ни в коем случае не должны служить выражением этой неуверенности; если неуверенность осталась, надо просто оправдывать. Фактически же за принципом внутренней убежденности вы обнаружите практику, которая по-прежнему, следуя старинной системе легальных доказательств, облегчает кару в меру неубедительности улик.
Есть и еще одна практика, ведущая к нарушению принципа внутренней убежденности и к восстановлению одного из элементов системы легального доказательства – элемента, по ряду признаков родственного принципу работы правосудия, который действовал в XVIII веке. Это квазивосстановление, это псевдовосстановление в правах легального доказательства выражается, конечно, не в возврате к арифметике улик, а в том, что – вразрез с принципом внутренней убежденности, согласно которому могут быть представлены или собраны все улики и долг взвесить их лежит на совести должностного судьи или присяжного заседателя, – некоторые улики сами по себе обладают властными эффектами, доказательными полномочиями, большими или меньшими в различных случаях и не зависящими от присущей им рациональной структуры. Но если дело не в рациональной структуре доказательств, тогда в чем же? Несомненно, дело – в излагающем их субъекте. Так, скажем, и в нынешней системе французского правосудия полицейские рапорты и свидетельские показания полицейских обладают своеобразной привилегией над всеми прочими сообщениями и свидетельствами, поскольку произносятся приведенным к присяге полицейским служащим. С другой стороны, отчеты экспертов – в силу того, что положение экспертов придает тем, кто эти отчеты излагает, научное достоинство, а точнее, научный статус, – также получают некоторую привилегию над всеми прочими элементами судебного доказательства. Это не те легальные доказательства, с которыми еще в XVIII веке работало классическое право, но тем не менее это привилегированные судебные высказывания, содержащие в себе статусные презумпции истины – презумпции, внутренне присущие им в силу того, что их произносят эксперты. Словом, это высказывания, обладающие характерными именно для них эффектами истины и власти: мы имеем дело с некоей сверхлегальностью некоторых высказываний в рамках производства судебной истины.
На этом отношении «истина – правосудие» мне хотелось бы ненадолго задержаться, ибо несомненно, что оно входит в число фундаментальных тем западной философии \ 19\ . Одной из самых бесспорных и коренных предпосылок всякого судебного, политического или критического дискурса является сущностная сопричастность между высказыванием истины и практикой правосудия. При этом выясняется, что в той точке, где встречаются, с одной стороны, институт, призванный регулировать правосудие, и, с другой стороны, институты, уполномоченные высказывать истину, – или, короче говоря, в той точке, где встречаются судья и ученый, где скрещиваются пути судебного института и медицинского или вообще научного знания, – в этой точке формулируются высказывания, которые обладают статусом истинных дискурсов, влекут за собой значительные юридические последствия и, кроме того, имеют любопытную склонность быть чужеродными всем правилам образования научного дискурса, включая самые элементарные; они чужеродны в том числе и нормам права и являются – как те тексты, которые я только что зачитал, – в самом строгом смысле слова гротескными.
Гротескные тексты – и говоря «гротескные», я употребляю этот термин если не абсолютно строго, то, во всяком случае, в несколько суженном, серьезном его значении. Я буду называть «гротескным» свойство некоего текста или индивида обладать в силу своего статуса властными эффектами, которых по своей внутренней природе они должны быть лишены. Гротескное или, с вашего позволения, «убюэскное» \ 20\ – это не просто разновидность оскорбления, не просто обидный эпитет, и я не хотел бы употреблять эти слова в таком смысле. Я убежден, что существует или, во всяком случае, подлежит введению строгая категория историко-политического анализа – категория гротескного или «убюэскного». «Убюэскный» апломб, гротескное самоуправство или, в более сухой терминологии, максимизация властных эффектов в сочетании с дисквалификацией того, кто их вызывает, – это не случайность в истории власти, не механический сбой. По-моему, это одна из пружин, одна из неотъемлемых составных частей механизмов власти. Политическая власть, по крайней мере в некоторых обществах и уж точно в нашем обществе, может пользоваться (и действительно пользуется) возможностью осуществлять свои эффекты и, более того, может находить источник своих эффектов в области, статус которой явно, демонстративно, сознательно принижается как мерзкий, бессовестный или смешной. Собственно говоря, эта гротескная механика власти – или гротескная пружина в механике власти – давным-давно прижилась в структурах наших обществ, в их политическом функционировании. Ярчайшие свидетельства этому вы найдете в римской истории, в частности в истории Империи, где метод если не правления, то как минимум господства был именно таким: вспомните о почти театральном принижении личности императора как узла, средоточия всех властных эффектов; о принижении, вследствие которого тот, кто является носителем majestas[10], этой властной надбавки ко всякой власти, сколь бы велика она ни была, является в то же время – как личность, как персонаж, в своей физической реальности, одежде, манере поведения, телесности и сексуальности, образе жизни – персонажем бессовестным, гротескным, смешным. Эта функция, этот механизм гротескной власти, бессовестного правления составляли непременный элемент функционирования Римской империи от Нерона до Гелиогабала \ 21\ .
Гротеск – это один из важнейших методов произвольного правления. Но тот же гротеск, как вы знаете, сплошь и рядом используется прикладной бюрократией. Административная машина с ее неотвратимыми властными эффектами предполагает посредственного, бестолкового, тупого, бесцветного, смешного, затравленного, бедного, беспомощного чиновника: всё это было одной из самых характерных черт великих западных бюрократий начиная с XIX века. Административный гротеск – это не просто модус визионерского восприятия чиновничества, свойственный Бальзаку или Достоевскому, куртелину или кафке. Административный гротеск – это возможность, средство, действительно выработанное для себя бюрократией. «Убю бумажная душа» – неотъемлемый элемент функционирования современной администрации, так же как неотъемлемым элементом функционирования императорской власти в Риме была сумасбродная воля безумца-гистриона. И то, что я говорю о Римской империи, то, что я говорю о современной бюрократии, можно сказать и о многих других формах механики власти, например о нацизме или фашизме. Гротескный характер людей наподобие Муссолини был прочно вправлен в механику власти. Власть сама рядилась в театральный костюм, сама выступала в образе клоуна, паяца.
Мне кажется, что в этой истории – от бессовестного правления до смехотворного авторитета – можно различить поступательное развитие того, что можно было бы назвать мерзостью власти. Вы знаете, что этнологи – я имею в виду, в частности, превосходные исследования, совсем недавно опубликованные кластром \ 22\ , – ясно уловили этот феномен, благодаря которому тот, кому дана власть, в то же самое время, путем ряда ритуалов и церемоний, оказывается осмеян, опорочен или представлен в невыгодном свете. В архаических или первобытных обществах такого рода ритуал призван ограничивать властные эффекты? Возможно. Но я бы сказал, что, когда мы обнаруживаем такие же ритуалы в наших обществах, они выполняют совершенно другую функцию. когда власть предстает как мерзкая, откровенно бессовестная, «убюэскная» или попросту смешная, речь, на мой взгляд, не идет об ограничении ее эффектов и о магическом развенчании того, кому дана корона. Совсем наоборот, речь, по-моему, идет о яркой манифестации неотвратимости, неизбежности власти, которая как раз и может функционировать со всей своей строгостью и в высшей степени жестокой рациональностью, даже находясь в руках человека, полностью развенчанного. Проблема позора власти, проблема развенчанного правителя – это, собственно говоря, проблема Шекспира: весь цикл трагедий о королях поднимает именно эту проблему, хотя, насколько мне известно, никогда бесчестье правителя не становилось объектом теории \ 23\ . Но я хочу повторить: в нашем обществе – от Нерона (возможно, первой крупной фигуры в истории позорного правления) до маленького человечка с дрожащими руками, который, сидя на дне своего бункера и унеся сорок миллионов жизней, интересовался в конечном итоге только двумя вещами: не разрушено ли еще всё, что находится над ним, и когда ему принесут пока еще не надоевшие шоколадные пирожные, – разворачивается впечатляющая картина функционирования бессовестного властителя \ 24\ .
У меня нет ни сил, ни смелости, ни времени, чтобы посвятить данной теме свой курс в этом году. Но мне хотелось бы, по крайней мере, поднять проблему гротеска в связи с текстами, которые я только что вам зачитал. Мне кажется, что признание их гротескными и обращение к проблеме наличия в них гротеска и функции гротескного не следует считать обыкновенным оскорблением. На вершине суда, там, где правосудие дает себе право убивать, оно ввело в оборот дискурс короля Убю, дало слово Убю-ученому. Высокопарно выражаясь, можно сказать так: Запад, который – без сомнения, со времен греческого общества, греческого полиса – постоянно грезил о том, чтобы в справедливом городе властвовал дискурс истины, в конечном итоге отдал неподконтрольную власть, власть своего судебного аппарата, в руки пародии, откровенной пародии на научный дискурс. А теперь предоставим другим заботиться о постановке вопроса об эффектах истины, которые могут быть вызваны в дискурсе субъектом в должности знания \ 25\ . Я же попытаюсь изучить эффекты власти, вызываемые в реальности дискурсом, который одновременно и полномочен и развенчан. Очевидно, что этот анализ можно было бы предпринять в различных направлениях, попробовав разыскать следы идеологии, одухотворяющей дискурс, несколько примеров которого я вам представил. Можно было бы пойти и от поддерживающего этот дискурс института – или от двух институтов, которые его поддерживают, судебного и медицинского, – чтобы понять, как же он мог возникнуть. Я же попробую сделать вот что (некоторые из вас, те, кто посещал прошлогодние лекции, уже наверняка догадываются, в каком направлении я пойду): вместо того чтобы предпринимать идеологический или «институциональный» анализ, я, скорее, займусь разведкой и анализом технологии власти, которая пользуется этими дискурсами и пытается заставить их работать.
Для этого, в качестве первого шага, я ставлю вопрос: что же происходит в этом дискурсе Убю, составляющем ядро нашей судебной, нашей уголовной практики? Нам нужна теория уголовно-психиатрического Убю. По сути дела, думаю, можно сказать, что через все эти дискурсы, с примерами которых я вас познакомил, проходит серия – я хотел сказать «замещений», но теперь это слово мне кажется неподходящим, – скорее, серия удвоений. Ведь действительно, речь идет не об игре замен, а о введении последовательных дубликатов. Или иначе: эти психиатрические дискурсы в уголовной практике не устанавливают, как некоторые говорят, другую сцену, а, наоборот, сдваивают элементы на одной сцене. Следовательно, речь идет не о цезуре, которой обозначается подступ к символическому, а о принудительном синтезе, который обеспечивает трансмиссию власти и бесконечный перенос с места на место ее эффектов \ 26\ .
Во-первых, психиатрическая экспертиза позволяет удвоить квалифицируемое законом правонарушение целым рядом других, отличающихся от правонарушения вещей: рядом манер поведения, образов жизни, которые в дискурсе психиатра-эксперта, разумеется, предстают как причина, как источник, мотив, отправная точка правонарушения. В самом деле, в реальности судебной практики они образуют саму наказуемую субстанцию или даже материю. Вы знаете, что на основании уголовного закона, неизменного со времен наполеоновского кодекса 1810 года, – впрочем, этот принцип признавался и в так называемых промежуточных кодексах Великой французской революции \ 27\ , – то есть с конца XVIII века, на основании уголовного закона могут осуждаться лишь те правонарушения, которые определяются в качестве таковых законом, и, надо уточнить, законом, который должен предшествовать совершённому проступку. За вычетом ряда исключительных случаев, уголовный закон не имеет обратного действия. Однако что по отношению к этой букве закона, согласно которой «наказанию подлежат лишь те правонарушения, которые предусмотрены законом», делает экспертиза? какого рода объекты она выявляет? какого рода объекты она предлагает судье в качестве предмета его судебного вмешательства и цели наказания? Если вы вспомните выражения экспертов – а я мог бы привести вам и другие тексты, так как изучил целый комплекс экспертиз за 1955–1974 годы, – то, как вы думаете, что за объекты выявляет психиатрическая экспертиза, что именно она подшивает к преступлению в виде подкладки или дубликата? Это понятия, которые регулярно обнаруживаются во всём комплексе обсуждаемых текстов: «психологическая незрелость», «слабо структурированная личность», «недостаточная оценка реальности». Все эти выражения я на самом деле нашел в обсуждаемых экспертных отчетах: «глубокое аффективное расстройство», «серьезные эмоциональные потрясения». Или вот еще: «компенсация», «продукт воображения», «проявления извращенной гордости», «порочная игра», а также «геростратизм», «алкивиадизм», «донжуанизм», «боваризм» и т. д. Но какую функцию выполняет эта совокупность понятий, или эти две серии понятий? Прежде всего они тавтологически повторяют правонарушение, тем самым описывая и конституируя его как индивидуальную особенность. Экспертиза позволяет совершить переход от поступка к поведению, от преступления к образу жизни и представить образ жизни как нечто тождественное самому преступлению, только, так сказать, обобщенно выраженное в поведении индивида. Еще одной функцией этих серий понятий выступает сдвиг уровня реальности правонарушения: ведь эти формы поведения не противоречат закону, так как никакой закон не запрещает иметь извращенную гордость и не существует законных мер противодействия геростратизму. Но если эти формы поведения обходят не закон, тогда что? То, против чего они выступают, в сопоставлении с чем они обнаруживаются, есть оптимальный уровень развития: «психологическая незрелость», «слабо структурированная личность», «глубокое расстройство». И критерий реальности: «недостаточная оценка реальности». И моральные характеристики – скромность, верность. И наконец, этические нормы.
Одним словом, психиатрическая экспертиза позволяет сформировать этико-психологический дубликат преступления. То есть делегализовать правонарушение в том виде, в каком оно предусматривается законом, и выявить за ним его двойника, который похож на него как брат – или сестра, уж я не знаю, – и который, собственно говоря, представляет собой уже не правонарушение в юридическом смысле этого термина, а несоответствие некоторому числу физиологических, психологических, моральных и тому подобных правил. Вы скажете мне, что это не так уж важно и что, если психиатры, когда их просят об экспертизе преступника, говорят: «В конце концов, если он совершил кражу, то не иначе как потому, что он вор; или – если речь идет об убийстве – потому, что его тянет убивать», – если они так говорят, это не слишком-то отличается от мольеровского анализа немоты девочки \ 28\ . Между тем на самом деле это более важно – и важно не просто потому, что может повлечь за собой смерть человека, как я только что говорил вам об этом. Важно здесь то, что в действительности психиатр, если он так говорит, предлагает не объяснение преступления, а именно то, что как раз и подлежит наказанию, чем должен заниматься и с чем должен разобраться судебный аппарат.
Вспомните, с чем мы столкнулись в экспертизе Альгаррона. Эксперты говорили: «Мы, как эксперты, не уполномочены решать, совершил он преступление или не совершил. Но [именно с этого начинается заключительный параграф отчета, который я вам зачитывал. – М. Ф.] предположим, что он совершил преступление. И я, эксперт-психиатр, объясню вам, каким образом он совершил бы это преступление, если бы он его совершил». Весь анализ этого дела (я несколько раз произнес имя осужденного, но не всё ли равно) представляет собой, в сущности, разъяснение того, каким образом преступление могло в самом деле быть совершено. к тому же эксперты прямо заявляют: «Примем в качестве гипотезы, что А. некоторым образом оказал на умонастроение девицы Л. влияние, которое могло привести ее к убийству своего ребенка». А в конце говорят: «Не вынося решения о виновности А. и о степени его виновности, мы можем понять, почему это его влияние могло оказаться гибельным». И вот заключительные слова, вы их помните: «Поэтому его следует считать вменяемым». Но кто это возник мимоходом, между гипотезой, согласно которой подсудимый действительно мог нести некоторую ответственность, и итоговым заключением? Возник некий персонаж, которого-то, в известном смысле, и представили судебному аппарату, – человек, который не может приспособиться к миру, любящий сеять раздор, совершающий экстравагантные или необычные поступки, ненавистник морали, не признающий ее законы и способный пойти на преступление. Таким образом, осуждаемым в итоге оказывается не действительный соучастник рассматриваемого убийства, а именно этот персонаж, не умеющий приспосабливаться, любящий сеять раздор и совершающий всякого рода поступки вплоть до преступления. И, говоря, что именно этот персонаж был в действительности осужден, я не имею в виду, что благодаря эксперту вместо виновного приговорили подозреваемого (что, разумеется, так и есть), я имею в виду нечто большее. В некотором смысле еще более серьезно то, что в конечном счете, даже если данный субъект виновен, судья на основании психиатрической экспертизы сможет покарать в его лице уже не собственно преступление или правонарушение. Тем, что судья осудит, чему он вынесет наказание, точкой приложения кары оказывается не что иное, как эти неправильные формы поведения, предложенные в качестве причины, исходной точки, среды созревающего преступления, а на деле бывшие не чем иным, как его морально-психологическим дубликатом.
Психиатрическая экспертиза позволяет сместить точку приложения кары или предусмотренного законом наказания в сторону криминальности как характеристики, которая оценивается с морально-психологической точки зрения. Посредством причинного назначения, тавтологический характер которого очевиден, но в то же время почти лишен смысла (если, конечно, не браться за безынтересное дело анализа рациональных структур подобного текста), произошел переход от того, что можно было бы назвать целью наказания, точкой приложения механизма власти, каковым является законная кара, к кругу объектов, основанному на некотором знании, преобразующей технике, целом комплексе принудительных мероприятий – рациональном и упорядоченном[11]. Да, познавательный эффект психиатрической экспертизы равен нулю, но это не так уж важно. Ее ключевая роль заключается в том, что она узаконивает в виде научного знания распространение наказующей власти за пределы правонарушения. Суть в том, что она позволяет включить карательную деятельность судебной власти в общий корпус продуманных техник преобразования индивидов.
Второй функцией психиатрической экспертизы (первой было удвоение преступления криминальностью) является удвоение виновника преступления этим новым для XVIII века персонажем: преступником. Перед «классической» экспертизой, какою она определялась в терминологии закона 1810 года, стоял, в сущности, следующий простой вопрос: эксперт привлекается исключительно для того, чтобы выяснить, находился ли обвиняемый индивид, совершая преступление, в состоянии помутнения рассудка? Так как если он был в состоянии помутнения рассудка, то тем самым он уже не может считаться ответственным за содеянное. Об этом говорит знаменитая 63-я [rectius: 64-я] статья, согласно которой если в момент деяния индивид находится в состоянии помутнения рассудка, то нет ни преступления, ни правонарушения \ 29\ . Но что происходит в тех экспертизах, которые применяются теперь и с примерами которых я вас познакомил? Разве в них есть действительное стремление определить, позволяет ли помутнение рассудка не считать виновника деяния субъектом, несущим за свои поступки юридическую ответственность? Ничего подобного. Экспертиза выполняет совсем другую функцию. И прежде всего вот какую: пытается обосновать своего рода первичные признаки уголовника.
Я приведу вам пример из отчета, сделанного в начале 1960-х годов тремя «зубрами» уголовной психиатрии и, кстати, завершившегося смертью человека, так как объект экспертизы был осужден на смерть и гильотинирован. Вот что мы читаем по поводу этого индивида: «Наряду со стремлением удивлять, у Р. уже в детстве зародилась страсть к господству, руководству, осуществлению своей власти (каковая есть иное обличье гордости): он с раннего возраста тиранил своих родителей, устраивая сцены из-за малейшего несогласия с ним, а затем, учась в лицее, склонял товарищей к пропуску занятий. Любовь к огнестрельному оружию и автомобилям, страсть к игре также созрели в нем очень рано. Уже в лицее он похвалялся револьвером. Его видели играющим с пистолетом и у Жибера. Позднее он коллекционировал оружие, занимался его поиском и перепродажей, наслаждаясь тем ободряющим ощущением власти и превосходства, которое вселяет в слабовольных людей ношение пистолета. То же касается мотоциклов, а затем спортивных автомобилей, на которые он, судя по всему, не скупился и резерв скорости которых использовал максимально: они способствовали удовлетворению – впрочем, всегда неполноценному – его стремления к превосходству» \ 30\ .
Таким образом, подобная экспертиза занята изложением серии деяний, которые можно было бы назвать ошибками без правонарушения или проступками, не преступающими закон. Другими словами, она показывает, в чем индивид походил на свое преступление еще до того, как его совершить. Само регулярное употребление по ходу этих анализов наречия «уже» служит нанизыванию по принципу простой аналогии всей этой серии первичных преступлений, непротивозаконных отклонений, собирает их вместе, чтобы затем продемонстрировать их сходство с преступлением. Экспертиза составляет серию ошибок, показывает, в чем индивид уже походил на свое преступление, и в то же время, при помощи этой серии, выявляет другую серию, так сказать, «парапатологическую», родственную болезни, но не обычной болезни, так как болезнь эта – моральный дефект. Ведь в конечном итоге эта серия оказывается доказательством некоего поведения, позиции, характера, которые являются дефектами морального плана, не будучи ни болезнями в патологическом смысле, ни нарушениями закона. Вот в этом-то длинном перечне первичных двусмысленностей эксперты неизменно и пытались восстановить логическую последовательность.
Те из вас, кто заглядывал в досье Ривьера \ 31\ , знают, что уже в 1836 году для психиатров, но в то же время и для свидетелей, у которых брали показания, стало обычной практикой воссоздание этой всецело двусмысленной серии инфрапатологического и паралегального – или парапатологического и инфралегального, – служащей своего рода заведомым воссозданием преступления на условной сцене. Именно на это нацелена психиатрическая экспертиза. Причем в эту серию первичных, парапатологических, подзаконных и тому подобных двусмысленностей вписывается, неизменно в виде желания, присутствие субъекта. Приводя все эти детали, все эти мелочи, все эти мелкие низости, все эти не совсем нормальные вещи, экспертиза показывает, что субъект действительно присутствует в них в виде желания преступления. Так, в процитированном только что отчете о человеке, который в итоге был приговорен к смерти, эксперт говорит следующее: «Он хотел познать все удовольствия, он хотел насладиться всем и как можно быстрее, испытав сильные эмоции. Вот цель, которой он был поглощен. как говорит он сам, колебания вызывали у него только наркотики, которым он боялся подчиниться, и гомосексуальность – не из принципа, а из отвращения. Р. не терпел препятствий на пути своих замыслов и капризов. Он не мог смириться с тем, что его желаниям противятся. По отношению к родителям он использовал эмоциональный шантаж, по отношению к чужим людям – угрозы и насилие». Иными словами, этот анализ постоянного желания преступления позволяет дать очерк того, что можно назвать позицией радикального беззакония в логике или движении желания. Преданность желания субъекта нарушению закона[12]: его желание глубоко порочно. Но это желание преступления – и опять-таки мы сталкиваемся с этим всюду в обсуждаемых экспериментах [rectius: экспертизах] – всегда соотносится с неким недостатком, нарушением, слабостью субъекта, его неспособностью к чему-либо. Вот почему вы постоянно встречаетесь с такими понятиями, как «неразумный», «неудачливый», «неполноценный», «бедный», «некрасивый», «незрелый», «недостаточно развитый», «инфантильный», «закоснелый», «непостоянный». Ведь в самом деле, предназначение этой инфрауголовной, парапатологической серии, в которой прочитываются и беззаконие желания, и ущербность субъекта, вовсе не в том, чтобы дать ответ на вопрос об ответственности; наоборот, она призвана не отвечать на него, то есть избегать в психиатрическом дискурсе постановки вопроса, который, однако же, скрыто формулируется 64-й статьей. Другими словами, включая преступление в один ряд с инфрауголовными и парапатологическими элементами, соотнося их друг с другом, эксперты окутывают виновника правонарушения своего рода облаком юридической неопределенности. Из его неправильности, неразумия и невезения, из его неисчерпаемых и бесконечных желаний складывается серия элементов, в отношении которых вопрос об ответственности уже или вообще не может быть поставлен, ибо в конечном счете субъект оказывается в рамках этих определений ответственным одновременно за всё и ни за что. Это юридически неопределенная личность, от которой, следовательно, правосудие – согласно своим же законам и текстам – вынуждено отступиться. Это уже не юридический субъект, которого судьи, присяжные видят перед собой: это объект – объект некоторой технологии, науки об исправлении, реадаптации, реабилитации или коррекции. короче говоря, функцией экспертизы является удвоение виновника преступления – вменяемого или невменяемого – преступным субъектом, который в дальнейшем становится объектом особой технологии.
Наконец, я считаю, что психиатрическая экспертиза несет еще одну, третью, функцию: она не только дублирует виновника правонарушения преступным субъектом и затем преступление – криминальностью. Она также призвана выполнить, огласить еще одно удвоение, а точнее, целый ряд других удвоений. Учреждается фигура врача, который будет одновременно врачом-судьей. Я имею в виду, что с того момента, когда врач или психиатр берется ответить на вопрос, действительно ли у исследуемого субъекта обнаруживается некоторое число поступков или особенностей, которые оправдывают (в терминах криминальности) формирование и появление собственно противозаконного поведения, – с этого момента психиатрическая экспертиза часто и даже регулярно приобретает статус доказательства или одного из элементов доказательства возможной криминальности, а точнее – потенциального преступления, которое и вменяется индивиду. Описать его преступный характер, описать шлейф криминальных или паракриминальных поступков, тянущийся за ним с самого его детства, – значит способствовать его переводу из разряда обвиняемых в разряд осужденных.
Я приведу вам лишь один пример из совсем недавней истории, которая наделала много шума. Требовалось выяснить, кто убил девушку, чье тело было найдено на пустыре. Имелось двое подозреваемых: известный в городе человек и юноша восемнадцати-двадцати лет. Вот как эксперт-психиатр описал ментальное состояние первого (вообще-то для его экспертизы были назначены два специалиста). Самого отчета у меня нет, и я приведу резюме, каким оно фигурирует в заключении прокуратуры, представленном в Обвинительную палату: «Психиатры не обнаружили <у подозреваемого> никаких нарушений памяти. Они получили свидетельства о симптомах, проявившихся у него в 1970 году: это были неприятные переживания профессионального и материального характера. О себе он рассказал, что в шестнадцать лет получил степень бакалавра, в двадцать лет стал лиценциатом, защитил два диплома о высшем образовании и прошел двадцать семь месяцев военной службы в Северной Африке. Затем принял руководство предприятием своего отца и начал много работать, на досуге ограничиваясь теннисом, охотой и прогулками под парусом».
Теперь перейдем к заключению двух других экспертов в отношении молодого человека, который проходил как обвиняемый по этому же делу. Психиатры отметили следующее: «слабо выраженные черты характера», «психологическая незрелость», «слабо структурированная личность» (видите – категории всегда одни и те же), «нетвердые суждения», «неадекватная оценка реальности», «глубокая чувственная неуравновешенность», «весьма значительные эмоциональные скачки». кроме того: «Учтя его страсть к чтению комиксов и книг из серии „Сатаник“, эксперты отметили наличие нормальных для мальчика такого физического развития [ему восемнадцать-двадцать лет. – М. Ф.] половых влечений. Они остановились на следующей гипотезе: выслушав <…> страстные признания упомянутой девушки, он <подозреваемый> мог испытать сильнейшее отвращение, расценив их в сатанинском ключе. Глубоким омерзением, которое он тогда пережил, и объясняется его поступок».
Эти два отчета были переданы в Обвинительную палату для выяснения, кто из двоих обвиняемых виновен в обсуждаемом преступлении. И пусть мне теперь не говорят, что судят судьи, а психиатры всего-навсего анализируют умственные особенности, психотическую или же нормальную личность обвиняемых. Психиатр действительно становится судьей, он действительно совершает акт следствия, причем не на уровне юридической ответственности индивидов, а на уровне их реальной виновности. И наоборот, судья дублируется медиком. Ведь с того момента, когда судья действительно выносит свой приговор, то есть решение о наказании, не в отношении юридического субъекта правонарушения, предусмотренного законом, а в отношении индивида – носителя всех этих определенных черт характера, – с тех пор, как он имеет дело с этой этическо-моральной подкладкой юридического субъекта, – он, судья, наказывая, наказывает не преступление. Теперь он может превозносить, тешить или оправдывать себя – как вам угодно – тем, что облагает индивида рядом исправительных мер, мер реадаптации или реабилитации. Презренное ремесло наказания превращается, таким образом, в прекрасное дело исцеления. Этому-то превращению, наряду с прочим, и служит психиатрическая экспертиза.
Прежде чем закончить, я хотел бы остановиться еще на двух вещах. Ведь вы можете возразить мне: всё это очень мило, однако вы несколько агрессивно описываете судебно-медицинскую практику, чей возраст, в конце концов, пока еще невелик. Да, психиатрия делает неуверенные первые шаги, и мы медленным, тяжелым путем освобождаемся от этих сбивчивых практик, следы которых еще можно обнаружить в гротескных текстах, злонамеренно подобранных вами. Но я отвечу вам, что всё наоборот, и в действительности уголовно-психиатрическая экспертиза, если взять ее в исторически первоначальных формах, то есть – скажем ради простоты – с первых лет применения Уголовного кодекса (1810–1830 годы), была медицинским актом, в своих формулировках, правилах построения и общих образующих принципах всецело изоморфным медицинскому знанию своего времени. Напротив, сейчас (хотя честь за это следует-таки воздать медикам и, во всяком случае, некоторым психиатрам) мне не известен ни один врач и известны лишь несколько психиатров, которые осмелились бы подписаться под текстами вроде тех, что я вам зачитывал. Но если врачи отказываются подписываться под ними как врачи или как психиатры в обычной практике и если в конечном счете те же самые врачи и психиатры соглашаются составлять, писать, подписывать эти отчеты в практике судебной – речь ведь, в конце концов, идет о свободе или жизни человека, – то вы понимаете, что тут налицо проблема. Это рассогласование, эта инволюция на уровне научной и рациональной нормативности текстов действительно поднимает проблему. По отношению к ситуации, поставившей судебно-медицинские экспертизы в начале XIX века в один ряд со всем медицинским знанием эпохи, возникло движение рассогласования, движение, в котором уголовная психиатрия оторвалась от этой нормативности и примирилась с новыми нормами образования, приняла их и подчинилась им.
Если в этом смысле и есть эволюция, то, несомненно, мало просто сказать, что ответственность за нее лежит на психиатрах и экспертах \ 32\ . На деле сам закон или постановления о применении закона показывают, в каком направлении мы движемся и какой дорогой мы пришли туда, куда пришли; ведь первоначально судебно-медицинские экспертизы руководствовались в общем и целом старинной формулировкой 64-й статьи Уголовного кодекса: нет ни преступления, ни правонарушения, если подсудимый во время совершения деяния был в состоянии помутнения рассудка. Это правило практически направляло и ограничивало уголовную экспертизу в течение всего XIX века. В начале ХХ века мы сталкиваемся с циркулярным письмом Шомье от 1903 [rectius: 1905] года, в котором уже оказывается искажена, заметно смещена роль, до сих пор отводившаяся психиатру: в письме этом говорится, что функция психиатра, очевидно, состоит не в том, – ибо [выполнить] это очень трудно, невозможно, – чтобы определить юридическую ответственность криминального субъекта, а в том, чтобы выяснить, имеются ли у него умственные отклонения, которые могут быть соотнесены с данным преступлением. как видите, мы вступаем в совершенно другую область, нежели область юридического субъекта, ответственного за свои деяния и характеризуемого в таком качестве медиками. Мы вступаем в область умственного отклонения, имеющего с преступлением неопределенную взаимосвязь. И вот еще одно циркулярное письмо послевоенного времени, пятидесятых годов (точную дату я уже не помню, кажется, это 1958 год, но утверждать с уверенностью не могу; простите, если я ошибаюсь), в котором психиатров просят – по возможности, конечно, – всегда отвечать на знаменитый вопрос 64-й статьи: был ли обвиняемый в состоянии помутнения рассудка? А главное, их просят сказать – это первый вопрос – опасен ли индивид. Второй вопрос: будет ли он восприимчив к уголовной санкции? Третий вопрос: исправим или реабилитируем ли он? Иными словами, на уровне закона, а не только на ментальном уровне знания психиатров, – на уровне самого закона заметна абсолютно недвусмысленная эволюция. Произошел переход от юридической проблемы определения виновности к совершенно другой проблеме. Опасен ли индивид? Будет ли он восприимчив к уголовной санкции? Исправим или реабилитируем ли он? Тем, к чему должна будет отныне обращаться уголовная санкция, является не признанный ответственным субъект права, а некий элемент, коррелятивный технике отвода опасных индивидов, технике опеки над теми, кто восприимчив к уголовной санкции, нацеленной на их исправление и реадаптацию. Иными словами, заботу о преступном индивиде отныне берет на себя техника нормализации. Именно этому замещению юридически ответственного индивида элементом, коррелятивным технике нормализации, именно этой трансформации и способствовала, наряду с многими другими средствами, психиатрическая экспертиза \ 33\ .
Появление, возникновение техник нормализации и сопряженных с ними властных рычагов я и хотел бы попытаться исследовать, приняв в качестве принципа исходной гипотезы (я остановлюсь на этом чуть более подробно в следующий раз) то, что эти техники и сопряженные с ними рычаги нормализации не просто стали следствием встречи, объединения, взаимной прививки медицинского знания и судебной власти, но что на самом деле особой разновидности власти – не медицинской и не судебной, а другой – удалось захватить и вытеснить на всех уровнях современного общества как медицинское знание, так и судебную власть; эта власть нового типа выходит на театральную сцену суда, опираясь, разумеется, на судебный и медицинский институты, но вместе с тем обладает самостоятельностью и собственными правилами. Возникновение нормализующей власти, то, каким образом она сложилась, то, каким образом она сумела установиться, никогда не опираясь на один-единственный институт, но вводя в игру разные институты, и то, каким образом она распространила в нашем обществе свое господство, – вот что я хочу рассмотреть[13]. За это мы и примемся в следующий раз.
Лекция 15 января 1975 года
Безумие и преступление. – Извращенность и инфантильность. – Опасный индивид. – Эксперт-психиатр не может не быть убюэскным персонажем. – Эпистемологический уровень психиатрии и его регрессия в судебно-медицинской экспертизе. – конец конфликтных отношений между медицинской и судебной властями. – Экспертиза и ненормальные. – критика понятия подавления. – Исключение прокаженных и включение зачумленных. – Изобретение позитивных технологий власти. – Нормальное и патологическое.
На прошлой неделе по окончании лекции кто-то спросил меня: может быть, я ошибся и, вместо того чтобы читать обещанный курс о ненормальных, решил заняться судебно-медицинскими экспертизами? Это совсем не одно и то же, но вы увидите, как, начав с проблемы судебн-медицинской экспертизы, я выведу вас к проблеме ненормальных.
В самом деле, я попытался показать вам, что в терминах Уголовного кодекса 1810 года, в тех самых формулах знаменитой 64-й статьи, где нет ни преступления, ни правонарушения, если индивид в момент их совершения был в состоянии помутнения рассудка, экспертиза должна позволять, во всяком случае должна была бы позволять, провести раздел – дихотомический раздел между болезнью и ответственностью, между патологической обусловленностью и свободой юридического субъекта, между терапией и наказанием, между медициной и уголовной практикой, между больницей и тюрьмой. Нужно выбрать, так как безумие упраздняет преступление, так как безумие не может быть местом преступления, и наоборот, само по себе преступление не может быть деянием, коренящимся в безумии. Принцип вращающейся двери: когда на сцену выходит патологическое, криминальность, в терминах закона, должна исчезнуть. В случае безумия медицинский институт должен главенствовать над институтом судебным. Правосудие не может заниматься безумцем или, точнее, безумие [rectius: правосудие] должно отступиться от безумца, как только оно признает его таковым: это принцип прекращения дела в юридическом смысле этого термина.
Однако этот раздел и этот принцип раздела, отчетливо заявленный в статьях кодекса, современная экспертиза фактически подменила другими механизмами, постепенно складывавшимися на протяжении XIX века; вы можете увидеть, как они оформляются уже относительно рано, как я, вероятно, уже говорил, в своеобразном общем сотрудничестве: скажем, в 1815–1820 годах присяжные заседатели заявляют, что некто виновен, и в то же время, невзирая на подтвержденную вердиктом вину, просят поместить его в лечебницу, так как он болен. Таким образом, коллегии присяжных начинают налаживать родство, сожительство, взаимовыручку безумия и преступления; но и сами должностные судьи до некоторой степени мирятся с этим своеобразным союзом, говоря зачастую, что, несмотря на совершённое преступление, хорошо было бы заключить индивида в психиатрическую лечебницу, так как в конечном счете шансов выйти из этой лечебницы у него не больше, чем из тюрьмы. когда в 1832 году будут приняты смягчающие обстоятельства, это позволит добиваться как раз таких приговоров, которые сбалансированы с учетом отнюдь не обстоятельств преступления, а квалификации, оценки, диагноза самого преступника. Так постепенно завязывается тот своеобразный судебно-медицинский континуум, следствия которого для нас налицо и ключевым институтом которого становится судебно-медицинская экспертиза.
В общих чертах можно сказать так: принцип взаимоисключения медицинского и судебного дискурсов современная экспертиза заменила игрой, которую можно было бы назвать игрой двойной квалификации – медицинской и судебной. Эта практика, эта техника двойной квалификации, в свою очередь, способствует организации того, что можно назвать областью «извращенности», очень любопытного понятия, которое стало появляться во второй половине XIX века и вскоре захватило всю эту территорию двойной детерминации, обусловив появление в дискурсе экспертов, пусть и ученых, целой серии откровенно устаревших, комичных или несерьезных терминов и элементов. Если вы заглянете в судебно-медицинские экспертизы вроде тех, что я зачитывал вам в прошлый раз, вам бросятся в глаза такие словечки, как «леность» или «гордыня», «упрямство» или «злобность»; эти сообщаемые вам биографические элементы являются вовсе не принципами разъяснения поступка, а своего рода нехитрыми предзнаменованиями, малосущественными событиями детства, пустяковыми сценами, в которых уже присутствует прообраз преступления. Это своего рода редукция криминальности к детству, ее характеристика в таких же терминах, какими изъясняются родители или пишутся моральные наставления в детских книжках. Несерьезность терминов, понятий и анализа, заложенная в самой сердцевине современной судебно-медицинской экспертизы, на самом деле выполняет строго определенную функцию: она служит обменником между юридическими категориями, которые определены кодексом и допускают наказание лишь в том случае, если действительно имел место злой умысел или обман, и медицинскими понятиями вроде «незрелости», «слабости Я», «неразвитости Сверх-Я», «структуры характера» и т. п. Хорошо видно, что такого рода понятия – в общем и целом понятия, определяющие извращенность, – позволяют скрестить серию юридических категорий, характеризующих обман, злой умысел, и серию категорий, возникших главным образом внутри медицинского или, во всяком случае, психиатрического, психопатологического, психологического дискурса. Поле понятий извращенности, не выходящих за рамки своего сюсюкающего лексикона, позволяет вводить медицинские понятия в поле судебной власти, а юридические понятия, наоборот, в поле компетенции медицины. Таким образом, это слаженно работающий обменник, и чем он слабее эпистемологически, тем его работа эффективнее.
А вот другая операция, обеспечиваемая экспертизой: институциональная альтернатива «или тюрьма, или лечебница», «или искупление, или лечение» подменяется принципом однородности социального реагирования. Экспертиза позволяет обосновать или как минимум оправдать наличие своеобразного защитного континуума, который окутывает всё социальное тело, от медицинской инстанции исцеления до собственно уголовного института, то есть тюрьмы, а в пределе – эшафота. Ведь за всеми этими уголовными дискурсами Новейшего времени, то есть за той уголовной практикой, что начала складываться в XIX веке, маячит, как вы знаете, бесконечно повторяющаяся короткая фраза: «Ты кончишь на эшафоте». Но если фраза «Ты кончишь на эшафоте» возможна (настолько, что все мы более или менее периодически слышим ее с тех пор, как впервые получили плохую отметку в школе), если эта фраза действительно возможна, если у нее есть историческое основание, то потому, что континуум, простирающийся от первой индивидуальной исправительной меры до высшей юридической санкции, каковой является смерть, был подготовлен впечатляющей практикой, впечатляющим процессом институционализации подавления и наказания, который дискурсивно поддерживался уголовной психиатрией, и в частности чрезвычайно важной экспертной деятельностью. Общество отвечает патологической криминальности двояко, а точнее, предлагает ей единообразный ответ, но с двумя ударениями – искупительным и терапевтическим. Но два эти ударения являются полюсами единой, непрерывной сети институтов, функцией которых, в сущности, является ответ – но ответ чему? Не исключительно болезни, конечно, ибо, если бы речь шла только о болезни, мы имели бы дело с чисто терапевтическими институтами, но и не исключительно преступлению, ибо тогда достаточно было бы институтов карательных. Так чему же, собственно, отвечает весь этот континуум, у которого есть терапевтический полюс и судебный полюс, вся эта институциональная мешанина? Она отвечает опасности.
Именно к опасному индивиду, то есть не то чтобы к больному, но и не к преступнику в чистом виде, обращен этот институциональный ансамбль. В психиатрической экспертизе (и циркуляр 1958 года, по-моему, говорит об этом прямо) предмет диагностики эксперта – индивид, с которым тот должен сразиться в рамках своего допроса, анализа и диагноза, – это индивид потенциально опасный. Так что в итоге мы обнаруживаем два симметричных понятия, в которых вы сразу же отметите близость, соседство: с одной стороны, понятие «извращения», позволяющее сшить серии медицинских и юридических концептов, а с другой стороны, понятие «опасности», «опасного индивида», позволяющее оправдать и обосновать в теории существование непрерывной цепи судебно-медицинских институтов. Опасность и извращение – вот что, как мне кажется, составляет своего рода сущностное, теоретическое ядро судебно-медицинской экспертизы.
Если же теоретическое ядро судебно-медицинской экспертизы именно таково, то исходя из этого мы можем понять целый ряд явлений. Первое среди них – это, разумеется, тот самый гротескный и убюэскный характер, что я попытался продемонстрировать в прошлый раз, зачитав вам несколько экспертиз, которые, повторю, все как одна принадлежат громким именам судебной психиатрии. Поскольку сейчас я не буду цитировать эти отчеты, я могу назвать имена их авторов (которые вы не сможете соотнести с соответствующими экспертизами). Итак, это Сенак, Гуриу, Эйе и Жени-Перрен \ 1\ . Собственно гротескный, собственно убюэскный характер уголовного дискурса может быть убедительно объяснен в том, что касается его существования и сохранения, исходя из этого теоретического ядра, образуемого парой «извращение – опасность». В самом деле, очевидно, что стыковка медицинского и судебного, которую обеспечивает судебно-медицинская экспертиза, эта взаимосвязь медицинского и судебного осуществляется именно благодаря воскрешению категорий, которые я бы назвал элементарными категориями нравоучения и которые распределяются вокруг понятия «извращенности»: например, категории «гордости», «упрямства», «злости» и т. д. Иными словами, стыковка медицинского и судебного подразумевает восстановление в правах сюсюкающего, родительско-детского дискурса, речи родителей в адрес ребенка, речи, какой урезонивают ребенка, – и не может без этого восстановления осуществиться. Возрождается детский дискурс, а точнее – дискурс, сознательно обращенный к детям и непременно имеющий характер сюсюканья. С другой же стороны, это дискурс, который организуется не просто вокруг поля извращенности, но также и вокруг проблемы социальной опасности: это еще и дискурс страха, дискурс, задача которого – обнаружить опасность и дать ей отпор. Таким образом, это дискурс страха и дискурс нравоучения, это детский дискурс, это дискурс, чья эпистемологическая организация, всецело руководимая страхом и нравоучением, не может не быть смехотворной, даже применительно к безумию.
Однако этот убюэскный характер связан не просто с личностью того, кто произносит соответствующие слова, и даже не просто с неразработанным состоянием экспертизы или знания, с нею сопряженного. Напротив, этот убюэскный характер весьма позитивным образом связан с той ролью обменника, которую выполняет уголовная экспертиза. Он напрямую связан с функциями этой экспертизы. В последний раз вернувшись к Убю (чтобы затем его оставить), скажу, что, если признать – как я попытался показать это в прошлый раз, – что Убю олицетворяет исполнение власти посредством прямого развенчания того, кто ее исполняет, если политический гротеск есть отрицание носителя власти тем самым ритуалом, который манифестирует эту власть вместе с ее носителем, то вам не составит труда понять, что психиатр-эксперт действительно не может не быть убюэскным персонажем. Он не может вершить страшную власть, которая на него возложена, – она в конечном счете заключается в назначении наказания индивиду или даже в значительном участии в этом наказании, – иначе, нежели при помощи детского дискурса, который развенчивает его как ученого в тот самый момент, когда он призван именно в качестве ученого, а также при помощи дискурса страха, который осмеивает его в тот самый момент, когда он выступает в суде по вопросу о человеке, сидящем на скамье подсудимых и, как следствие, не имеющем никакой власти. Он изъясняется языком ребенка, он говорит на языке страха, он – ученый, находящийся под эгидой правосудия, защищаемый, даже освящаемый всем судебным институтом с его мечом. Этот бормочущий язык экспертизы функционирует именно как средство, которое передаст от судебного института к медицинскому и обратно присущие им обоим властные эффекты, совершая дисквалификацию стыкующего звена. Другими словами, это графиня де Сегюр то под покровительством Эскироля, то под защитой Фукье-Тенвиля \ 2\ . В общем, вы понимаете, почему всем, от Пьера Ривьера до Рапена \ 3\ или людей, чьи экспертизы я зачитывал вам в прошлый раз, почему всем, от Пьера Ривьера до этих сегодняшних преступников, посвящаются дискурсы одного и того же типа. Что обнаруживают все эти экспертизы? Болезнь? Вовсе нет. Вменяемость? Нет. Свободу? Отнюдь. Они всегда обнаруживают одни и те же образы, одни и те же жесты, одни и те же позы, одни и те же ребяческие сцены: «Он играл с деревянным оружием»; «Он обезглавливал капусту»; «Он огорчал своих родителей»; «Он пропускал школу»; «Он не учил уроки»; «Он был ленив». И в итоге: «Я делаю заключение, что он был вменяем». В сердцевине того механизма, где судебная власть, расшаркиваясь, уступает место медицинскому знанию, обнаруживается, как вы видите, Убю – невежественный и запуганный, но потому-то и позволяющий привести в действие эту двойственную машинерию. Шутовство и функция психиатрического эксперта составляют единое целое: именно в качестве функционера эксперт и в самом деле шут.
Теперь, имея в виду сказанное выше, мы можем восстановить черты двух коррелятивных друг другу исторических процессов. Во-первых, с XIX века до наших дней налицо любопытнейшая историческая регрессия. Поначалу психиатрическая экспертиза – экспертиза Эскироля, Жорже, Марка – была простым перенесением в судебный институт медицинского знания, рожденного снаружи – в больнице, в ходе клинического эксперимента \ 4\ . Теперь же мы имеем дело с экспертизой, которая, как я говорил вам в прошлый раз, совершенно оторвана от психиатрического знания нашего времени. Ибо, каково бы ни было наше мнение о языке нынешних психиатров, мы ясно понимаем, что то, что говорит психиатр-эксперт, на тысячу ступеней ниже эпистемологического уровня психиатрии. Но что возрождается в этой странной регрессии, в этом развенчании, разложении психиатрического знания в экспертизе? То, что тут возрождается, опознать нетрудно. Это нечто похожее на один текст, взятый мною из литературы XVIII века. Речь идет о прошении, ходатайстве, поданном матерью семейства о том, чтобы ее сына поместили в исправительный дом Бисетр, в 1758 [rectius: 1728] году. Я позаимствовал его из работы о королевских указах, которую готовит сейчас кристиана Мартен. И вы узнаете в нем тот самый тип дискурса, который сегодня используется психиатрами.
«Просительница [то есть женщина, которая просит королевского указа о заключении своего сына под стражу. – М. Ф.] после трех лет вдовства вторично вышла замуж, чтобы обеспечить себе средства к существованию торговлей в галантерейной лавке; при этом она сочла правильным оставить при себе своего сына <…>. И этот распутник пообещал слушаться ее, надеясь на то, что она даст ему аттестат подмастерья галантерейщика. Просительница, нежно любившая своего ребенка несмотря на все горести, которые тот ей [уже] причинил, взяла его в подмастерья и оставила при себе – к несчастью для себя и для [других] своих детей, на долгие два года, на протяжении которых он ежедневно обкрадывал ее и, несомненно, разорил бы, если бы оставался с нею и далее. Решив, что с другими людьми ее сын будет вести себя лучше, тем более что он сведущ в торговле и может работать, просительница устроила его к г-ну кошену, вполне порядочному человеку, владельцу галантерейной лавки у ворот Сен-Жак; но этот негодяй три месяца притворялся хорошим, а затем похитил шестьсот ливров, которые просительница была вынуждена уплатить, чтобы спасти жизнь своего сына и честь своей семьи <…>. Тогда наш мошенник, не зная, как ему еще провести свою мать, решил убедить ее, что хочет посвятить себя религии, а для этого хитростью привлек к себе нескольких честных людей, [которые], свято поверив в то, что этот плут им говорил, осыпали мать увещеваниями и говорили, что ей придется отвечать перед Богом за то, что случится с ее сыном, если она воспротивится его призванию <…>. Просительница, которая за многие годы привыкла к дурным поступкам своего сына, тем не менее попала в расставленные сети и великодушно дала ему всё необходимое для поступления в монастырь Иверно <…>. Но, не пробыв там и трех месяцев, этот несчастный заявил, что местный порядок ему не нравится и он предпочел бы стать премонстрантом \ 5\ . Просительница, заботясь о том, чтобы впоследствии ей не в чем было себя упрекнуть, снова дала сыну всё, что требовалось для вступления в дом премонстрантов, и он постригся. Однако наш негодяй, действительной целью которого было обмануть свою мать, в скором времени выдал свою злонамеренность, и это заставило каноников [премонстрантов. – М. Ф.] выгнать его из своего дома по прошествии шести месяцев испытательного срока». Текст продолжается в том же духе и заканчивается такими словами: «Просительница [то есть мать. – М. Ф.] обращается к Вашей милости, монсеньор, и покорнейше просит удовлетворить это прошение, взяв ее сына под стражу и отправив его в исправительный дом при первом удобном случае, так как иначе она и ее супруг никогда не обретут покоя, а жизнь их не станет безопасной» \ 6\ .
Извращенность и опасность. как видите, нам открывается возродившаяся под покровом современных институтов и знаний практика, которую судебная реформа конца XVIII века попыталась упразднить и которую теперь мы находим ничуть не пошатнувшейся. И это не просто некий архаизм, пережиток, но поступательное развитие: по мере того как преступление всё более патологизируется, а эксперт и судья меняются ролями, вся эта форма контроля, оценки, а также сопряженный с характеристикой индивида властный эффект – всё это постепенно активизируется.
Между тем наряду с регрессией и возобновлением этой, теперь уже многовековой, практики имеет место, а в некотором смысле и противостоит ей, другой исторический процесс – постоянное запрашивание власти под лозунгом модернизации юстиции. Я имею в виду, что с начала XIX века мы неизменно видим, как запрашивается, и всё более настойчиво запрашивается, судебная власть врача – или опять-таки медицинская власть судьи. В самом начале XIX века проблема власти врача в судебном аппарате была, в сущности, проблемой конфликтного характера, в том смысле, что медики, по причинам, разъяснять которые сейчас было бы слишком долго, отстаивали право на применение своего знания внутри судебного института. Чему судебный институт в основном противился как вражескому нашествию, как конфискации, как дисквалификации своей собственной компетенции. Однако с конца XIX века, и это важно, наоборот, постепенно зарождается всеобщее стремление судей к медикализации их профессии, их функции, выносимых ими решений. И вместе с тем смежное стремление к, скажем так, судебной институционализации медицинского знания: «Я юридически компетентен как медик», – повторяют врачи с [начала] XIX века. А во второй половине того же века мы замечаем, что и судьи начинают говорить: «Мы требуем, чтобы в нашу функцию входили не только суд и наказание, но и лечение». Показательно, что на II Международном конгрессе по криминологии, состоявшемся, кажется, в 1892 году (хотя, наверное, я ошибаюсь, точная дата позабылась, скажем, около 1890 года), были предприняты серьезные попытки отмены жюри присяжных на том основании \ 7\ , что оно [формируется] из людей, не являющихся ни врачами, ни судьями и, как следствие, не компетентными ни в области права, ни в медицине. Такое жюри может быть только препятствием, непроницаемым элементом, неуправляемым ядром внутри судебного института, каким тот должен быть в идеальном состоянии. Что должен включать в себя подлинный судебный институт? коллегию экспертов под юридической ответственностью назначаемого судьи. Иными словами, все судебные инстанции коллективного типа, введенные утоловной реформой конца XVIII века, предлагается отвергнуть ради того, чтобы наконец состоялся союз врачей и профессиональных судей, причем союз без посредника. Разумеется, такого рода притязание всего-навсего свидетельствует об одной из тенденций своего времени; оно сразу же вызвало массу возражений и у медиков, и особенно у судей. И тем не менее именно на него была направлена целая серия реформ, проведенных большей частью в конце XIX века и в ХХ веке и действительно заложивших своего рода судебно-медицинскую власть, главные элементы или основные проявления которой я перечислю.











