Читать онлайн Все хотят умереть завтра. Честная книга о хирургах и пациентах
- Автор: Павел Шнякин
- Жанр: Современная русская литература
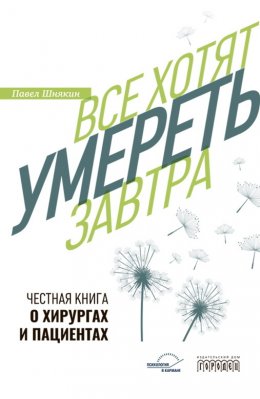
© П. Шнякин, 2025
© ИД «Городец», 2025
@ Электронная версия книги подготовлена
ИД «Городец» (https://gorodets.ru/)
Стоило ли обо всем рассказывать?
– Вы, врачи, кичитесь уникальностью и чуть ли не избранностью. А по сути, это такая же профессия, как многие другие, – в сердцах сказал мне один приятель.
Я ему что-то ответил. А потом написал эту книгу.
Сначала я просто хотел рассказать о нашей профессии – может, и не уникальной, но точно особенной. Рассказать, что не всегда мы работаем в идеальных условиях, что бывает непросто принять правильное решение и иногда мы ошибаемся. Не все наши пациенты выздоравливают, после некоторых случаев опускаются руки, мы валимся без сил после бессонного дежурства или многочасовой операции. И все же каждый из нас уверен: лучшей профессии нет.
Мне хотелось рассказать, что такое быть врачом и особенно хирургом. А поскольку сам я нейрохирург, то приводил примеры из мира «мозговых катастроф».
И все же эта книга не про нейрохирургию.
Когда я написал несколько глав про врачей, поймал себя на том, что книга выйдет однобокой, если не рассказать и о пациентах. О том, как они боятся врачей и в то же время ждут от них невозможного. Какими медицинскими мифами руководствуются и как часто поспешно судят о врачах. Как падают духом и проявляют истинный героизм.
Я написал половину книги и понял, что пишу уже не только о пациентах и врачах, но и для врачей, в первую очередь для молодых коллег, только начинающих путь в медицине. Я спешил поделиться некоторыми хитростями и секретами, которыми меня самого когда-то научили. Мне хотелось рассказать о том, на что стоит ориентироваться и чего опасаться. Как можно научиться быстро оперировать, но так и не научиться врачевать.
Главы стали рождаться, как матрешки, – одна из другой, а я только поспевал записывать все, что вспоминалось и наболело. Когда же я поставил последнюю точку, задумался: а стоило ли обо всем этом рассказывать? Нужно ли было раскрывать секреты внутренней кухни?
То, что обсуждается в кругу врачей, не принято выносить на широкую публику. Это основа корпоративной этики. Но корпоративная этика не должна стать непроглядной завесой от простых смертных, если врачи хотят, чтобы им доверяли. Мы должны научиться говорить честно не только о своих победах и достижениях, но и о неудачах и проблемах, иначе они так и останутся в тени. А общество, которое любит осуждать промахи врачей, будет иметь неполную и недостоверную картину нашей работы.
Предвижу осуждение коллег: «Обычные люди книгу не воспримут, а то и просто ужаснутся. А мы и так обо всем знаем».
Не исключено.
Но я надеюсь, что адекватный взрослый человек все воспримет правильно и станет с большим пониманием и, может, даже с уважением относиться к докторам.
А коллеги пусть над чем-то посмеются, где-то нахмурят брови, в каких-то местах согласно закивают, в других скажут: «Ну, нет». И это будет хорошо, значит, книга удалась.
Итак.
Эта книга наблюдений и заметок о медицине, врачевании и хирургии.
Эта книга о том, что лучше профессии врача ничего нет.
Эта книга про то, как непросто быть врачом.
Эта книга о хирургах, которые и боги, и обычные люди.
Эта книга о пациентах, которые боятся врачей и ждут от них невозможного.
Эта книга о сложных решениях и непоправимых действиях.
Это книга-призыв: не спешите судить докторов.
Если совсем кратко.
Студентов и ординаторов – насторожить.
Врачей – поддержать.
Всем остальным – понять.
Часть I
Пациенты: страхи, надежды, вопросы
Бомба в голове
Когда вы умрете?
Скорее всего, вы даже не пытались об этом думать. И правильно – думать об этом неприятно. Тогда вместо прямого ответа попрошу пройти известный в психологии тест. Очень простой и страшный.
Прямая линия – это ваша жизнь. Точки А и Б – рождение и смерть. Задача простая: поставьте точку там, где сейчас находитесь вы. Нужно просто предположить.
Сложно? Все зависит от вашего возраста. Чем вы старше, тем менее ошибочно и более уверенно это сделаете.
В своем рассуждении, скорее всего, вы оттолкнетесь от средней продолжительности жизни. В России на 2024 год она составляет 75 лет. Поэтому если вам 40 лет и меньше, вы поставите точку где-то посередине или чуть правее.
Но кто доживает до 75 лет? В основном те, кто умирают от типичных болезней, ассоциированных с возрастом: инфаркт миокарда, инсульт, онкологические болезни, сахарный диабет и другие заболевания. Чтобы дожить до 75 лет, вы должны избежать не только тяжелых болезней, но и смерти от возможных внешних причин. В том числе, нужно не упасть с лошади. Неудачный пример? А в Тыве, например, это одна из частых причин смерти молодых мужчин.
Неприятная новость.
Даже если вам посчастливилось не упасть с лошади и избежать других травм, даже если вы занимаетесь спортом, не курите, правильно питаетесь и ваши мама-папа-бабушки-дедушки долгожители, оптимистический прогноз на жизнь в один миг может оборваться. Виной этому может быть маленькая бусинка, затаившаяся в глубине черепа. Эта красная бусинка покоится на основании мозга, в окружении сосудов и нервов, где-то в самом центре головы. Омываемая теплыми волнами спинномозговой жидкости, тихо дремлет она месяцами и годами. И как в страшной сказке: ее сон – это ваша жизнь. Лучше ей никогда не проснуться. Имя этой бусинки – аневризма.
По своей сути аневризма – выпячивание стенки артерии головного мозга. Только стенка аневризмы не такая прочная, как у самой артерии, на которой она сидит, а истонченная, иногда сквозь нее видно движение крови. Поскольку сейчас все автолюбители, самая простая аналогия с аневризмой – грыжа на колесе, тоже «слабое место». Если грыжа лопнет во время движения автомобиля, последствия представить может каждый.
Когда разрывается аневризма, 10–15 % людей умирают на месте до приезда скорой помощи из-за массивного кровоизлияния в мозг. Быстрая смерть, не мучительная. Человек теряет сознание и умирает без боли. Но для родных и близких тяжело. Слишком неожиданно. К примеру, до инфаркта миокарда люди обычно уже имеют жалобы на сердце, и можно в перспективе предполагать неблагоприятный исход. А аневризма не доставляет человеку проблем, не вызывает жалоб, ее существование безмолвно. Поэтому убитые горем близкие так часто повторяют: «Но она ни на что не жаловалась», «У него даже голова никогда не болела», «Она всегда следила за давлением», «Утром, уходя на работу, он чувствовал себя хорошо».
Еще 20–30 % пациентов с разрывом аневризм привозят в нейрохирургические отделения в тяжелом состоянии. (Нейрохирурги будут нередкими гостями последующих глав книги. Это они оперируют пациентов с аневризмами головного мозга.) Но если пациент поступает в очень тяжелом состоянии, операцию откладывают до стабилизации. И тогда близкие пациента повторяют другое: «Почему вы его не оперируете, чего ждете?», «Какой у него прогноз?», «Шансов нет совсем?»
Остальных пациентов скорая помощь доставляет в состоянии средней тяжести, обычно с выраженной головной болью. Такие пациенты оперируются «с колес» – так быстро, насколько возможно, пока не случился второй разрыв, который будет, скорее всего, фатальным. Большую часть таких пациентов удается спасти, однако после операции 10–20 % умирают от развившихся осложнений.
Если все сложить: умершие до приезда скорой помощи, плюс умершие из-за тяжелого состояния, без операции, плюс умершие после операции, получается, что около 40 % пациентов не переживут разрыв аневризмы. Весьма грустный показатель. Да и вообще нейрохирургия в целом не веселая. Но об этом позже.
Теперь о частоте и причинах возникновения коварных красных бусинок.
Аневризма сосудов головного мозга встречается примерно у трех человек из ста. Это в России. В Японии этот показатель в два раза выше, да и вообще среди азиатов. Но и три человека из ста – немало. Конечно, не русская рулетка, где шанс застрелиться после первого выстрела при барабане в шесть пуль – 16,6 %, но и мы не лихие гусары, а обычные люди, поэтому опасаемся попасть даже в 3 %. А это вполне реально. Аневризма может оказаться у меня, пишущего эти сроки, или у вас, их читающих. Но сплюнем и постучим по дереву: пусть только не у нас. Пусть, как икота, аневризма будет у Федота из поговорки.
Не буду нагонять жути. У большинства пациентов аневризмы очень маленькие и не представляют угрозы. В среднем они разрываются с частотой 10 случаев на 100 000 населения в год. Значит, в России с населением 146 млн человек в течение года аневризмы разрываются примерно у 1460. Не так и много. Для примера, в 2023 году в дорожно-транспортных происшествиях погибло в десять раз больше россиян – 14 500.
Но цифры и сравнения хороши, когда ты сторонний наблюдатель. А если у человека обнаруживается аневризма, ему уже не важно, что у 97 из 100 их нет, его заботит, что он попал в 3 % неудачников. И он спрашивает нейрохирурга: «Отчего у меня аневризма?», «Это врожденное?», «Мог в детстве удар по голове ее спровоцировать?», «Может, это связано с тем, что мы долго жили около алюминиевого завода?», «Наверное, это из-за стресса». Человеку всегда нужно знать причину его недуга, желательно понятную и единственную. Прежде чем довериться доктору и согласиться на лечение, тем более на операцию, пациент должен быть уверен, что врач знает, отчего «это произошло».
Обычно пациент рассуждает так: доктор знает, отчего случилась болезнь, поэтому сможет ее вылечить. Логика верная, но не во всех случаях. Иногда доктор может вылечить пациента, не имея четких представлений о причине болезни. Вполне возможно умело удалить опухоль мозга без подлинного представления о причине ее возникновения. Но это понятно для медиков, пациенты же верят в «непрерывность» знаний врачей: и причина болезни, и методы лечения находятся в прочной связке. Никто не захочет услышать: «Понятия не имею, отчего это у вас, но с удовольствием прооперирую».
Ну, а если мы порой и правда понятия не имеем?
Причин образования аневризм много: и врожденная предрасположенность, и некоторые заболевания, в том числе гипертоническая болезнь. Иногда аневризмы встречаются у детей, но чаще во взрослом состоянии. Разрываются также – когда «захотят», но пик приходится на 50–60 лет – прекрасный возраст, когда человек уже многого добился, еще трудоспособен, дети подросли, а у кого-то есть внуки. Живи и радуйся. Но у аневризмы другие планы.
Кроме непосредственных причин болезни, почти у каждой есть факторы риска. Обычно факторы риска способствуют более быстрому развитию болезни. У аневризм есть два доказанных фактора риска образования и разрыва: женский пол и курение. Бедные женщины – мало у них проблем, так еще и аневризмы образуются и разрываются чаще, чем у мужчин. Кстати, отказ от курения – профилактика не только рака легкого, но и формирования аневризм. С этих позиций лучше быть некурящим мужчиной, чем курящей женщиной. Все бы хорошо, но и у некурящих мужчин аневризмы рвутся ненамного реже. Почти как в известной шутке: разорвавшейся аневризме будет все равно, что вы уже два года не курите.
Разрываются аневризмы при разных обстоятельствах, нередко на фоне повышения артериального давления, в том числе после физической нагрузки. У одного нашего пациента аневризма разорвалась во время коитуса и вызвала интенсивную головную боль. Врачам известно, что существует разновидность головной боли – «сексуально обусловленная», часто возникающая во время оргазма. Она имеет свои причины, но в целом неопасна, от нее не умирают. Поэтому, когда пациент обратился на следующий день к врачу, ему так и сказали: «Посткоитальная головная боль, ничего страшного».
Но головная боль не проходила, и через пару дней человек самостоятельно выполнил МРТ головного мозга, где выявили разрыв аневризмы. Нейрохирурги успели ему помочь: выполнили трепанацию черепа и закрыли аневризму. Перед выпиской пациент зашел попрощаться и уточнил: «В следующий раз во время секса у меня больше ничего не порвется?» Доктора уверили, что опасности больше нет и он может заниматься сексом совершенно спокойно и с удовольствием.
Дальнейшая судьба пациента неизвестна, но можно предположить, что случившийся эпизод, когда он мог умереть, как Рафаэль, на женщине, при определенной мнительности приведет к развитию психогенной эректильной дисфункции. Ведь что бы там доктора ни говорили, пациенту всегда видней, и он знает, что, порвавшись раз, может порваться и второй. Страх перед Танатосом побеждает Эрос.
У некоторых спортсменов аневризма разрывается на тренировке или во время соревнований – к нам привозили пациентов из спортзалов и стадионов.
Однажды к нам поступил мальчик 14 лет с сильной головной болью. Острая боль развилась на тренировке по вольной борьбе. Тренер вызвал скорую помощь. Приехавший врач заподозрил разрыв аневризмы и доставил мальчика в инсультный центр. Там врачу сказали, чтобы он не выдумывал ни про какую аневризму, мало ли от чего у мальчика голова заболела, переутомился, наверное. Но врач скорой помощи стоял на своем:
– Не уйду, пока не примете и не сделаете томограмму.
– Да кто ты такой, чтоб нам указывать? Ты просто врач скорой помощи, а мы тут великие специалисты-неврологи и лучше тебя знаем, отчего у детей болит голова, – не прямо, но по смыслу так говорили доктора инсультного центра.
Но врач скорой помощи был непреклонен. Чтобы наконец решился вопрос и не затягивался конфликт, ребенку все же сделали компьютерную томографию, предвкушая, как посадят в лужу этого выскочку со скорой помощи. Но оконфузить доктора не вышло: томография показала массивное кровоизлияние вследствие разрыва аневризмы сонной артерии. Мальчика срочно перевели в сосудистый центр, где нейрохирурги выключили аневризму из кровотока и спасли ему жизнь. Но первично спас ему жизнь врач скорой помощи своими знаниями и настойчивостью. Я восхищаюсь и вдохновляюсь такими докторами.
Мэтры нейрохирургии в глубине черепа могут сшить сосуды диаметром в миллиметр нитью тоньше, чем волос. Изумительно, невероятно, мы говорим в таком случае – очень круто! Но это все же технический навык, и он достижим. А есть качества, которые не натренируешь у взрослого человека: сочувствие, ответственность, принципиальность. Они по большей части врожденные, и отчасти определяемые воспитанием.
Как мог поступить доктор скорой помощи, когда мальчика отказывались принимать? Как сделали бы некоторые другие, к сожалению. Он мог сказать: – Хорошо, под вашу ответственность, делайте запись, что у него нет разрыва аневризмы, и я уйду.
В таком случае судьба мальчика была бы трагична, он бы умер в ближайшее время от повторного разрыва. Но доктор не отступил. Сейчас его пациенту должно быть уже 20 лет, надеюсь, он жив и здоров. Немного обидно, что парень никогда не узнает про простого врача скорой помощи, который спас ему жизнь.
Но и без физической нагрузки и повышения артериального давления аневризмы разрываются не реже. А еще учеными выявлено, что аневризмы чаще разрываются зимой, чем летом, и преимущественно в утренние часы.
За время своей работы нейрохирургом я видел не менее тысячи пациентов с разрывами аневризм. Молодые и глубокие старики, мужчины и женщины, безработные и директора заводов. Все эти случаи оставляли во мне след. Не только как пациенты, которым я должен был оказать помощь, а как напоминание о том, как хрупка жизнь и как «внезапно смертен человек».
Здоровый, молодой, жизнерадостный, успешный.
Семья, друзья, работа, планы.
Жить, любить, творить.
Но в самом тонком месте аневризмы величиной в миллиметр уже образовалась дыра, и через нее хлынула кровь, и залила весь мозг, все мечты, весь мир.
Можно погибнуть в автодорожной аварии или утонуть в море во время отпуска. Но еще страшней, когда «бомбу замедленного действия», свою смерть, носишь в голове.
Просыпаешься, чистишь зубы, смотришься в зеркало, выдергиваешь отросший за ночь на носу волос. Разглядываешь свое лицо. Но видишь не дальше кожи. А судьба затаилась позади нее, за слоем жировой клетчатки, мышц, костей, в самом центре мозга. Ты ее не видишь. Как странно, нелепо, обидно: глаза могут видеть звезды, находящиеся в миллионах километров от нас, но не могут обернуться, посмотреть внутрь и увидеть аневризму, притаившуюся в десяти сантиметрах на сосудистой веточке.
Однажды мне приснился сон, что у меня разорвалась аневризма. Это был один из самых страшных кошмаров. Во сне я не помнил, что я нейрохирург, знаю, как их лечить и к кому обратиться за помощью. Я был в ужасе и проснулся с колотящимся сердцем. Утром у меня даже возникло желание сделать МРТ головного мозга и убедиться, что никаких аневризм в моей голове нет. А если есть? Как и все врачи, я не верю в здоровых, а только в недообследованных.
У одного профессора-нейрохирурга каждый день болела голова. Коллеги говорили: «Да сделайте уже МРТ!» На что он всегда отвечал: «Никогда! Не дай Бог еще чего найдут там». Когда-то мне это казалось беспечностью, а сейчас в этих словах сквозит какая-то мудрость. В общем, и я МРТ делать не стал.
Однажды мне пришла в голову мысль: а почему бы не жить с представлением о том, что у меня в голове действительно есть аневризма, способная разорваться в любую секунду. Это ведь вполне вероятно – риск не менее 3 %. Кроме того, существует ненулевая вероятность того, что я не допишу это предложение, и она разорвется.
Фу… дописал.
Мысль эта меня не страшит, ну, разве что умеренно, а больше вдохновляет и настраивает на философский взгляд на жизнь (привет Марку Аврелию и всем стоикам). Это уже не абстрактное «memento mori», а что-то конкретное и мне хорошо известное. И это значит, пока не разорвалась вероятно существующая в моей голове аневризма, нужно поторопиться и успеть:
– дописать книгу,
– сказать родным, что люблю их,
– воплотить планы и мечты,
– не наделать глупостей,
– попытаться помочь всем обратившимся,
– стать достойным человеком,
– и, наконец, выучить английский.
Пока не разорвалась аневризма.
Бойся бесстрашных
Медицина страшна, больница страшна, врачи страшны.
Знак медицины – красный крест. Красный – цвет крови. Крест – недвусмысленный символ.
Больница – место, где боль. А за каждой больницей – морг. Пациент, попав в больницу, знает, что выхода у него всегда два.
Врачи носят белый халат. Белый в медицине – цвет чистоты. Но для пациента белый – это цвет пустоты, холода, смерти. «Белый, как смерть».
Врачей боятся дети и взрослые. От легкого волнения до панического ужаса. К врачу как к палачу. Интересно, влияет ли это на выбор профессии врача? Неосознанное желание, чтобы тебя боялись?
Дебри, дебри…
Медики боятся врачей не меньше, а часто – больше обычных людей. Если пациенты часто испытывают страх из-за незнания, то медики – из-за избытка знаний. Старая врачебная шутка: «Я очень боюсь врачей, особенно своих однокурсников». Но эта шутка основана на реальных событиях. Вспоминаю некоторых из своих однокурсников, как они учились, как проводили свободное время, и понимаю, что совсем не хотел бы оказаться их пациентом. Пусть уж лучше лечат другие, про которых я ничего не знаю. Правда, иногда из слабых студентов получаются хорошие доктора.
Со мной на курсе учился парень, балансировавший все шесть лет между двойкой и тройкой. На шестом курсе одногруппники над ним подтрунивали:
– Ну что, определился – ты прокариот (одноклеточный) или эукариот (многоклеточный)?
Он всегда путался и неизменно отвечал:
– Погодите, ну это… прокариот!
Прошло время, и мой сокурсник стал уважаемым доктором с хорошими отзывами от пациентов. Но такое случается не со всеми прокариотами.
Если в целом врачей боятся умеренно, то перед хирургами пациенты испытывают настоящий трепет и страх. Потому что они делают больно. Потому что имеют в арсенале всякие режущие и колющие штуковины. А еще потому, что хирургия связана с нарушением границ приватности. Хирурги видят то, что скрыто даже от самого пациента.
Все мы имеем богатый внутренний мир, мечты, фантазии, мысли и чувства, но видим себя только снаружи. Любой взрослый человек, конечно же, знает, что внутри у него есть органы и даже, возможно, не ошибется, укажет, какие расположены справа, а какие слева. Но никто из нас собственные внутренние органы воочию не наблюдал, и не дай бог наблюдать!
А все же интересно, какое оно на самом деле, это тревожное сердце? Как выглядит многострадальная печень? Какого цвета и консистенции мой мозг, который где-то там, сверху, над глазами, в недоступной темноте. Ни мы, ни наши близкие и любимые люди этого не видели и не знают. А хирург, которого вы вчера увидели в первый раз в жизни, завтра возьмет скальпель, рассечет кожу – и пред ним откроются все ваши внутренние сокровища. Уже не операция, а какой-то сакральный акт.
Ко мне, как к нейрохирургу, ежедневно на консультацию приходят пациенты. У кого-то на МРТ обнаружили опухоль, у кого-то аневризму. Мужчины и женщины, пожилые и молодые, профессора и простые работяги, и всех их объединяет одно – страх. Кто-то откровенно бледен и едва не дрожит, кто-то хмур, кто-то для виду храбрится и даже шутит, но в целом напуганы все. Некоторые сознаются, что накануне приема не спали всю ночь.
Возможно, еще неделю назад они не знали, кто такой нейрохирург и чем он занимается. Не видели в жизни ни одного нейрохирурга, не пили с ним на брудершафт и не играли в футбол. И вдруг этот невероятный нейрохирург сидит напротив и рассказывает, что для удаления опухоли нужно сделать трепанацию, и показывает на макете черепа, как все это будет выглядеть. Кошмарный сон, не иначе.
Обычно я начинаю разговор с вопроса о том, что беспокоит пациента в данный момент, затем уточняю, с чего началось заболевание, какие у него или у ближайших родственников есть другие болезни или проблемы со здоровьем. Настает момент, когда я прошу пациента показать мне снимки (МРТ или компьютерную томографию). Иногда это распечатанные снимки, но в последнее время чаще приносят компакт-диск с записью. В обоих случаях в этот момент я разворачиваю кресло спинкой к пациенту: в случае снимков – чтобы их рассмотреть в свете окна, в случае диска – чтобы вставить его в дисковод и просмотреть на мониторе. А еще я отворачиваюсь от пристального и нетерпеливого взгляда пациента, иногда это мешает сосредоточиться.
В некоторых случаях достаточно мельком взглянуть на снимок, и все становится ясно. Это крайние варианты: либо все хорошо, либо очень плохо. В остальных случаях требуется некоторое время, чтобы все взвесить и принять верное решение. Но даже когда все ясно с первого взгляда, я не спешу разворачиваться обратно к пациенту. Особенно если прогноз неутешителен. Тут не может быть спешки, последующая сокрушительная информация требует уважительной подготовительной паузы.
Если после секундного взгляда на снимок доктор сразу выносит неутешительное заключение, пациент всегда расценит это как неуважение к своей личности и своему горю. Куда он торопится? Выпить кофе? Проверить почту? Поболтать с коллегой? Через несколько минут врач выйдет из своего кабинета таким же, как раньше, и займется другими пациентами и другими делами, а потом поедет домой и вечером с женой будет обсуждать предстоящий отпуск. А пациент выйдет из кабинета уже совсем в другой мир и в другую жизнь. В таких случаях тактичность, чуткость и милосердие становятся не менее важными, чем профессионализм врача.
Несколько минут я рассматриваю снимки и вдруг ощущаю, что стало очень тихо, ни единого звука. Я не вижу пациента, но знаю, что он сидит позади меня совсем неподвижно, боясь пошевелиться и потревожить мою задумчивость и сосредоточенность. Он ожидает вердикт, приговор, диагноз. Каждый день я встречаюсь с такой тишиной: тишиной тревоги, тишиной ожидания, тишиной неизвестности. Гнетущей тишиной. И чем она дольше, тем мрачнее.
Я разворачиваюсь к пациенту. Молниеносный взгляд, попытка по моему лицу и глазам узнать все раньше, чем я начну говорить.
– Я внимательно посмотрел ваши снимки и, к сожалению, должен заключить, что у вас злокачественная опухоль мозга, которая проросла важные структуры и не подлежит радикальному удалению.
– Опухоль неоперабельная?
– Полностью ее удалить невозможно. Попытка радикального удаления приведет к тяжелой инвалидизации и даже, возможно, к смерти. Но мы можем взять биопсию, чтобы уточнить ее гистологический характер, после чего направить вас на лучевую и химиотерапию.
– То есть вылечить это нельзя?
– В вашей ситуации на полное излечение рассчитывать нельзя. Мы рассматриваем, как с помощью комбинированного лечения продлить вам жизнь, при этом не ухудшив ее качество.
Обычно после этого возникает пауза, пациенту нужно время, чтобы принять услышанное. Еще минуту назад была надежда, и вдруг все рухнуло. Кто-то понимающе кивает головой, кто-то молчит, уставившись в одну точку, кто-то нервно стучит пальцами по столу. Некоторые начинают плакать – не только женщины. Когда плачут мужчины, становится как-то особенно тяжело, и немного стыдно, что являешься свидетелем их слабости. Но без осуждения. Какие вообще тут могут быть осуждения. Никто из нас не знает, как себя поведет в подобной ситуации.
Через некоторое время, совладав с собой, пациенты начинают задавать уточняющие вопросы:
– Сколько я могу еще прожить?
– А если поехать лечиться за границу?
– Есть какие-то другие способы лечения?
– Я буду испытывать боль?
Когда пациенты выходят из кабинета после подобного разговора, всегда выглядят растерянными, глаза затуманиваются, все их движения становятся медленными, плечи опускаются под давлением груза постигнутого. Они путают, в какую сторону открывается дверь, поворачивать налево или направо по коридору. Они забывают, на каком находятся этаже. Они забывают свои вещи у меня в кабинете. А вместе с забытыми вещами в кабинете остается их прошлая жизнь, ведь за дверями их ждет новый, не дивный мир. И в этот момент я для них не просто доктор, не только тот, кто будет стараться им помочь. В эти мрачные минуты я тот, кто принес плохую весть.
Я разворачиваюсь к пациенту. Молниеносный взгляд, попытка по моему лицу и глазам узнать все раньше, чем я начну говорить.
– Я посмотрел снимки, у вас все в порядке, никакой операции не потребуется.
Короткая, весьма короткая пауза. А потом улыбка. У некоторых слезы – от счастья. Кто-то облегченно выдыхает, кто-то говорит: «Слава Богу!» Жизнь продолжается. Солнце снова светит. Счастливейший день. В эти минуты для них я не просто доктор, и даже не нейрохирург, а тот, кто принес радостную весть. Ежедневно врачи, как когда-то почтальоны, разносят адресатам радостные и печальные вести.
Вспоминается страх из детства – ночной звонок в дверь. Кто там? Почтальон. Ночной почтальон, как правило, об одном. Выдает телеграмму и просит расписаться. Когда отец расписывается, я вижу, что у него дрожит рука. Никаких праздников и дней рождений в ближайшие дни нет, а значит, в телеграмме дурная весть. Текст телеграммы короток, но отец уже несколько раз пробегает по ней глазами и вдруг улыбается, и, значит, все обошлось. Старый друг будет проездом в нашем городе, о чем и извещает. И почтальон из зловещего тут же становится приятным и милым человеком.
Сейчас никто не посылает телеграмм. И почтальоны уже не страшны. А врачи все так же изо дня в день продолжают разносить хорошие и плохие вести своим пациентам. Ну как их не бояться?
А не хочется, чтобы боялись. Страх пациентов не делает нас могущественными или важными, а только отдаляет и мешает установить контакт.
Недавно я стал замечать, что испытываю особый душевный подъем от радости пациента, которому сказал, что операция не нужна и все с ним будет хорошо. Бывает, что пациент уже вышел из кабинета, а мне все радостно. И это может продлиться на весь день. Я ничего особого не сделал – просто посмотрел снимки и донес до пациента добрую весть. Такой огромный подарок, который мне не стоил особого труда. Мне даже показалось странным, что я меньше радуюсь хорошо выполненной операции, которая помогла пациенту или даже спасла ему жизнь. Странно? Да нет, все верно, все как нас учили: лучшая операция – та, которой удалось избежать.
Медицина страшна, больница страшна, врачи страшны? – Нет, не слышал об этом.
Теперь поговорим о нечастой, но существующей категории пациентов, которые не только не боятся врачей, но, наоборот, – очень охотно выискивают у себя симптомы разных заболеваний, жаждут быть обследованными и даже прооперированными.
Речь не о тревожных и ипохондричных людях, у которых где что кольнет, и они уже бегут обследоваться. Эти тоже боятся врачей, но еще больше они боятся за свое здоровье. Один страх перебарывает другой.
Есть особая категория пациентов, у которых объективно нет серьезных проблем со здоровьем и даже жалоб, но есть какое-то необъяснимое влечение к обследованиям, лечению, операции. Они не боятся врачей, напротив, хотят, чтобы врачи их лечили, и иногда даже искусственно вызывают у себя те или иные симптомы. Это уже рассматривается как патология и в медицине называется «синдром Мюнхгаузена».
За свою профессиональную жизнь хирурги не раз встречают таких пациентов. Они прямо лезут под нож, убеждая врача, насколько страдают от тех или иных симптомов, поэтому на их теле можно увидеть немало послеоперационных рубцов. На самом деле, бывает не так просто понять, что у пациента не телесная болезнь, а психическая.
Врач в недоумении: по снимкам есть небольшие изменения, но страдания пациента такие невыносимые, что никак не вяжутся с ними. Первая мысль – пациент является симулянтом и разыгрывает спектакль, имея какие-то скрытые цели. Но вопрос о симуляции отпадает сразу, когда речь заходит об операции. Любой симулянт на этом этапе дает задний ход. А эти «мюнхгаузены», напротив, с радостью воспринимают весть об операции, счастливы возможности прооперироваться.
Как недобро иногда совпадают звезды: пациент с «синдромом Мюнхгаузена» находит «своего хирурга», у которого излишне чешутся руки. Хорошим это заканчивается редко.
Закон хирургии гласит: хирург должен бояться пациентов, которые не боятся операции. Страх – это адекватная реакция на хирургию. И с этой понятной реакцией врачу и пациенту нужно работать, чтобы понизить ее от первичного ужаса до легкого волнения. Если же после известия о необходимости операции пациент сияет от радости и счастья, то хирургу не стоит торопиться радоваться вместе с ним – реакция пациента неадекватна ситуации, и нужно еще раз хорошенько подумать: правильная ли выбрана тактика и не «мюнхгаузен» ли перед вами?
Что у вас болит?
Я посмотрел на часы – 17.45. Через 15 минут заканчивается прием в платной клинике. Последний на сегодня пациент должен был явиться в половине шестого, но его до сих пор нет. У меня возникает легкая надежда, что он не придет, и я через пять минут уйду домой, и может, еще проскочу самый пик дорожной пробки – она начинается в шесть.
В 17.50 надеваю пальто, проверяю, закрыл ли окно, и уже собираюсь выйти, как вдруг после короткого стука в кабинет входит высокий молодой человек. Он сутул, бледен и длиннонос. На нем растянутый свитер и джинсы, а волосы, достигающие плеч, не мыты, наверное, неделю. Так может выглядеть непризнанный поэт или IT-специалист.
– Доктор, я кое-как успел к вам, – говорит он, запыхавшись.
– Вообще-то не успели. Мой рабочий день заканчивается через десять минут, и я уже не могу вас принять.
– Доктор, мне очень нужно, я с большим трудом к вам попал.
Надежда добраться домой без пробок рушится, я снимаю пальто, надеваю белый халат, сажусь в кресло и, пытаясь скрыть недовольство, спрашиваю пациента:
– Что с вами случилось?
– Доктор, у меня очень непростая ситуация. Я болею достаточно долго, и проблем со здоровьем у меня много. Я волновался, что, когда приду на прием, что-нибудь важное обязательно забуду. Поэтому я все заранее записал на листочке. Вы меня извините, но можно я вам просто зачитаю?
Я сглотнул и попытался не выказать нарастающее раздражение. Записал жалобы на листочке? Тебе сколько лет? Ты что, не можешь просто их перечислить? Но, естественно, я ответил:
– Да, конечно, никаких проблем.
– Спасибо, – сказал пациент и достал из сумки два альбомных листка, исписанных с обеих сторон мелким почерком.
Меня начинало потряхивать.
Прежде чем начать читать, он еще раз пробежался глазами по тексту, видимо, проверяя, не упустил ли чего. Потом перевел взгляд на меня, выдержал небольшую паузу и стал читать:
«Меня беспокоит… а еще… бывает и так… особенно часто такое случается после… я не могу найти удобного положения… порой боль распространяется… возникает дискомфорт… обостряется весной… и такое ощущение, как будто… и прямо жжет… а в последнее время…». Он читал монотонно, иногда ненадолго останавливался и смотрел мне в глаза, видимо, акцентируя внимание на особо важном.
К концу чтения первого листка я понял, что пациенту ничем помочь не смогу, что это еще один ипохондрик, погрязший в своих надуманных проблемах со здоровьем. Нужно его скорее прервать и послать обратно в регистратуру, где ему вернут деньги, так как его проблемы вне зоны моей компетенции.
– И вот когда я пытаюсь присесть и немного влево разворачиваю туловище, у меня как будто немеет задняя часть бедра и…
– Послушайте, я выслушал ваши жалобы и понял, что вы пришли не по адресу. Я нейрохирург, и ваши проблемы я не решу. Вам вернут деньги за прием.
– Но вы даже не дослушали меня, – с обидой в голосе произнес пациент и опустил глаза.
Он как будто уличил меня в чем-то нехорошем, и я вновь испытал прилив раздражения и даже гнева. Тем не менее, извинился и попросил, чтобы он продолжил. Но было видно, что пациент растерялся, как будто заранее репетировал другой сценарий и сейчас не знает, как себя вести.
Он начал читать вновь. Но теперь сбивчиво и невнятно, как будто торопясь дочитать страницу, уже не видя в этом особого смысла. Чувствовалось, что он перескакивал и пропускал какие-то строки, так как жалобы звучали еще более бессвязно. Под конец он просто что-то бормотал себе под нос. И тут я заметил, что лист в его руке дрожит, а он не бормочет, а едва сдерживает слезы.
Редко в жизни мне было так стыдно за себя. Все мое раздражение и нервозность смыло в один миг. Передо мной стоял не ипохондрик, из-за которого я не успел уехать домой до пробки, а несчастный молодой человек, который пришел к врачу в надежде на помощь. Он готовился к встрече со мной, записывал свои жалобы, наверняка дома их неоднократно перечитывал. А мне было важно поскорее закончить прием.
Я приоткрыл окно. Кабинет наполнил прохладный вечерний воздух и звук машин. Пододвинув кресло поближе к пациенту, я попросил передать мне его записи. Он неуверенно протянул мне листы, видимо, не рассчитывая их кому-то показывать. Я отметил, что у пациента красивый почерк. Он явно старался, когда записывал свои жалобы. Я пробежался еще раз по тексту и окончательно убедился, что имею дело с психосоматическими проблемами, а не с нейрохирургией. Но это не значило, что я совсем не смогу ему помочь.
Я провел общий осмотр пациента и внимательно оценил неврологический статус. Отклонений не было. Просмотрев имеющиеся у него анализы и обследования, я заключил, что пациент соматически здоров. При этом он не симулянт. Ему действительно плохо, и он ищет помощи.
– Простите, если я вас обидел своей поспешностью, – аккуратно начал я длинный разговор. После чего не торопясь и насколько можно доходчиво попытался объяснить ему, что ничего страшного со здоровьем я у него не нахожу, что его жалобы не вызваны какими-то серьезными отклонениями или заболеванием. Я сказал, что он просто родился особо восприимчивым к своим телесным ощущениям и при этом еще имеет повышенную тревожность (не знаю, как лучше было обозначить его ипохондрию). Нужно просто научиться с этим жить. А если не получается самому, большую помощь могут оказать психотерапевты.
Пациент слушал очень внимательно и иногда кивал головой. Не слишком веря в успех своего предприятия, напоследок я спросил у него:
– Все ли я понятно объяснил? Есть ли у вас ко мне еще какие-то вопросы?
Пациент улыбнулся и сказал:
– Спасибо доктор, вы мне очень помогли.
Я не ожидал этого услышать, поэтому немного смутился. Перед уходом пациент пожал мне руку и еще раз улыбнулся.
Когда я уходил из клиники, дорожное движение было свободным, пробка «рассосалась», девятый час. Я ехал домой и думал о том, что утром я прооперировал пациента со сложной патологией, днем проконсультировал нескольких нейрохирургических больных, кому-то назначил лечение, кому-то рекомендовал операцию. Но именно контакт с последним пациентом наполнил меня каким-то приятным и едва не забытым чувством. Чувством, что я в первую очередь врач, а уже потом узкий специалист-нейрохирург. Я просто выслушал пациента, поговорил с ним, что-то посоветовал, и ему стало получше. Может, ненадолго, но получше. И мне показалось это искусством более высоким, чем виртуозное владение скальпелем. Помогать, даже не прикасаясь к пациенту.
Я ехал домой и был наполнен прекрасными чувствами и гордостью, что я врач, и моя помощь не ограничивается только рассечением и сшиванием органов и тканей. Это было удивительно – это было открытие. Всю дорогу я улыбался и даже что-то напевал.
Контакт пациента с врачом всегда начинается вопросом: на что вы жалуетесь? Что вас беспокоит? Что у вас болит? Наверное, это самые частые слова, которые врач произносит каждый день. И каждый день слышит десятки жалоб, а за неделю – сотни, а за все годы работы вообще трудно представить сколько. Иногда подумаешь, что уже слышал все, и ничему не удивишься, но очередной пациент опровергает эту самоуверенность.
Скорая помощь доставила алкоголика, которому в пьяном угаре сожительница проломила табуреткой голову. Треть ножки табуретки была внутри головы пациента, две трети – снаружи. Единственная его жалоба или, точнее, просьба: «Вытащите это у меня из головы, мне мешает». То, что убивает обычного человека, делает алкоголика сильнее!
На приеме молодые супруги. Пару месяцев назад мужчина прооперирован по поводу опухоли спинного мозга. «На что жалуетесь?» – спрашивает доктор. Мужчина пожимает плечами. Приходится брать инициативу жене: «Видите ли, после операции у моего мужа развилась усиленная эрекция. Поначалу это казалось даже хорошо, но извините, пожалуйста, у меня больше нет сил».
Седовласый мужчина лет семидесяти жалуется: «Доктор, у меня проблемы со спиной. Когда я пробегаю больше двенадцати километров, спина начинает ныть и мышцы как бы стягиваются». Я ловлю себя на том, что у меня такое случится на середине его дистанции, но молча записываю жалобы и озадаченно киваю.
Среди жалоб пациентов самая частая – боль. Болеть у человека может вообще все: кожа, кости, мышцы, связки, органы, нервы. Даже ампутированные конечности болят – это «фантомные боли». Такое ощущение, что без какой-либо боли вообще нельзя жить. Боль – как экзистенция. «Я болею, следовательно, существую».
«Болит вот здесь и отдает сюда, а отсюда туда и еще вон туда», – говорит пациент и пальцем показывает ход боли. Это очень важно, чтобы пациент показал, желательно одним пальцем, где у него болит, потому что анатомические представления у пациентов не всегда совпадают с врачебными. Например, у каждого пациента свои границы поясницы. Желудок почти всегда где-то в области пупка. Если боль отдает «в ляжку», то врач не должен быть уверен, что точно понимает, где это место у пациента. А если пациент жалуется на боль в плече, пожалуйста, пусть он покажет это место пальцем. Для пациентов «плечо» – это там, где погоны, то есть от шеи до руки. Для докторов это надплечье, а плечо как раз часть руки до локтя.
Очень важно уточнять у пациента, как болит. Характер боли может многое подсказать о ее причине. Беда в том, что иногда пациенты подбирают такие описания боли, которые только больше запутывают докторов. Кроме классических: ноет, ломит, давит, распирает, рвет, колет, режет, пульсирует, стреляет, жжет, можно услышать: карябает, холодит, свербит, свистит, грызет, сосет, ползет, щемит, мозжит. Один пациент, пытаясь описать свою боль, сказал: «как-то шмурдит». Вот и понимай как хочешь. Однако не менее часто пациенты говорят так: «Ну, как болит… Ну, вот как-то так вот болит, не знаю, как объяснить».
Головная боль – одна из самых частых жалоб пациентов, которые приходят в поликлинику или вызывают скорую помощь. Голова болит у всех, ну, или почти у всех, поэтому особо никого не пугает. В настоящее время известно более 100 причин головной боли. И каждая требует своего подхода к лечению. А теперь представьте терапевта в поликлинике, к которому каждый день приходят пациенты с жалобами на головную боль. За каких-нибудь десять минут, отведенных на прием, врач должен выявить причину головной боли и назначить лечение. Реально это? При очевидной причине боли и достаточном опыте врача часто это возможно. Однако также возможно пропустить какую-то серьезную причину головной боли. Например, иногда головная боль может быть симптомом опухоли головного мозга, воспалительных заболеваний или разрыва аневризмы.
Переместимся из поликлиники на скорую помощь. Каждый день на подстанции поступают звонки от пациентов с головной болью. Доктора приезжают на вызов, измеряют давление, и у многих оказывается гипертонический криз. Верхнее давление 200! Конечно, заболит голова. Пациенту ставят укол, давление снижается, головная боль утихает, и врач уезжает на следующий вызов. И так по нескольку раз в день.
Разрыв аневризмы также вызывает головную боль и часто сопровождается повышением артериального давления. И это мимикрирует гипертонический криз, потому что симптоматика очень похожа: головная боль плюс повышение артериального давления. Конечно, есть небольшие различия, но в целом спутать легко. Поэтому, когда у предшествующих 99 пациентов действительно оказался обычный гипертонический криз, сотого пациента с разрывом аневризмы, к сожалению, легко пропустить. И пропускают.
Мужчина 50 лет вызвал скорую помощь, потому что ему как-то «нехорошо с головой» и давление «скакануло». Приехал фельдшер, измерил давление, выставил гипертонический криз, сделал укол и уехал. Но головная боль не проходила, и на следующий день пациент опять вызвал скорую. Приехал врач, измерил давление, которое снова оказалось повышенным. Снова укол, снижение давления – и всего доброго. На следующее утро голова просто раскалывалась от боли. Мужчина набрал номер скорой помощи и вновь рассказал свои жалобы. Но на этот раз диспетчер отказала ему в вызове врача, сославшись на то, что он уже два дня подряд обращается с одним и тем же. Она рекомендовала ему сходить в поликлинику на прием к терапевту, который распишет лечение.
– Ничего жизнеугрожающего у вас нет, – заключила она.
Вечером лежащего на полу без сознания мужчину нашла пришедшая с работы дочь. Скорая помощь доставила его в стационар в глубокой коме, на искусственной вентиляции легких. На компьютерной томографии выявили массивное кровоизлияние в мозг вследствие разрыва аневризмы – вероятно, повторного этим вечером. Пациент не пережил ночь.
Я знаю этот случай, потому что от дочери пациента поступила жалоба на скорую помощь, и мне необходимо было разобраться в правильности действий медперсонала. Я изучал медицинскую документацию, оформленную фельдшером и врачом скорой помощи, прослушивал записи разговоров пациента с диспетчером. Зная, отчего болела голова и впоследствии умер пациент, легко было найти виновных и указать пальцем. Но это рассуждения задним числом. А по сути, все было сделано правильно: скорая выезжала дважды, выставлялся весьма вероятный по данной симптоматике диагноз. Виновата ли диспетчер? Тоже трудно винить. Ее задача принимать решения так, чтобы не перегружать необоснованными вызовами бригады скорой помощи. Попробуйте, поработайте на ее месте хоть день, потом осуждайте.
Когда я разбирал этот случай с врачами скорой помощи и их администрацией, все понимающе кивали и соглашались, что пропустили патологию, и нужно постараться избежать этого впредь. Поэтому закономерно задали мне вопрос, которого я ожидал и боялся, потому что не знал ответа:
– Если достоверно разграничить разрыв аневризмы от гипертонического криза с головной болью на этапе скорой помощи невозможно, то, значит, нужно всех таких пациентов привозить в стационары, и пусть там разбираются?
Я понимал, что если дать такую отмашку, то через полдня приемные покои всех больниц заполнят пациенты с головной болью, доставленные скорой, чтобы исключить разрыв аневризмы. Это совершенно нереально. Пришлось остановиться на том, что продолжаем работать как раньше, но чуть чаще вспоминаем про возможность разрыва аневризмы и проверяем у пациентов более характерную для этого симптоматику.
Вернемся в поликлинику для другого примера. При поясничном остеохондрозе беспокоит боль в нижней половине спины, она часто отдает в ногу. Таких пациентов каждый день на приеме терапевта полным-полно: болит спина и нога, болит спина и нога… Ну и выставляется: остеохондроз. И снова остеохондроз.
– У меня болит спина и нога, – говорит пожилая женщина терапевту поликлиники. Доктор что-то уточняет, после чего выставляет диагноз: остеохондроз, люмбоишиалгия – то есть болит спина и нога. Назначается лечение, приглашается следующий пациент, у которого тоже «спина и нога».
Вечером скорая помощь доставила эту пожилую пациентку в стационар, поскольку боль в ноге стала нестерпимой. Когда дежурный невролог снял с нее брюки, то едва не охнул от увиденного: правая нога пациентки была раза в два толще левой и имела багрово-синий цвет – венозный тромбоз. Жизнеугрожающее состояние. Срочная госпитализация. А спина у пациентки могла болеть сама по себе от остеохондроза. Для постановки правильного диагноза на этапе поликлиники достаточно было попросить пациентку снять брюки.
Здесь так же как с головной болью и разрывами аневризм. У 99 пациентов при такой симптоматике действительно будет остеохондроз с люмбоишиалгическим синдромом (спина + нога), а у сотого пациента будет вообще что угодно, например, тромбоз вен, как у этой пациентки. Поэтому, когда врачи ошибаются, часто имеется много предпосылок для ошибки, в том числе схожая симптоматика у редкой и частой патологии. А наш мозг так устроен, что в первую очередь старается найти наиболее простые и часто встречающиеся закономерности, и на этом допускает ошибки. Вы это прекрасно и сами знаете, наверняка решали разные задачи с когнитивными ловушками. Например, если весь лист исписан мелкой цифрой «8», которой там может быть двести штук, то очень легко пропустить среди них цифру «6», особенно если не знать, что она есть на картинке.
Как было сказано, боль – самая частая жалоба. Вторая по частоте – нарушение какой-то функции организма: снижение зрения или эрекции, например. И если боль пугает и нередко заставляет срочно звонить в скорую, то к нарушению функции отношение более спокойное – кроме эрекции, конечно. К примеру, при инфаркте миокарда боль так сильна и страшна, что пациенты обычно не медлят. А вот инсульт в большинстве случаев не сопровождается болью, а в первую очередь вызывает нарушение функции: повисла рука, отказала нога, нарушилась речь. Иногда пациенты полдня мажут парализованную конечность мазью и делают компрессы, прежде чем обратятся за помощью.
На плановый прием пришла супружеская пара пенсионного возраста. Когда супруги приходят на прием вдвоем, в 90 % случаев это значит, что жена привела мужа, а не наоборот. Так было и в этот раз. Женщина уверенно села напротив меня, а ее муж устроился на стуле сбоку. Не успел я уточнить, кто из них пациент, как она начала рассказывать о проблемах у мужа со спиной.
Женщина подробно рассказывала, где и как болит у ее мужа, что усиливает и облегчает боль. Даже как простреливает у него от спины в ногу, она продемонстрировала на себе.
Я перевел взгляд на мужа. Он выглядел каким-то отстраненным, как будто речь вообще шла не о его проблемах со здоровьем. Я подумал: очередная доминирующая жена, которая за долгие годы брака полностью подмяла под себя мужа. Наверняка она сама покупает ему одежду, выдает деньги на сигареты и раз в год разрешает съездить с друзьями на рыбалку. В ее глазах муж так несамостоятелен и беспомощен, что даже обозначить свои жалобы врачу она ему не доверила.
Видимо, сыграла мужская солидарность или мне просто стало жаль ее затюканного мужа, поэтому я довольно резко перебил супругу и спросил у него:
– Может быть, вы сами мне все расскажете?
Но пациент не ответил. Я посмотрел на него с недоумением и даже упреком, но он продолжал молчать.
– Доктор, не старайтесь, он с утра отчего-то перестал говорить.
– Что вы сказали – перестал говорить?!
Я быстро встал напротив пациента и громко спросил:
– Можете назвать ваше имя?
Пациент молчал. Тут я заметил, что правый уголок рта у него опущен.
– Господи, да у него же инсульт! – только и вырвалось у меня.
Пациента прямо из моего кабинета экстренно повезли на компьютерную томографию. Инсульт подтвердился, и пациента госпитализировали в неврологическое отделение.
Я немного посмеялся про себя, как напридумывал о «затюканном муже», которому даже жалобы нельзя самому рассказать, а все оказалось намного проще. Но непросто было понять, отчего супругу не насторожило, что он перестал говорить? Это что – нормально? В порядке вещей? И наверняка же это любящая и заботливая жена, которую волнует здоровье мужа, ведь она сама его привела на прием и очень подробно рассказывала о проблемах со спиной. Часто я не нахожу объяснений действиям пациентов и их родственников.
Вспоминается еще один случай, и опять про супружескую пару.
Скорая помощь доставила пожилого мужчину с подозрением на инсульт: правая половина тела была обездвижена, и он не мог говорить. На компьютерной томографии выявили массивную зону ишемического инсульта, давностью не менее шести часов от развития первых симптомов. Все эффективные методы лечения были уже неприменимы – большой участок мозга пациента необратимо пострадал. Если он переживет острый период и не погибнет от осложнений, то остаток дней проведет прикованным к постели.
Поскольку пациент находился в тяжелом состоянии и не мог говорить, о первых симптомах болезни спросили у сопровождающей его супруги:
– Во сколько часов у вашего мужа развилось нарушение речи и слабость в конечностях?
– Точно не знаю, – ответила женщина. – С утра он как будто прихрамывал на правую ногу, но я не придала этому значения. Когда мы сели завтракать, я обратила внимание, что лицо мужа перекошено и говорит он как-то странно.
– Вас это не насторожило?
– Знаете, мой муж всегда был очень веселым человеком и любил пошутить. Каких только розыгрышей я от него не вытерпела за сорок лет совместной жизни. Вот и утром, когда он с перекошенным лицом что-то невнятно бормотал, я подумала, что он опять кого-то копирует, и я в очередной раз не сумею угадать кого.
– Не обратили внимания, он пользовался правой рукой?
– Когда он взял кружку и хотел поднести ко рту, она выпала и разбилась. Я рассердилась и сказала: хватит дурачиться!
– Когда же вы поняли, что все это не шутка?
– Я обиделась – вытерла пол, собрала осколки и ушла в свою комнату. Немного почитала книгу, а потом, видимо, задремала. Проснулась оттого, что услышала стук. Сначала я подумала, что стучат в дверь. Я подошла и посмотрела в глазок, но за дверью никого не было. Тогда я поняла, что стук доносится из кухни. Я зашла и обнаружила мужа, лежащего на полу. Левой рукой он стучал о дверку шкафа. Правая сторона тела не работала, он не мог говорить, голова была повернута в сторону. Я попыталась его поднять, но не смогла. От страха я начала кричать и звать на помощь. Но помощи ждать было не от кого, поэтому я смогла взять себя в руки и вызвала скорую. Только тогда я заметила, что у мужа по лицу текут слезы… Какая я дура, – сказала она и заплакала.
Так что в следующий раз будьте аккуратнее со своими шуточками с родными и близкими, юмор не всегда продлевает жизнь.
А еще мне вспомнилась шутка из интернета: «Мужчины, кому за 40, перестаньте бегать за девушками, которым за 20. Вам нужна опытная женщина, которая знает первые симптомы инсульта». Как видите, даже опытные женщины не всегда спасут.
Ну ладно обычные люди, так я знаю случай, когда в семье с врачом-неврологом вовремя не распознали инсульт у близкого человека. Плохой специалист? Прекрасный доктор! Просто всегда нам кажется, что все это не может случиться с нами и нашими родственниками. Как будто мы застрахованы от тех болезней, которые сами лечим. Между тем, ведущие врачи-онкологи иногда умирают от запущенного рака.
Некоторые болезни вызывают серьезные изменения внешнего вида человека, прогрессируя на протяжении месяцев и даже лет. И невозможно понять: почему человек и его близкие не придавали этому значения и раньше не обратились за помощью? Причин может быть много. Что касается близких, каждый день находясь рядом с человеком, не всегда просто заметить, как он меняется, вплоть до неузнаваемости.
Акромегалия – тяжелое заболевание, связанное с опухолью мозга, аденомой гипофиза, которая в избытке продуцирует гормон роста. Чрезмерное выделение этого гормона у молодых людей делает их гигантами, а взрослых – акромегалами. Наверняка вы когда-нибудь видели таких людей, но не знали, что это болезнь, думали, просто какие-то особенности внешности: большой нос, массивные надбровные дуги, крупный подбородок, огромная ладонь и стопа. А еще у акромегалов увеличивается язык. Он становится таким большим, что едва умещается во рту, затрудняет прием пищи и речь. Этот огромный язык может ночью перекрыть дыхательные пути, и человек задохнется. Но акромегалия – патология, изменяющая не только внешний вид. От избытка гормона роста страдают почти все органы человека. Большинство акромегалов умирает от проблем с сердцем, не дожив до шестидесяти.
Когда он шел по коридору поликлиники, сидящие в очередях пациенты непроизвольно останавливали на нем взгляд. Сначала внимание привлекали многочисленные волны избыточной кожи на голове. Само по себе рождалось слово «шарпей». Только потом замечали крупный нос и надбровные дуги, которые были такими массивными, что глаза казались совсем маленькими и вдавленными вглубь черепа. Он шел тяжелой походкой, переваливаясь с ноги на ногу, как будто каждый шаг доставлял ему боль. Он шел на прием к нейрохирургу.
Опухоль обнаружили, когда начали обследовать пациента по поводу прогрессирующей потери зрения. Опухоль была размером с куриное яйцо, и предстояла непростая операция. За день до вмешательства, чтобы обсудить все вопросы и возможные риски, врач пригласил супругу пациента. Это была симпатичная элегантная женщина средних лет, которая на фоне мужа смотрелась особенно хрупкой. Врач долго говорил с ней и ее мужем о том, какие могут быть проблемы после операции и что может потребоваться. Перед уходом врач отвел супругу в сторону и тихо спросил:
– Почему вы раньше не обратились за помощью?
– У мужа зрение ухудшилось около месяца назад, и мы сразу стали его обследовать.
– Я имею в виду его внешность. Он ведь наверняка стал таким не сразу, а в течение пары лет или больше?
– Каким он стал? – уточнила женщина и, казалось, искренне не понимала, о чем ее спрашивают.
– Ну, в смысле увеличился нос, подбородок, пальцы.
– Да вроде у него всегда было все такое – крупное, – ответила женщина.
Доктор едва смог скрыть свое удивление. Супруга действительно совсем не замечала, насколько изменился ее муж.
– Можно тогда я попрошу вас принести его фотографии, сделанные несколько лет назад? – спросил доктор.
– Конечно, – ответила женщина.
Операция закончилась благополучно. Перед выпиской супруга принесла несколько фотографий ее мужа. Но на фото был совсем другой человек. Высокий привлекательный мужчина улыбался нам с фотокарточек десятилетней давности. Супруга смотрела на фото вместе с доктором и удивленно качала головой:
– Как же сильно он изменился. А я думала, что это просто возраст.
Для себя я вынес позитивный смысл из этой истории: женщины любят и ценят своих мужей точно не за красоту.
Слушать и слышать жалобы – целое искусство. Пациенты не всегда знают, что для врача является самым важным и ключевым, поэтому часто сумбурно рассказывают все подряд, а врач уже должен это отсортировать, классифицировать, ранжировать и попытаться связать с возможным заболеванием. Главное, не торопить пациента и самому не торопиться делать предположения, ведь ключевая жалоба может быть еще не названа.
– Как-то голову подкруживает в последнее время, – жалуется молодая девушка.
– Только головокружение? – уточняет доктор.
– Ну, еще немного шатает иногда, – уточняет пациентка, – и голова побаливает. А еще у меня плохой сон. И как будто я стала менее внимательной. С памятью тоже проблемы, особенно на фамилии.
– Понятно, других проблем нет?
– Вроде нет.
Пока врач записывает жалобы, пациентка неожиданно вспоминает:
– Еще у меня слух на правое ухо пропал неделю назад.
Врач поднимает на нее удивленный взгляд, и в это время все предыдущие жалобы проявляются в новом свете, и уже возникает подозрение на опухоль мозга, часто поражающую женщин – опухоль слухового нерва, вестибулярная шваннома.
– Вам нужно сделать МРТ!
В общем, с жалоб все начинается. К сожалению, жалобами иногда все и заканчивается. Но об этом мы поговорим в одной из последних глав.
Волосы сбривать обязательно?
Это второй по частоте вопрос пациентов нейрохирургам. Первый – сколько будет длиться операция? Второй вопрос задают почти исключительно женщины, что, в общем, и понятно.
Доктор пытается доходчиво объяснить про операцию, про трепанацию, про удаление опухоли, и вдруг ловит на себе полный ужаса взгляд пациентки. Врач ожидает, что сейчас она спросит:
– Доктор, а я не умру?
– Доктор, я не останусь инвалидом?
– Доктор, сколько времени займет восстановление?
Но она спрашивает:
– А волосы сбривать обязательно?
Один уважаемый пожилой доктор на подобный вопрос отвечал русской пословицей: «Потерявши голову, по волосам не плачут». Этим он расставлял акценты, давал понять пациентке, что сейчас действительно важно, а что второстепенно. У вас опухоль мозга, милая моя, а вы о волосах печетесь.
На протяжении многих лет при операциях на головном мозге голову пациентов брили наголо, даже в тех случаях, когда разрез кожи совсем чуть-чуть выходил за линию роста волос. Так было принято. Считалось, что это безопасней в плане возможных инфекционных осложнений со стороны послеоперационной раны. Однако уже давно доказано, что если перед операцией помыть голову специальным шампунем и обработать антисептиком место разреза, то риск воспалительных осложнений не увеличивается. Но хирургам все же было удобней, когда у пациента побрита голова: не нужно перед операцией точно рассчитывать линию разреза и выбривать по ней волосы, подвязывать остальные, чтобы не падали в рану, да и после операции повязка лучше держится на лысой голове. Сплошные плюсы.
Когда я учился в ординатуре, всех пациентов брили наголо, да еще и приговаривали: «Отрастут гуще прежнего». При этом из-за тяжелой болезни у некоторых пациентов было не так уж много времени, чтобы дождаться новой роскошной шевелюры.
Но все же посыл «потерявши голову, по волосам не плачут» долго казался мне совершенно справедливым, он настраивал пациентку на то, что тут у нас дело серьезное. Однако с некоторого времени я стал ловить себя на мысли: а все же – почему большинство пациенток с опухолями мозга и другими заболеваниями так сильно беспокоятся о своих волосах и прическе? Не потому же, что все они такие легкомысленные и заботятся больше о красоте, чем о здоровье. Причем не только молодые – для пожилых женщин волосы так же важны. Как сказала одна дама в годах: «Без волос неблагообразно».
Когда я обдумывал это, представлял толпу наголо выбритых женщин и мужчин, так похожих друг на друга, что даже не сразу разобрать пол. Они идут дружным маршем вдоль больничных коридоров в одинаковых пижамах и несут флаг, на котором написано: «Мы пациенты отделения нейрохирургии». Как новобранцы в армии, как лица из мест лишения свободы. Бритье как средство гигиены и унификации. Как инициация. Как обезличивание. Деперсонализация. Волосы в жертву болезни. Все равны перед нейрохирургией. Смирно!
Почему они плачут по волосам? Неужели это только вопрос красоты? Благообразности? Или это попытка отгородиться от болезни? Схватиться за что-то понятное, чтобы не утонуть в неизвестном и очень страшном. А может, дело в том, что волосы и прическа – это не столько о красоте, сколько о самоидентификации? Об ощущении себя?
В нашем культурном подсознательном коде мужчина представляется короткостриженным или лысым, а женщины имеют волосы разной длины. Поэтому, когда женщина теряет волосы, она как бы теряет себя. Мы говорим не о добровольном решении побрить голову налысо. Некоторым женщинам это очень идет. Речь о принуждении.
«А голову брить обязательно?»
С какого-то момента этот вопрос перестал мне казаться легкомысленным. Бритье наголо – как новый и пугающий опыт, предшествующий не менее пугающей операции.
Итак, болезнь, обследования, консультация, госпитализация, подготовка к операции, утро перед операцией. Санитар, ловко орудуя машинкой для стрижки волос, снимает прядь за прядью. Иногда немного больно, но терпимо. Новое ощущение – кожа головы как будто чувствует прохладу. Стрижка завершена. Женщина смотрит на свои остриженные волосы, которые санитар сметает в кучу и собирает в совок, и ей кажется, что в этих прядях осталась часть ее самой.
Она подходит к зеркалу и не сразу решается в него посмотреться. Сначала руками ощупывает голову – еще одни новые ощущения. И вот она смотрит на себя, но в отражении не она. В отражении другая женщина – некрасивая, болезненная, пугающая. Она и представить не могла, что без волос будет вот так. И такой она не нравится себе. Как же ей хочется, чтобы ее никто такой не увидел. Это может, даже хуже, чем быть обнаженной – еще большая незащищенность и уязвимость. И еще она чувствует страх. Как будто, потеряв волосы, она переступила черту, за которой теперь можно потерять вообще все.
Это не способствует оптимистичному настрою на предстоящую операцию и вере в выздоровление. Сегодня побрили наголо, завтра сделают трепанацию черепа, будут прикасаться к ее мозгу. Разве после этого она останется прежней?
Наша память устроена весьма загадочно, в том числе, в своей избирательности. Если я работаю нейрохирургом, то поверьте – я не многим больше вашего знаю, что такое память и как она устроена. Иногда мы запоминаем незначительный эпизод, ломая голову, отчего он нам так запал, а что-то важное и значимое забываем. Я недавно поймал себя на мысли, что не могу вспомнить лицо своего друга детства. Он жил в деревне, и, когда я там проводил каникулы, мы были не разлей вода. Я помню, как мы гоняли на велосипедах, ходили на рыбалку, жгли костры. Я даже голос его помню, а лицо не могу вспомнить, и никаких фотографий не осталось.
Зато я хорошо помню лицо одной молодой девушки, которой предстояла операция по поводу опухоли мозга.
Я только начинал работать и должен был ассистировать на операции у молодой пациентки. Ей, наверное, было лет восемнадцать, но выглядела она как школьница. В нашей взрослой клинике такие операции выполняются только с 18 лет. Я помню, что ее везде сопровождала мама, но как выглядела мама, как раз не помню совсем. У девушки были длинные вьющиеся каштановые волосы и какое-то маленькое кукольное лицо. Я не помню, какие были разговоры перед операцией, были ли у них вопросы, сомнения, я не помню жалоб пациентки и ее настрой на операцию, не помню ее фамилии и имени. Но я хорошо помню день операции.
Утром я зашел в палату и увидел на кровати побритую наголо пациентку. Мама была рядом, держала дочку за руку. Девушка была неузнаваема, как будто другой человек, может, даже мальчик. Хрупкий и болезненный мальчик. Я помню, как она, увидев меня, быстро схватила платок и обвязала его вокруг головы. Она смутилась. Она не хотела, чтобы ее видели такой. Это не она. Через час ее увезут в операционную, удалят злую опухоль, а потом волосы отрастут, может, и правда еще гуще, и жизнь станет прежней.
Избирательность памяти: я закрываю глаза и через годы снова отчетливо вижу, как она торопливо повязывает бритую голову шелковым платком. Она умерла через несколько дней после операции.
Сейчас большинству пациентов мы не бреем всю голову, а выбриваем только место операции, которое потом прикрывается волосами. Хотя некоторые мужчины с короткой стрижкой сами просят побрить наголо. Кто-то шутливо объясняет: «Хоть раз в жизни лысым побыть». Ох, как мы не любим слушать от пациентов это: «Хоть раз в жизни». Врачебные суеверия.
До многих структур головного мозга можно добраться, сделав разрез кожи вдоль брови, а потом небольшую трепанацию размером в два сантиметра. В нейрохирургии это называется Key-hole-хирургия, то есть хирургия через замочную скважину. Из такого доступа можно прооперировать почти 80 % аневризм и многие опухоли головного мозга. Волосы на брови потом прикроют место разреза, и вообще не останется косметических дефектов и видимых шрамов.
Кстати, когда пациенту говоришь, что разрез будет через бровь, его это меньше пугает, как будто бровь – еще не голова, и все кажется не таким страшным.
Вот такая нейрохирургия. Важно не только удалить опухоль или заклипировать аневризму, важно все, что поможет пациенту лучше подготовиться и перенести операцию, а также ускорит последующее восстановление.
Если после операции пациентка снова узнает себя в зеркале – со своими волосами и своей прической, если в зеркале снова будет она, а не какая-то чужая лысая женщина, значит, все хорошо и пора выздоравливать.
Потерявши голову, по волосам не плачут? Потерявши голову, плачут обо всем.
Ваш старый/молодой врач
Врачи нередко забывают и путают фамилии своих пациентов, а уж тем более их имена. Понять можно: большой поток пациентов, одни выписываются, другие – поступают. Но совсем не понятно, когда пациент не знает фамилии и имени-отчества своего единственного лечащего врача или оперирующего хирурга. Конечно, бывают случаи, когда доктор не успел или забыл представиться, но есть много способов узнать, как его зовут. К примеру, очень часто на двери в палату написано ФИО лечащего врача.
Пациент доверяет свое здоровье и жизнь этому человеку, при этом не удосуживаясь запомнить, как его зовут. Допустим, это простительно пожилым пациентам, имеющим проблемы с памятью. Вот только как раз пожилые пациенты обычно не забывают имя-отчество лечащего врача. А молодой пациент лежит на койке и читает новости про новую подружку Брэда Питта или выход очередного айфона, но не слишком интересуется, кто его врач и как его зовут. А завтра безымянный будет удалять ему опухоль мозга.
Я спрашиваю пациента: кто ваш лечащий врач? Возникает неловкая пауза, попытка вспомнить, а потом, сославшись на растерянность / плохую память на имена / волнение / магнитные бури / последствия ковида, с помощью жестов пациент описывает лечащего по внешним признакам:
– в очках,
– высокий / невысокий,
– лысый / с длинными волосами,
– рыжий,
– полный / худой,
– седой,
– с бородой / с усами,
– нерусский,
– заикающийся,
– с татуировкой,
– с родинкой на носу,
– приятной наружности. (Это особо помогает)))
Хуже, если ни одной из названных отличительных характеристик у врача нет, тогда у пациента наступает ступор: «Ну, такой, как сказать, ну, я не знаю, ну, обычный».
Если через внешность пациент безоценочно пытается описать врача, то есть одна характеристика, которая уже не просто описание, но и суждение о враче, а иногда и осуждение:
– молодой,
– совсем молодой,
– молоденький.
Когда пациенты оценивают своего врача как «молодого», на лице часто возникает снисходительное выражение, означающее: что поделать, не повезло – молодой врач достался. Пациенты точно знают:
– молодой врач – недоврач,
– молодой врач – не лечит, а практикуется,
– молодой врач – и шанса почти нет.
Особенно это заметно в хирургии. Для пациентов все хирурги делятся на три категории.
1. Высший сорт – хирурги среднего возраста. Уже достаточно опытные, но еще в силе.
2. Первый сорт – пожилые хирурги. Опытные, но силы уже не те, и глаз не так остер.
3. Второй сорт (второсортные) – молодые хирурги. И опыта нет, и «рука еще не поставлена».
Это, конечно, миф, но, как и любой миф, он живуч и основополагающ.
Спорить незачем – опыт есть опыт. Каждая выполненная операция делает хирурга более умелым, ловким, уверенным. Мастерство действительно зависит напрямую от того, выполнил он 10 операций или 10 тысяч. Конечно, молодые хирурги могут быть талантливы и «рукасты», грамотны и уверены в себе, и не нужно бояться, как в песне Цоя, что «дрогнет рука молодого хирурга». Не дрогнет.
Но, положа руку на сердце, я бы тоже не хотел попасть под нож молодого хирурга. Потому что немного знаю, что такое хирургия и что такое хирургический опыт. Когда все идет гладко и стабильно, молодой хирург может дать фору старшему товарищу по техническому исполнению операции: быстрее и точнее рассекает, удаляет, сшивает. Но в непредвиденной ситуации молодой коллега может растеряться и совершить не самые верные и оптимальные действия. Потому что одно дело знать о возможных хирургических неприятностях, а другое дело в них попасть и благополучно для пациента выпутаться. Если хирург уже побывал в подобных передрягах не один раз, то растерянности нет, а есть спокойствие и четкое понимание, что и как нужно сделать. Спокойствие и четкое понимание действий – основа успешной операции. И хирургии в целом.
Чтобы не отпугнуть впечатлительных читателей от молодых хирургов, скажу, что на самом деле многие из них не растеряются в сложной хирургической ситуации и все сделают правильно. А иногда и опытный доктор может принять не наилучшее решение в нестандартной ситуации.
Мне 40 лет, и выгляжу я весьма моложаво. Если сбрить немного поседевшие виски, могу легко затеряться в толпе своих студентов. Это всегда работало против меня. Пациенты записываются на консультативный прием к профессору-нейрохирургу, но, когда заходят в кабинет и видят сидящего в кресле молодого человека, смущаются и вежливо уточняют: «А где профессор Шнякин?»
В их понимании профессор всегда старый, с бородкой и в очках. Из этого перечня на мне только очки…
Самые недоверчивые уточняют: «Вы оперируете? Сколько пациентов с такой патологией вы прооперировали? Вы будете оперировать один или кто-то будет помогать?»
Раньше меня это немного задевало, теперь наоборот – веселит. Иногда отвечаю: «Нет, не оперировал, вы будете первым». Но обычно никто не оценивает шутку.
Классическая внешность «настоящего врача» и профессионала, обычно формирующаяся у пациентов по фильмам в диапазоне от доктора Айболита до профессора Преображенского, вызывает особое доверие, но и таит опасность ошибки восприятия. Прекрасный хирург может иметь вид дворника, мимо которого вы каждый день идете на работу – я знаю несколько таких! А доктор в галстуке, особо экстравагантный – в бабочке, в очках, с зачесанными назад волосами и задумчивым видом, может быть посредственным специалистом. Иногда стремление врача выглядеть излишне академично скрывает неуверенность в себе как в профессионале.
Кстати, на работе я всегда хожу в галстуке и немного зачесываю волосы назад.
В этом плане интересна рекомендация философа Нассима Талеба в одной из его книг. Он говорит, что, если вы выбираете между двух хирургов с примерно одинаковым рейтингом, останавливайтесь на том, кто похож на мясника, а не на академического профессора. Талеб объясняет это с тех позиций, что первому достичь высот было намного сложнее, ведь он пренебрегал условностями – в том числе классическим внешним видом, а значит, действительно добился всего трудом и талантом.
Тем не менее, нужно рассчитывать на стереотипное восприятие докторов большинством пациентов, поэтому придать внешнему виду хотя бы минимальное благообразие не лишне.
Хорошо, если операция у молодого хирурга закончилась благополучно и пациент поправился. Скорее всего, пациент даже удивится – молодой, а помог! Если же исход операции был неудовлетворительным или развились какие-то осложнения, причина всегда одна – молодой хирург.
Поэтому молодым хирургам и правда сложно: и ответственность большая, и спрос с них немалый. Но, как известно, молодость – недостаток, который быстро проходит. Плохая новость: не у всех стаж превращается в высокое качество хирургии. Некоторые зрелые по возрасту хирурги по знаниям и умениям остаются «вечно молодыми».
Пожилых, а тем более совсем старых врачей пациенты тоже не сильно жалуют. Обычно считают так: они уже ничего современного не знают и лечат по старинке. Да и рука у пожилого хирурга уже не крепка. При этом есть великие хирурги, которые и по знаниям, и по хирургическим навыкам намного превосходят молодых коллег. Патриарх нейрохирургии академик Александр Николаевич Коновалов продолжает выполнять сложные операции на головном мозге в свои 90 лет!
Но предубеждения пациентов неискоренимы. Однажды ко мне за помощью обратился весьма авторитетный в определенных кругах человек. Ему требовалась помощь сосудистого хирурга. Человек он был богатый, поэтому прямо сказал, что готов ехать куда угодно и платить сколько нужно, главное – чтобы к самому лучшему специалисту. Его направили на консультацию к именитому, но уже очень пожилому профессору, который продолжал выполнять операции на высоком уровне. Пациент вернулся от него недовольным.
– Что случилось? – спросил я его.
– Как что? Куда направили меня? Я приехал на консультацию, а там прям дед. Старый дед! Он мне предложил операцию. А я представил, что он начнет меня оперировать и помрет. Что тогда будет? В общем, я сказал, что сейчас выйду, покурю и подумаю, а сам побыстрее слинял оттуда.
Но некоторые хирурги и правда «сдают» с возрастом. Хирургия – это тяжелый и нередко многочасовой труд, требующий много физических сил и здоровья. По молодости сил хватает у всех, в старости – только у некоторых. Кроме того, медицина в целом и хирургия в частности непрерывно и стремительно развиваются и требуют от врача постоянного обновления знаний и освоения новых навыков. Кто-то за этим поспевает, кто-то – нет. Если не поспеваешь, нужно это принять и без укора уступить дорогу молодым коллегам. Как в стихотворении Тютчева:
Когда дряхлеющие силы
Нам начинают изменять
И мы должны, как старожилы,
Пришельцам новым место дать,—
Спаси тогда нас, добрый гений,
От малодушных укоризн,
От клеветы, от озлоблений
На изменяющую жизнь…
Пожелаю всем врачам в определенном возрасте, когда «дряхлеющие силы» начнут изменять, чтобы «добрый гений» их спас и помог уйти вовремя.
А некоторые, напротив, оставляют хирургию слишком рано. По разным причинам. Не всем известно, что Николай Иванович Пирогов закончил активную хирургическую деятельность, когда ему было около пятидесяти лет. В то время он находился на пике своей формы и своей славы, и прекращение широкой практики до сих пор вызывает споры и дискуссии. Оставшуюся жизнь он занимался разными вопросами, связанными с образованием и воспитанием молодежи. Точные причины его раннего ухода из большой хирургии неизвестны. По одной из версий, он проанализировал результаты хирургической деятельности во время Крымской войны, и они его разочаровали – слишком много было смертей за счет инфекционных осложнений, ведь все происходило до открытия антибиотиков, а асептика и антисептика только начинали широко внедряться в хирургию. В это можно поверить, учитывая, каким нравственным, совестливым и честным человеком был Николай Иванович Пирогов.
Я видел несколько достойных примеров своевременного ухода из хирургии. Иногда этому способствовала череда не вполне успешных операций, и честный перед собой хирург, понимая, что сдает позиции, принимал непростое решение уйти. У других пожилых коллег не было череды неудач, и они продолжали оперировать на высоком уровне, но в какой-то момент признавались себе, что стало тяжело, появилась усталость, и в целом они уже «наоперировались» за свою жизнь, и пора уйти на более легкий труд. Очень хорошо, когда хирургу есть куда уйти: на консультативный прием, в поликлинику, на кафедру. А если нет?
А если нет, то пожилому хирургу, в том числе, чтобы прокормиться, необходимо продолжать работать, пока не упадешь. И падают! И умирают от инфаркта миокарда прямо на работе. Сколько таких.
Вспоминаю одного пожилого нейрохирурга. С возрастом он перестал самостоятельно оперировать, но, активно ходил на ассистенции к молодым докторам. Операции в нейрохирургии бывают длительными, и пожилой доктор начал падать прямо во время операций. То ли сознание терял, то ли засыпал, то ли валился без сил. Один, второй, третий раз упал. А потом умер.
Хирургическая жизнь насыщенна, ярка и интенсивна. Глазом не моргнешь, как из молодого станешь очень пожилым хирургом.
Врачи остепененные
В медицине написание диссертации и защита ученой степени практическим врачом – дело обычное. В других специальностях защита диссертации больше связана с работой в вузе и научной карьерой. Трудно представить инженера, который кроме основной работы по вечерам пишет диссертацию. Для чего?
Чем же уникальна медицина, и зачем врачи пишут диссертации?
Причин несколько.
Первая, редкая и благородная – искренний интерес к научной работе, желание реализовать свои идеи и внедрить их в практику. Нередко такие диссертационные работы являются новаторскими и поэтому трудно защищаются. Хочешь защититься – играй по правилам и не делай революций.
Вторая немногочисленная причина – самоутверждение. Рассуждения по типу: «Вот посмотрите, я уже не хухры-мухры, а целый кандидат медицинских наук». «Папа говорил, что из меня ничего толкового не выйдет, а вышел к. м.н.!» Знакомая на вопрос о том, зачем ей диссертация, ответила: «С приставкой к. м.н. я буду завидной невестой». Такие после защиты едва ли не на входную дверь квартиры крепят табличку – «к.м.н.». Один мой товарищ фантазировал, что, когда защитится, набьет на груди татуировку «к.м.н.», чтобы на пляже все знали, кто он и что. В итоге, защитился, но не набил.
На самом деле, написание диссертации по большей части не является высокоинтеллектуальным трудом и доказательством особых умственных способностей диссертанта. В первую очередь, диссертация – аналитическая и методическая работа, которая требует больше упорства, чем ума.
Третья причина самая понятная и практичная – повышение авторитета среди пациентов и коллег, повышение конкурентоспособности, возможность увеличения заработка. За ученую степень прибавляют к зарплате, правда, не так уж много. Но три заветные буквы «к.м.н.»/«д.м.н.» позволяют увеличить стоимость консультаций на частном приеме или стоимость платной операции. На это есть старая шутка: «Диссертация – длинное заявление на повышение заработной платы».
Про повышение авторитета неоднозначно: у пациентов, скорее всего, да, но среди коллег – очень не всегда. Коллеги редко радуются чужим защитам и обычно рассуждают в курилке о коллеге: «Ну, защитился, и что?», «Какой смысл?», «Ничего нового в работе нет», «Знаем мы этих кандидатов». Зато если какой-нибудь молодой кандидат наук допустил оплошность, то держись крепче: то, что простят обычному врачу, вдвойне спросят с остепененного. «Ну как вы могли это допустить, вы же ученый!» – упрекнут коллеги, даже не пытаясь скрыть злорадство.
Четвертая причина защиты диссертации звучит так: «На перспективу». Разноплановую перспективу. Во-первых, это возможность карьерного роста. При прочих равных условиях наличие ученой степени является существенным бонусом при назначении на административные должности, начиная с заведующего отделением. Кроме того, наличие ученой степени – несгораемая опция в портфолио, которая может быть полезной, когда вы решите сменить место работы или жительства. Ученая степень как минимум доказывает, что вы амбициозны, целеустремленны, работоспособны и умеете достигать результата.
Ну и наконец, ученая степень – возможность когда-нибудь перейти работать на кафедру. Например, на пенсии, когда сил оперировать уже нет, но работать еще хочется, это очень неплохой вариант. А на кафедрах нужны преимущественно остепененные сотрудники.
В общем, как ни крути, а в защите диссертации одни плюсы. И не нужно слушать тех, кто говорит, что диссертация ничего, кроме геморроя, не приносит. Я не встречал среди защитивших диссертацию тех, кто об этом горько сожалел.
Если врачи понимают, что значит и чего стоит «к.м.н.» и «д.м.н.», то пациенты, как правило, имеют не очень верное представление. Большинство свято верят, что приставка «к.м.н.» делает врача более грамотным, а «д.м.н.» возносит в светила медицины.
Пациентам надо знать, что диссертационное исследование – углубленное изучение узкой, специфической проблемы. И в этой проблеме врач действительно может разбираться лучше коллег. Но специальность намного шире, и нет гарантии, что диссертант – высококлассный специалист во всех направлениях.
В то же время, чтобы глубоко погрузиться в узкую проблему, приходится глубже познать специальность целиком и даже ряд смежных дисциплин. Поэтому написание и защита диссертации в целом повышают общий уровень врача и его компетентность. Кроме того, научная работа приучает врача к строгости суждений, критическому подходу к анализу информации, к использованию принципов доказательности в повседневной работе.
И все же бывает, что в одном человеке сосуществуют значительный ученый и посредственный врач. Блестящий аналитический ум, генератор идей, подвижник науки при нехватке необходимых для лечения пациентов внимательности, чуткости, эмпатии, сострадания.
До сих пор вспоминаю лекцию профессора-невролога, хотя прошло много лет. Профессор рассказывал про эпилепсию и привел в пример пациента, которому он вызывал судорожный приступ, посветив в глаза мигающим фонариком. Фонарик гас – приступ затихал. Профессор сказал, что это было так удивительно и легко воспроизводимо, что он повторил «эксперимент» несколько раз: зажигал фонарик – приступ, зажигал – приступ, зажигал – приступ. В научных исследованиях качество эксперимента оценивается по его воспроизводимости и повторяемости результатов. Здесь все было представлено в наилучшем виде.
Профессор рассказывал так увлеченно и даже с задором, как будто о каком-то научном открытии. Все в аудитории понимающе кивали и улыбались, и даже послышался смех, когда он признался, что едва смог остановиться и убрать фонарик. Научный азарт. Меня же тогда сильно взволновала возникшая в голове картина. Я представил молодого эпилептика на больничной койке, которому светят в глаза фонариком, и его сводит судорогой. Вновь и вновь. Я всегда был особо впечатлительным.
Мы немного отвлеклись от того, насколько диссертация делает врача более грамотным специалистом. Остановились на том, что уровень диссертанта неизбежно повышается.
А если врач защищается не по своей специальности? Например, нейрохирург может защитить диссертацию по патофизиологии: что-нибудь про молекулярные основы возникновения опухолей головного мозга. Стоматолог может защитить диссертацию по анатомии: особенности строения резцов у лиц монголоидной расы, кардиохирург – по организации здравоохранения: организация кардиохирургической помощи в условиях протяженной и малонаселенной территории. Пациенты даже не предполагают, что так можно, и, естественно, никто им ничего не расскажет. Ну, может, в какой-то параллельной вселенной, где люди говорят только правду, на платный прием к челюстно-лицевому хирургу с приставкой «к.м.н.» приходит пациент, и доктор его предупреждает: «Вы заплатили большую сумму за мой прием, потому что прочитали, что я кандидат медицинских наук, но я должен вас уведомить, что тема моей диссертации «Влияние лунного света на форму живота у беременных», и она никак не пересекается с моей текущей практической работой и вашими проблемами со здоровьем. Вы по-прежнему согласны на прием?»
Вернемся в нашу вселенную, где такие глупости не говорят. Как я уже попытался обрисовать, одна из главных проблем ученых степеней в медицине – нередкий диссонанс между ученой степенью и практической грамотностью. Причин может быть несколько. Например, хирург пять лет писал диссертацию и уделял этому все свое время, поэтому меньше оперировал, меньше принимал пациентов, реже выезжал на учебу и повышал квалификацию. В это же время его ближайший коллега был с головой погружен в практическую хирургию, и за этот период существенно вырос в профессиональном плане. Может, тот, что писал диссертацию, впоследствии догонит и даже перегонит коллегу по навыкам и мастерству, а может быть, нет.
Или ситуация с некоторыми пожилыми доцентами и профессорами. В свое время они были «на коне», блестяще оперировали, проводили консилиумы, принимали пациентов. Но с годами не поспевали за освоением новых технологий, подходов, методов лечения. И остались в прошлом – уважаемыми, но за прошлые заслуги.
Поэтому опытный врач без ученой степени может быть грамотнее иного профессора и доктора наук и более мастеровитым в хирургии. Такое встречается сплошь и рядом. И все же скажу, что многие кандидаты и доктора наук, доценты и профессора, которых знаю лично, имеют очень высокий уровень знаний и умений и оправдывают на 200 % свой ученый статус. Благодаря таким коллегам ученые степени еще что-то да значат.
Ну и напоследок дам простой совет читателям-немедикам: не ослепляйтесь званиями и регалиями врачей, а просто посмотрите их портфолио и отзывы пациентов – и многое станет ясно. В отрытом информационном обществе все сложнее укрыться дутым идолам.
Комплаентность и балбесы
«Да пошел ты на…» – первое, что услышал рентгенхирург от пациента, которому только что удалил из мозговой артерии тромб.
Мужчину средних лет скорая помощь доставила с подозрением на инсульт. Около двух часов
назад его, лежащего на полу в туалете, обнаружила жена. Лицо было перекошено, правые конечности не двигались, говорить он не мог, только неразборчиво мычал. Сначала жена подумала, что он просто пьян – пахло алкоголем, но все же заподозрила инсульт и вызвала скорую.
В приемном покое после проведения компьютерной томографии у мужчины подтвердился инсульт, и выявилась его причина – тромб перекрыл крупную мозговую артерию. Экстренно на консультацию вызвали рентгенхирурга, который посмотрел снимки и коротко сказал: «Подавайте в операционную».
Через артерию на ноге микрокатетером врач достиг сосудов головного мозга, и специальным инструментом удалил закупоривший артерию тромб. По сосуду вновь потекла кровь, питая пострадавшие, но еще жизнеспособные структуры мозга.
«Да пошел ты на…» – первое, что услышал рентгенхирург от пациента после удаления тромба, но не рассердился, а, напротив, – весело прищурился и показал большой палец вверх. Пациент не послал его, пациент заговорил! Эффект операции достигнут.
В ближайший час у мужчины полностью восстановилась не только речь, но и сила в правой ноге и руке. В дальнейшем он проходил лечение в неврологическом отделении, где при дообследовании у него выявили причину инсульта – фибрилляцию предсердий. При этой патологии в левом предсердии образуются тромбы, которые могут оттуда «стрелять» в мозговые сосуды. Это называется «эмболия». Тромбы перекрывают сосудистый просвет и вызывают инсульт, что, собственно, и произошло с пациентом. Для профилактики таких осложнений назначаются специальные препараты – антикоагулянты, которые человек должен принимать пожизненно.
Перед выпиской пациент выслушал подробные рекомендации врача и заверил, что будет ежедневно принимать таблетки, перспектива второго инсульта его не радует. Он сдержал слово и ежедневно принимал препараты. Целых два месяца.
Примерно через год скорая помощь привезла его к нам вновь, но на этот раз тромбом закрылась мозговая артерия с другой стороны, поэтому парализовало левые конечности. И опять все удачно сложилось для пациента: рентгенхирурги смогли удалить закупоривший артерию тромб, и сила в левых конечностях полностью восстановилась. Счастью пациента не было предела. На этот раз он уже не посылал докторов, а сказал: «Спасибо, мужики, второй раз спасли».
Через несколько часов, когда пациент уже находился в палате интенсивной терапии, рентгенхирург зашел оценить его состояние. Пациент чувствовал себя хорошо и активно требовал, чтобы ему принесли обед.
– Почему вы перестали принимать препараты, которые мы рекомендовали? Их необходимо принимать пожизненно. Если бы вы пили таблетки, ничего бы не случилось.
– Не знаю, доктор. Вроде себя неплохо чувствовал и подумал: зачем травить организм таблетками.
Вариации на тему «перестал пить таблетки, потому что ничего не беспокоило» доктора слышат ежедневно. А еще бывает такой вариант: «решил сделать перерыв в приеме таблеток, чтобы организм немного отдохнул». Регулярно в стационары поступают пациенты с обострением заболеваний или развитием осложнений после того, как устроили себе «медикаментозные каникулы».
Перед выпиской, после долгого разговора о важности ежедневного приема препаратов для профилактики третьего инсульта, пациент буквально поклялся врачу, что теперь он дважды научен и осознал, что его не просто пугали в первый раз.
Больше он к нам не поступал. Может, действительно все осознал, регулярно пьет таблетки и здравствует, а может, давно забросил и просто не успел к нам попасть на третью спасительную операцию.
Доктора старой формации про таких пациентов говорят: «У него низкая приверженность к лечению». Ну, это из интеллигентных, а некоторые выражаются короче: «Вот балбес!» Молодые доктора, которые ходят в яркой медицинской форме, носят блестящие бейджики и читают современные книжки, выражаются изящнее: «У пациента низкая комплаентность».
Комплаентность происходит от английского словосочетания «patient compliance» – приверженность к лечению, то есть соблюдение пациентом всех рекомендаций врача по приему лекарственных препаратов и изменению образа жизни.
Пациенты имеют разную комплаентность, и многие из них похожи на плохих автолюбителей. Когда ломается машина, они загоняют ее в сервис, где машину чинят и дают рекомендации, как за ней ухаживать дальше, менять масло, свечи. Автолюбитель соглашается, кивает головой, и потом все это забывает до следующей поломки.
После некоторых операций пациенту по жизненным показаниям необходим прием каких-либо лекарств. Без лекарств весь эффект от операции будет потерян либо разовьются серьезные осложнения, вплоть до самого неблагоприятного исхода.
Пациенту с инфарктом миокарда в коронарную артерию установили стент и спасли жизнь. Стент состоит из металла, и, чтобы на нем не образовался тромб, пациент должен принимать специальные препараты – антиагреганты. Через три месяца этот же пациент поступает с повторным инфарктом, на снимках – тромбоз стента. Что произошло? Пациент неделю назад перестал пить таблетки, что привело к тромбозу.
– Почему вы перестали принимать лекарства? – спрашивает доктор.
– Я прочитал инструкцию, эти препараты на желудок плохо действуют.
– Вы могли умереть!
– А если бы у меня язва образовалась?
Типичный пинг-понг с пациентом. Один пожилой доктор в таких случаях говорил: «Не надо дуракам делать умные операции». Звучит жестко, соглашусь. Но в этих словах я слышу не оскорбление пациентов, а отчаяние врача.
Нередко пациенты самовольно отменяют прием лекарств после того, как прочитают их побочные эффекты или соседка расскажет жуткую историю: «Ну да, мой Колька точно такие же таблетки пил, царствие ему небесное».
Если назначаете препараты мужикам, тут сразу надо знать два главных ограничения их приема: несовместимы с алкоголем и могут снижать потенцию. Тогда сразу – нет! Хотя если сказать тому же мужику, что алкоголь снижает потенцию не меньше, он, конечно же, вам не поверит. Там таблетки – химия, а тут алкоголь – натуральный продукт!
Раз в месяц, а то и чаще с судорожным приступом к нам поступает один и тот же пациент. Мы хорошо его знаем, он длительно страдает эпилепсией, при этом пропускает прием противоэпилептических препаратов и периодически пьет водку. В истории болезни мы так и отмечаем: пациент не привержен к лечению и рекомендациям врача постоянно принимать препараты и отказаться от алкоголя, поэтому у него случаются повторные судорожные приступы. Иногда он госпитализируется в отделение неврологии, иногда из-за серии непрекращающихся приступов («эпилептический статус») попадает в реанимацию, бывает, что на фоне приступа он падает и разбивает себе голову и с черепно-мозговой травмой лечится у нейрохирургов.
Каждый раз, когда я вижу этого пациента, понимаю: он никогда не откажется от алкоголя и так же будет пропускать прием таблеток, какие бы беседы мы с ним ни проводили. Это неблагополучный одинокий человек, много лет страдающий эпилепсией. У него нерадостная жизнь, которую немного скрашивает алкоголь. Представишь, как он живет, и самому захочется выпить. Какая уж тут комплаентность.
Привержены к лечению те, у кого есть смысл, кто видит какую-то цель, строит планы, да просто хочет жить. Жизнь некоторых наших пациентов столь мрачна и бесперспективна, что трудно взывать к их сознательности в соблюдении наших рекомендаций. Но мы все равно продолжаем сизифов труд и каждый раз повторяем: «Андрей, тебе нельзя пить и попускать прием таблеток…».
А еще, прежде чем заключить, что у пациента низкая приверженность к лечению, недостаточная комплаентность или он просто балбес, нужно оценить, насколько сам врач сделал все необходимое, чтобы убедить пациента в важности рекомендаций. Комплаентность определяется и тем, как доктор подал рекомендации.
Если пациенту за пять минут перед выпиской объяснить, что теперь ему необходимо принимать какой-то препарат всю жизнь, то нужно быть наивным человеком, рассчитывая, что он так и сделает. Пять минут разговора и пожизненный прием лекарств несоизмеримы. Да и звучит это страшно: «Принимать пожизненно».
Поэтому очень важны регулярные беседы пациента с врачом уже после выписки из стационара, на амбулаторном приеме в поликлинике. Не нужно говорить: «Он взрослый человек и сам все должен понимать и заботиться о своем здоровье». Мамы очень долго напоминали нам, что, придя с улицы, нужно мыть руки. Пациенты тоже не всегда осознают реальную опасность своего положения.
А еще нужно уточнять, чего пациенту ни в коем случае не следует делать.
Скорая помощь доставила пациента с черепно-мозговой травмой. Нейрохирург выставил сотрясение головного мозга, объяснил, что госпитализация не требуется, назначил лекарства и постельный режим на несколько дней.
Через пять дней пациент вновь обратился в приемный покой с жалобами на общее плохое самочувствие, головную боль и тошноту. Весь он был какой-то помятый и отечный. Доктор недоумевал: обычно пациентам с сотрясением мозга через пару дней становится значительно лучше.
– Вы все выполняли, что я сказал?
– Да, пил все таблетки, которые рекомендовали.
– А постельный покой? Вы соблюдали постельный покой?
– Пять дней не вставал с дивана, все как советовали.
– И что, наверное, пять дней смотрели телевизор, зрение напрягали?
– Да нет, вы же сказали, что это тоже нужно ограничить, почти не включал телевизор.
– И что же вы делали, лежа на диване пять дней? – изумился доктор высокой комплаентности пациента.
– Да ничего не делал, пиво пил.
«Мы по договоренности»
– Здравствуйте, мы от Дмитрия Владимировича.
– Добрый день! Пожалуйста, заходите.
– Здравствуйте, мы от Марины Юрьевны.
– Добрый день! Проходите, прошу вас.
– Здравствуйте, мы от Сергея Витальевича.
– Добрый день! Вы опоздали на целый час. Ну, ничего страшного, конечно, проходите.
– Здравствуйте, мы от Алексея Владимировича!
– Добрый день! Но он меня не предупреждал. Наверное, заработался и забыл. Пожалуйста, присаживайтесь.
– А вы от кого? А, от Кузьмы Петровича! Так чего же скромно стоите в коридоре, смело открывайте дверь с ноги. Кузьма Петрович – уважаемый человек!
Помимо основной работы и курации поступивших пациентов, врачи ежедневно принимают пациентов «по договоренности». Попросить «посмотреть пациента» может бывший одноклассник, коллега, директор школы, где учатся дети, чиновник из Минздрава или вообще какой-нибудь очень крупный и важный начальник, какой-нибудь Кузьма Петрович. Отказывать не принято, и врачи с пониманием относятся к таким просьбам: надо так надо, ничего особенного.
В основе таких просьб устойчивый миф, что только по договоренности можно: а) попасть к нормальному специалисту; б) этот нормальный специалист посмотрит «нормально», тот есть с особым вниманием и человечностью.
Никого не критикую, сам живу внутри этого мифа и своих родных и близких также иногда пристраиваю «по договоренности». Не то чтобы не доверяю докторам, а просто так удобнее и быстрее.
Однако не всегда «по договоренности» – оптимальный путь для пациента. Там, где можно было все сделать по прямой и отработанной схеме, «по договоренности» часто становится затяжным крюком. Крюком как для врача, так и для пациента. Но не скажешь же Дмитрию Владимировичу, что проще направить пациента прямиком в поликлинику, или Сергею Витальевичу, что сначала нужно, чтобы пациента посмотрел другой специалист. Все мы друг друга уважаем и очень боимся расстроить.
Да все бы ничего, если бы просьбы «посмотреть пациента» ограничивались только этим, без сопутствующих наставлений. Как просто и хорошо звучит просьба: «надо посмотреть пациента». И все просто и понятно. Но когда с придыханием начинают говорить: «Это очень серьезный человек… это родственник самого… знаете, кто его сын… по поводу него звонили сверху… он вам еще очень пригодится», от этого немного корежит. Что это – дополнительная мотивация? Устрашение?
Звонит вам Кузьма Петрович и говорит: «Дорогой мой, пациента к тебе направлю, ты уж займись им как следует, это очень важный человек». И ты ему отвечаешь: «Конечно, Кузьма Петрович, сделаю все наилучшим образом, не беспокойтесь». Кладешь трубку и чувствуешь себя каким-то оплеванным. «Займись как следует»? Получается, что к обычным пациентам я не проявляю всего рвения и внимания, и только по наставлению Кузьмы Петровича могу заняться пациентом в полный рост? Поэтому после таких просьб иногда непроизвольно проникаешься легким раздражением к пациенту «по договоренности», хотя его вины в этом совсем нет.
Пациенты «по договоренности» ведут себя очень по-разному. Кто-то скромен, вежлив, пунктуален. И неважно – от Кузьмы Петровича он или от работницы пищеблока больницы. А вот некоторые не понимают, что «по договоренности» – это еще не повод вести себя нахально и требовательно:
– Ну, нет, это мне не подходит.
– Этого я делать не буду.
– А можно все поскорее решить?
– Мне так будет неудобно.
– Мне сказали, что вы сами все решите.
Тут, конечно, больше дело в воспитании, а не в договоренности. Если человек по натуре хамоват, ему только дай зеленый свет.
Есть особая категория пациентов «по договоренности» – «блатные». Несмотря на то что понятие «блатные» исходно относится к тюремной иерархии, у врачей так принято называть всех особо социально значимых пациентов. Это может быть крупный чиновник, директор строительной компании, топ-менеджер, бизнесмен, а может, и правда «блатной» – в первозданном понимании этого слова.
Принципиальное различие между пациентами «по договоренности» и «блатными» в том, что последние всегда приходят в сопровождении, их к вам доставляют под белы рученьки. Второе различие в том, что люди, их приведшие (администраторы, чиновники, а нередко и охрана), часто уведомляют вас, что будут присутствовать при осмотре. Ну, чтобы избежать любых недоразумений, мало ли что вы наплетете уважаемому человеку. Это часть программы, потому что перед «блатными» нужно совершить не просто осмотр, а настоящее театральное представление. Оно включает в себя несколько требований:
1. Должно быть много народу (администраторы плюс врачи).
2. Этот народ должен совершать с «блатным» разные действия: высказывать мысли, стучать молоточком по коленке, просить показать язык, делать задумчивый вид.
3. По времени это должно быть протяженное действо, все же уважаемый человек, а не какая-то замухрышка.
4. «Блатной» должен остаться доволен.
5. Его сопровождающие должны остаться довольны.
6. Довольства остальных участников не требуется.
Мне запомнился разговор с одним высокопоставленным местным чиновником, который всегда ездил лечиться в соседний город, хотя возможности нашей больницы были ничуть не хуже. Меня это удивляло, и однажды я спросил его об этом. Он ответил, что в нашем городе его все знают, и стоит только лечь в больницу, как тут же соберут всех профессоров-академиков и будет по три консилиума в день, и подключат всех-всех самых лучших специалистов, и сделают все-все обследования, и возьмут все-все анализы, и как потом полечат-полечат. Короче, резюмировал он, устроят танец с бубном, а мне нужно просто спокойно подлечить поясницу.
Я никого не обвиняю и прекрасно понимаю всех администраторов и чиновников, которые приводят таких «блатных». Все мы не свободны и должны выполнять просьбы и поручения вышестоящих. Тут как раз проблемы нет. Проблема в том, что после такого осмотра становится как-то обидно, а иногда даже гадко на душе, потому что нельзя ко всем пациентам относиться как к «блатным». Ведь даже «театральное представление» не так плохо по своей сути. Часто это позволяет здесь и сейчас решить все проблемы пациента: и медицинские, и организационные. Но со всеми так нельзя, ресурсы ограничены. Возвращаемся к истокам: многое имеет тот, кто имеет доступ к ресурсам.
И все же нередко стремление сделать для «блатного» все быстро и наилучшим образом приводит к тому, что начинают нарушаться правила и стандарты. Иногда это выходит боком для самого «блатного». Там, где обычному пациенту предлагаются отработанные схемы, «блатных» пытаются провести через «черный ход». Но суть работающих схем в том – сюрприз! – что они работают.
Я был свидетелем, когда «блатному» не выполнялись некоторые обязательные обследования – с формулировкой «чтобы лишний раз не мучить». В итоге затягивались постановка верного диагноза и лечение. Поэтому и «блатные» тоже плачут.
Врачи это хорошо знают, и когда вдруг сами поступают с какой-то болезнью, то первым делом говорят коллегам: «Делайте для меня все так же, как для обычных пациентов». Я даже знаю случаи, когда врачи обращались за помощью не в свою больницу, а в соседнюю, чтобы их лечили «нормально», как всех, без чрезмерности или эксклюзивности. Без всякого блата.
Историй про «блатных» пациентов так много, и все они так похожи друг на друга, что на этом я и закончу. Тем более в дверь стучат. Должно быть, подошел пациент от Кузьмы Петровича.
После выписки
После выписки пациента из стационара для врача в большинстве случаев «эпизод закрывается». Хотя некоторые пациенты будут поступать вновь и вновь в силу прогрессии или рецидива заболевания. Как сейчас говорят – это «клиенты на всю жизнь». Уточняю – на всю жизнь пациента.
Обычно с каждым последующим поступлением состояние пациента прогрессивно ухудшается, и однажды наступает момент, когда дальнейшее лечение или операция не показаны или невозможны. Тогда врач берет за руку своего давнего пациента, грустно смотрит ему в глаза и говорит: «Мы прошли вместе долгий путь, но пора расставаться». И часто, очень часто пациент отвечает доктору: «Спасибо за все, что сделали для меня». Попрощавшись с пациентом, теперь уже навсегда, доктор в последний раз посмотрит ему вслед, и сердце на мгновение защемит, и слезы выступят, и в горле ком, но раз… два… три… четыре – и все в порядке, работа продолжается, другие пациенты ждут.
Нейрохирурги выполняют широкий спектр операций. После некоторых вмешательств пациенты быстро возвращаются к своей обычной жизни. Например, после удаления грыжи межпозвонкового диска на пояснице у большинства пациентов боль проходит уже на следующие сутки. Они так рады и счастливы, что им совсем не до рекомендаций врачей о том, что надо на месяц ограничить нагрузки. Разве имеют силу рекомендации, когда на даче не выкопана картошка! Вот и привозят к нам скрюченных пополам прямо с дачи, и врачи всегда слышат какое-то неубедительное оправдание: «Да там совсем небольшой участок».
В других случаях, в силу тяжести заболевания или травмы, либо осложненного течения операции, пациенты имеют какой-то неврологический дефицит: паралич конечностей, нарушение речи, ухудшение зрения, расстройство координации. Часто им требуется длительная реабилитация для возвращения к прежнему образу жизни. Часть из них останется инвалидами. Кто-то покинет больницу в вегетативном состоянии.
Кого-то мы выписываем домой умирать.
«Status incurabilis»
Некоторые пациенты в силу прогрессирования или первичной запущенности заболевания становятся некурабельными, то есть неизлечимыми, и врачи коллегиально принимают решение о том, что любое лечение или операция не принесут какой-либо пользы и не облегчат страдания. Обычно за этим следует, что дальнейшее нахождение пациента в стационаре не имеет смысла. Койки должны занимать пациенты, которым врачи могут помочь. Для некурабельных есть два пути: хоспис или дом.
В таких случаях мы вызываем родственников на разговор и объясняем ситуацию. Это всегда тяжелый разговор. К нему нужно заранее подготовиться, в первую очередь эмоционально, ведь вопросы родственников всегда однотипны.
В начале разговора такие: «Неужели нельзя больше ничего сделать?», «А может, перевести в какую-то другую клинику?», «Есть хоть какой-то шанс?»
В конце разговора другие: «Сколько ему осталось?», «Он будет мучиться?», «Как избавить его от боли?», «Он будет умирать в сознании?»
На основании известной статистики мы можем предоставить родственникам примерные интервалы, сколько может прожить пациент с определенной патологией, но все, конечно, индивидуально.
Относительно боли и мучений все также зависит от заболевания. В нейрохирургии, при запущенных опухолях головного мозга и других заболеваниях мы можем немного успокоить родственников тем, что пациент, вероятно, сильно мучиться не будет и умрет в бессознательном состоянии. Его сознание будет прогрессивно угнетаться, сначала он загрузится до сопора, потом до комы, и в какой-то момент произойдет остановка дыхания и кровообращения.
В любом случае, наблюдать, как медленно умирает близкий человек, – это серьезное испытание, и к нему готовы не все. Поэтому не всегда родственники соглашаются забирать безнадежных и умирающих пациентов домой. Если не удается перевести такого пациента в хоспис, он умирает в больнице. Иногда угасание растягивается на недели, иногда на месяцы.
Не хочу и не имею никакого морального права обвинять людей, которые оставляют своих родственников умирать в больницах. Однако нужно отметить, что так было не всегда, что это в последнее время произошли перемены в нашем обществе, когда мы стали максимально дистанцироваться от всех негативных проявлений жизни и, тем более, ее окончания. Традиционно у русских было принято, чтобы человек умирал дома, в кругу семьи. Это было естественное завершение жизни.
Раньше люди не только умирали дома, родственники сами обмывали покойников и приготавливали к похоронам. И это было еще не так давно, это поколение моих бабушек и дедушек. Родственники приходили и помогали помыть умершего, переодеть его. Сейчас это все выполняется ритуальной службой. И мы очень благодарны им за это! Однако возникает ощущение, что какие-то сакральные вещи мы передали коммерческому конвейеру.
«Status vegetatiсus»
Чтобы мозг нормально функционировал, необходимы координированные действия трех его систем: коры головного мозга, подкорковых ганглиев и ствола. Все высшие функции нервной системы – сознание, мышление, речь – связаны с корой головного мозга. Однако все жизненно важные центры расположены не в коре, а в стволе головного мозга. Там находится центр дыхания и кровообращения. Поэтому человек может жить без коры головного мозга, но не без ствола.
Иногда в силу тяжелого заболевания или травмы происходит массивное поражение коры головного мозга и ее разобщение с подкорковыми ганглиями и стволом, при этом последние остаются жизнеспособными. Это приводит к тому, что пациент остается жив, но при этом у него нарушаются высшие корковые функции, и он переходит в разряд «вегетатиков» – людей, находящихся в «растительном» состоянии.
Бывает такая последовательность событий: тяжелая черепно-мозговая травма – операция – длительное нахождение в коме на искусственной вентиляции легких. На этом этапе ряд пациентов умирает от исходной тяжести и массивности поражения головного мозга. Если же пациент переживает острейший период, и врачи-реаниматологи справляются с отеком мозга, то при сохранности работы ствола мозга пациент может жить, даже если вся кора мозга погибла. Однако жизнь таких пациентов будет не похожа на нашу с вами. Это будет, по большей части, существование тела, вегетативное существование.
Если кома характеризуется «неразбудимостью пациента», то есть ни на какие внешние раздражители – прикосновение, звук – пациент не открывает глаза, то при переходе в вегетативное состояние он самопроизвольно начинает их открывать, моргать, у него восстанавливается цикл сна и бодрствования, он может проглатывать пищу при ее попадании в рот. Ключевое в вегетативном состоянии – полное отсутствие любой познавательной деятельности. Вегетативное состояние называют «бодрствующей комой».
Пациент в вегетативном статусе лежит с открытыми глазами и смотрит в одну точку, совершенно бессмысленно. При этом рядом может находиться его самый близкий и дорогой человек, но пациент ни на градус не повернет взгляд, чтобы посмотреть на него. Вегетатик утратил возможности внимания, узнавания, воспоминания. Он утратил мышление и память. Он утратил свое «я».
Это очень трудно понять родственникам. Перед ними на койке лежит их любимый человек, и внешне как будто ничего не изменилось: его лицо, тело, руки. Все такое знакомое и родное. А главное, что все страшное уже позади, ведь пациент начал открывать глаза, и наверняка еще чуть-чуть – и улыбнется, а потом и заговорит. Но почему же он не обращает на них внимания? Почему даже не смотрит на них?
После того как родственники пережили тяжелый период нахождения пациента в коме, на грани жизни и смерти, открывание глаз вызывает у них чрезмерный оптимизм, они воспринимают это как «сознание вернулось». Но сознание вместе с корой головного мозга погибло безвозвратно. Глаза такому пациенту открывает ствол головного мозга. Это бессознательное действие.
Уставшим, измученным бессонными ночами и чувством неопределенности родственникам желаемое начинает казаться действительным. Они говорят: «Доктор, он посмотрел на меня, он моргнул мне, он улыбнулся». А мы видим совершенно неосмысленный взгляд вегетативного пациента с отсутствием нормальной электрической активности на электроэнцефалограмме. Что в таких случаях ответить родственникам?
А потом еще хуже. В вегетативном состоянии происходит растормаживание ряда примитивных рефлексов. Это связано с тем, что пораженная кора головного мозга перестает «подавлять» нижележащие отделы центральной нервной системы. Например, появляется характерный для младенцев хватательный рефлекс, когда прикосновение к ладони вызывает ее непроизвольное сжатие. И радостно взволнованные родственники говорят нам: «Доктор, он пожал мне руку, он сжал кулак!» Что в таких случаях им ответить?
Некоторые пациенты в вегетативном состоянии находятся в стационаре длительное время. В основном это связано с тем, что они за время нахождения в больнице «цепляют» ряд других заболеваний, с которыми борются врачи: пневмонии, циститы, пролежни. Но наступает день, когда мы говорим родным, что сделали все, что можно, в настоящее время состояние пациента стабильно и его нужно забирать домой, он больше не нуждается в специализированной помощи, а только в уходе и заботе. И только тогда у родственников начинают раскрываться глаза и приходит понимание всей серьезности ситуации. «Как выписываете? Так он же еще тяжелый. Он же не говорит и не отзывается. Почему вы прекращаете лечение? Он что, безнадежен?»
И такие разговоры с родственниками вегетативных пациентов у нейрохирургов происходят регулярно. Кто-то оказывается более понимающим. Люди уточняют особенности ухода, иногда просят подержать пациента хотя бы еще неделю, пока не решатся вопросы с работой и новым бытом. В некоторых случаях мы встречаем открытую агрессию. Нам говорят, что будут жаловаться на нас, что мы отдаем домой недолеченного и тяжелого пациента, что нас врачами после такого назвать язык не поворачивается…
Один из частых сценариев таков. Родственники с определенной регулярностью навещают вегетативного пациента, помогают в уходе, ведут беседы с лечащим доктором, звонят по телефону. Но когда речь заходит о том, что пациента нужно забирать домой, посещения резко прекращаются, как и любые другие контакты. В последнем разговоре обычно мы слышим: «Куда я такого заберу? У меня работа, ребенок, кредиты и прочие дела, мне что, все бросить? А на что я буду жить? Кто будет кормить моего сына?»
И все это правда. Когда родные забирают от нас вегетативного пациента, мы говорим, что это минус еще одна жизнь. Жизнь, положенная на уход за таким пациентом. Потому что молодой и физически здоровый человек при достаточном уходе и заботе может в вегетативном статусе просуществовать много лет. Для этого каждый день его нужно протирать, поворачивать, чтобы не было пролежней, мыть, кормить, присаживать и много чего еще. Вегетативный пациент живет столько, сколько за ним ухаживают – бережно и с любовью. Так обычно следят родители за своими больными детьми, чаще мамы.
Я помню одну семью, которая ухаживала за сыном, находящимся в вегетативном статусе после тяжелой мотоциклетной аварии. Мама этого парня не хотела верить, что сын не станет вновь прежним, поэтому кроме общего ухода каждый день с ним разговаривала, читала книги, рассказывала новости. Ей даже казалось, что есть прогресс, и она хвалилась мне, как он кивком правильно отвечает на вопросы ее ежедневных викторин. Столица нашей Родины: Москва или Брюссель! Кивок. Правильно, сынок, Москва. «Мцыри» написал Пушкин или Лермонтов? Кивок. Верно, сынок, Лермонтов.
Я консультировал их несколько лет, и на самом деле видел типичного пациента в вегетативном статусе, никаких признаков познавательной деятельности он не проявлял. При этом всегда опрятно одет, гладко выбрит, подстрижен, и за несколько лет на теле не образовалось ни одного пролежня. Все это требует титанических физических усилий и огромных душевных затрат. Поэтому неудивительно, что ухаживающие быстрее стареют и начинают болеть. Иногда именно они умирают первыми.
Каждый год я отмечал, как еще достаточно молодая мать пациента перестает следить за своим внешним видом, надевает какую-то старую и растянутую одежду, собирает волосы в грустный пучок. При первой нашей встрече она была совсем другой: яркая статная женщина в элегантном костюме. А сейчас все силы и все внимание она отдавала сыну, и на себя ничего не оставалось.
Года через три, не выдержав такой жизни, муж ушел к другой женщине. Она мне об этом рассказала как-то мимоходом, вскользь. Меня удивило, что она не обвиняла его, не проклинала и как будто даже считала, что это нормально в такой ситуации, потому что тепло отзывалась о бывшем муже и была благодарна (так и говорила – благодарна!), что он никогда не отказывает ей, когда нужно помочь отвезти сына на какие-то обследования. Перед такими людьми мне хочется встать на колени, они святые.
Не только родители, но иногда и жены, реже мужья, братья, сестры, готовы оставить работу, карьеру, прежний уклад жизни, только если будут иметь надежду, что когда-то, пусть не скоро, но пациент вновь станет собой, и их труд будет не напрасен. Поэтому перед тем, как забрать его домой, они задают одни и те же вопросы: «Когда он придет в себя?», «Он что, таким и останется?», «Как долго он будет требовать ухода?»
К сожалению, в большинстве случаев ожидать, что пациент, переживший тяжелый инсульт или черепно-мозговую травму и вышедший в классическое вегетативное состояние, очнется, не стоит. Да, могут быть некоторые улучшения, но, скорее всего, родственники больше никогда не увидят своего любимого человека прежним – с его улыбкой, воспоминаниями, мечтами. Скорее всего, он больше никогда не скажет им «доброе утро» и не пожелает спокойной ночи.
А родственники все равно вытягивают из нас надежду: «Ну, а через месяц, через полгода, через год ему станет лучше? Когда он начнет говорить? Может, стоит ему какое-то специальное лекарство купить?»
При таких разговорах у врачей нередко возникает моральная дилемма: сказать всю правду или ровно столько, сколько они смогут вынести?











