Читать онлайн В гости
- Автор: Виктор Балдоржиев
- Жанр: Исторические приключения, Историческая литература, Современная русская литература
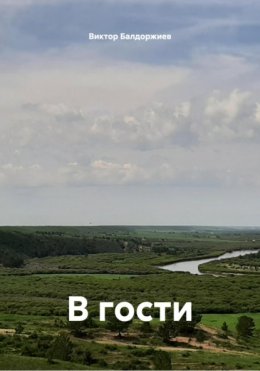
В гости
I
– Ну, дочка, поезжай, – сказал, волнуясь, отец. – Береги себя. Я буду ждать тебя у Большого камня в это же время ровно через четырнадцать ночей. Не опоздай…
Маленькая и смуглая Мажиг, понукнув вороного, бесстрашно поспешила в ночную степь и вскоре растворилась в ней. Позади осталась тёмно-синяя громада горы Хухэ Уула, а у её подножия, возле Большого камня, где останавливаются все степняки, – отец на быстроногом и нетерпеливом гнедом. Он ещё раньше, до этого момента, часто показывал тринадцатилетней Мажиг в сторону северо-востока и при этом настойчиво повторял, что ехать надо к миражным очертаниям горной гряды Адун Чулуун. Днём они кажутся далёкими, но по мере сокращения пути, будут увеличиваться и менять цвета от призрачно голубоватых до тёмно-синих.
Дочери надо было отправляться в гости к матери, через русскую границу, в центр сомона Шэнэ Толон. Его не миновать, если ехать от Хухэ Уула на Адун Чулуун, но двигаться надо только прямо, никуда не сворачивая. Мажиг давно не видела маму Чимид, и очень скучала по ней и сестрёнкам.
Летней ночью упоительно пахнет степными травами и цветами. Эти запахи дурманят и кружат голову, овевают тело теплом, наполняя его целительной силой и вызывая благодарные, ответные, импульсы, незримо связывающие человека и природу. В такое время хорошо думать и мечтать. И ехать, ехать куда-нибудь в смутных мечтах, не думая ни о чём.
Слившись с конём и ночной мглой, девочка вглядывается в степь и радуется свободе, предстоящей встрече с матерью, летним запахам и своим ясным мыслям, проявляющим бесконечные милые, картины её маленькой жизни, которая разделена теперь по обе стороны границы.
Недалеко, в широкой ложбине, поросшей высокой травой и камышом, журчит речка Ималка – кормилица всех местных жителей. Извиваясь, её темнеющая в ночи лента втекает сначала в Монголию, но потом делает крутой разворот и возвращается обратно. А в Монголии ещё больше речек, известных теперь маленькой Мажиг – Улза, Сэвсул, Жараахай, Дечин. Совсем недавно она знала только речки Ималка у Хүхэ Уула и Борзю – у подножий Адуун Чулууна, в направлении которого она держит путь.
Мажиг с отцом и его родственниками пасут овец между двумя новыми сомонами на монгольской стороне – Баруун Тарь и Хухэ Уула, названных по названию озера и горы. Отец намеревается примкнуть в одному из них. В Баруун Тарь – 343 хозяйства, в Хухэ Уула – 280 хозяйств, за ними – большие семьи, отары, гурты и табуны животных. Многие люди переехали сюда из местностей Адаг, Эрьесэг, Кулусутай, Аршаантуй, Баин Цаган, Буйлэсан, Наран Булаг, Яхша, а также большого и нового сомона Шэнэ Толон на русской стороне, центр которого строится почему-то на Хурай Добо, то есть на Сухом бугре. На востоке – синеющие горы Адун Чулууна, на юге – Торейские озёра, на севере – кайма соснового бора и Онон.
В Шэнэ Толон настоящее оживление и столпотворение, люди часто кочуют за границу и возвращаются обратно, многие оседают на месте. Днём тихо, ничего подозрительного не заметно, пасутся небольшие кучки овец. Ночью начинается едва заметное оживление, а утром глянь – нет нескольких юрт, телег, коней, коров и овец. А бывает и наоборот – снова откуда-то прибавилось юрт, животных и людей. Шэнэ Толон – самое оживлённое место привольной степи, где собираются семьи, не знающие на какой стороне надёжнее жить.
Новую жизнь активно, а то и принудительно, строят по обе стороны границы, каждая сторона кроит территории, хозяйства, семьи и создаёт хошуны и сомоны на свой лад, но присматривается и к другой стороне, нужное внедряет у себя. Вся территория – особая, очень не спокойная, пограничная, зона.
В Шэнэ Толон на русской стороне пытаются собрать всех бурят и русских, живущих в борзинских и торейских степях. но они, конечно, разбегаются в Баргу, Монголию, иногда возвращаются обратно. Вместе с укреплением границы, крепнет и увеличивается людьми сомон Шэнэ Толон, а те, кто укочевал возвращаются редко.
Одни из них поселились в Буруун Тарь, другие кочуют дальше, где по берегам реки Улза утверждаются хошуны и сомоны новой Монголии: Алхана, Далай, Онон-Ага, Адуун Чулуун, Буруун Тарь, Хухэ Уула. Они возникают на берегах монгольских озёр и рек, куда приезжают сотни людей, гоня перед собой свой скот. Уже созданы шесть хошунов, десятки сомонов. А люди всё едут и едут, везут и везут утварь. Возле степных рек и озёр всё чаще и чаще появляются всадники верхом и на телегах, гоня перед собой – табуны лошадей, гурты коров, отары овец. Говорят, что раньше пространство по рекам Улза и Онон называлось аймаком Сэцэн хана, а выше, до Хэнтэя, – аймаком Тушету хана.
Но прежняя жизнь исчезла, как исчезает безвозвратно во времени всё. Жизнь по обе стороны границы оживлённо копошится, многие люди всё ещё в растерянности, не знают на какой стороне обживаться, пасти скот, растить детей. Нигде нет твёрдости и опоры…
Обо всём этом рассказывает дарга сомона Баруун Тарь, полный и добродушный Цэрэнпэлийн Дамдинжав, который часто объезжает стойбища, устраивает собрания и выступает на них. Говорят, что он ездил на собрание даже в Нийслэл Хурэ – главный город Монголии, и видел прославленного Дамдины Сухэ, которого теперь величают Батором и рассказывают, что он родился в пади Гун-жалга возле Зун Тари. Отец иногда спорит с Дамдинжав-ахай и другими земляками, но соглашается в одном: монголы должны жить только с монголами.
Мажиг уже взрослая, скоро ей исполнится четырнадцать лет, и она хороша понимает разницу жизни по обе стороны границы. Жаль, что её мама Чимид и сестрёнки Хорло, Һамудай и Бутид не торопятся переезжать в Монголию. Так можно и в русских превратиться. Говорят, что многие буряты уже превратились и теперь не только смешат, но и донимают остальных. А за ними и другие медленно превращаются в русских. Так сказал Дамдинжав-ахай.
Граница, от которой всегда исходит опасность, а иногда – смерть, проходила рядом, сразу за ней начиналась большая и болотистая в любое время года падь, которую бедные русские люди называют Сатанинской, так они прозвала хозяина стойбища, жившего неподалёку. Мажиг видела этого низенького человека, буряты называют его Кешка или Тарбаган Кешка, большое имя его не то Бутин, не то Токмаков. Он – богатый русский человек в этой степи. С ним дружил самый богатый бурят Сандан-нойон, они ездили друг к другу. Отец говорит, что Тарбаган Кешка был добрым и хорошим человеком, имел много овец, коз, коров, коней, верблюдов, кормил всю округу до Яхши и Онона, но русские люди, которые работали и кормились на стойбище Тарбаган Кешки, всё равно называли его Сатаной. Поговаривают, что они не любят тех, кто живёт лучше их, хотя на глазах угодничают богатым, но за глаза желают им смерти. Потом хозяина стойбища арестовали и увезли куда-то. Буряты же говорили, что Тарбаган Кешка любил степь, где бил крепчайший аршан – минеральная вода с природным газом. Поэтому вся местность называется Аршаантуй. Тарбаган Кешка дружил с бурятами, и они считали его своим. Что стало с ним, куда его увезли?
Мажиг чувствует родную степь и ровную рысь вороного коня, она вся в тёплом дыхании ночи и слабом отсвете новой луны. Отогнав назойливые думы, она всмотрелась в ночную мглу и вдруг поняла, что проскочила границу, а пограничный наряд её не заметил. Может быть, и не было наряда? Но всё равно: надо быть осторожной, хотя Мажиг, вместе с конём и поклажей за бурятским седлом, слиты с тишиной, бег их неслышен, как скольжение тени, ничто не брякнет и не звякнет. Ведь отец, готовя к поездке дочь, тщательно и крепко обмотал материей и войлоком узду, стремена и всё, что может вызвать хоть малейший звук.
Отправиться в гости к матери девочка мечтала давно. Но мешала граница, которую с недавних пор стали охранять вооружённые люди. Они патрулируют пешими и конными по невидимой в траве полосе, которая тянется, извиваясь, от маяка до маяка, хотя они давно развалились, а камни их, выступая из травы, напоминают небольшие обоо. Расстояния большие, но нарваться на наряд можно в любое время. С появлением на границе охраны участились выстрелы. По слухам, уже убиты несколько русских пограничников и бурят, которые перекочёвывали в Баргу и Монголию. Теперь всем жителям степи надо беречься и быть осторожными.
Ровный шаг вороного убаюкивал, слева вот-вот должны были показаться юрты в местности Адаг возле речки Ималка, как вдруг позади, где-то на границе, грянул и раскатился в ночи хлёстким взрывом выстрел, за ним – второй, третий. Вороной резко отпрянул в сторону и помчался вперёд. Мажиг удержалась в седле и пригнулась к развевающейся гриве. Но вскоре ночная степь затихла, и девочка тихо порадовалась, что сумела перейти границу незамеченной. Но ведь в кого-то стреляли. Задержали или убили? Не всегда может повезти человеку, особенно на границе. Так говорит отец Мажиг, который трудится днями и ночами.
Почему-то у него русское имя – Антон. Он худощавый, высокий и смуглый человек с немного горбатым носом, вытянутым лицом и живыми чёрными глазами. Две его дочери в него. Монголы привыкли к его имени.
Отец и дочь живут в Монголии уже больше семи лет, четыре из которых граница была свободной, и никто не делил людей на своих и чужих. Поначалу кочевали по берегам Ималки и Буруун Тари, в местности Адаг, где с давних пор обитали родственники Антона, которые выделили им юрту, добавили к имевшимся животным – двух коров, двух коней, несколько овец. Мажиг тогда было всего пять или шесть лет. Из-за чего родители развелись она не знала, но уехала вместе с отцом к его родственникам, когда рассерженный Антон стал запрягать коня в телегу, Чимид что-то выговаривала ему из юрты, а двухлетняя Хорло цеплялась за подол её тэрлика и плакала. За косяком лошадей, тремя коровами и тремя десятками овец Антон вернулся потом, вместе с братом. Столько же скота оставил жене и младшей дочери. Справедливо разделил.
Повзрослев, Мажиг слышала, что родственники Чимид не хотели кочевать в Монголию, они надеялись, что русские, убивающие друг друга и грабящие жителей степи, когда-нибудь уйдут, но Антон не верил в это и уговаривал всех уходить в Монголию…
В первое время Антон и Мажиг приезжали обратно, но когда Чимид вышла замуж вторично, то стали навещать её и Хорло реже. Потом у матери родились ещё две дочери, и Мажиг со своим отцом навсегда отдалились от неё. Может быть, Антон расстался с Чимид из-того, что у них не было сыновей? Но впоследствии он не сошёлся ни с одной женщиной, так и остался жить бобылём со старшей дочерью вблизи родственников.
Живя у берегов Баруун Тари и подножия Хухэ Уула, Антон отправлял иногда с людьми подраставшую Мажиг в гости к матери, новая семья которой кочевала около местности Хурай добо, что недалеко от соснового бора, где создавали новый сомон. Местные озёра теперь так и назывались Сомоной нуур. Сомон Шэнэ Толи приписали к Борзинскому району, очень быстро люди стали называть центр сомона на русский лад – Новая Заря.
Чимид же иногда, с людьми, отправляла дочери сшитую ей одежду. Она была известной мастерицей и хозяйкой. Очень скучала Мажиг по маме и сёстрам.
Несколько раз Антон с дочерью приезжал в Хурай добо чтобы посмотреть на эту самую Новую Зарю, но, посмотрев, возвращался в Адаг, а два года назад решительно откочевал вглубь Монголии, ближе к Хухэ Уула.
Зачем попусту горлопанить и скучиваться вместе с лентяями и глупцами, когда вокруг привольная степь? Зачем русские избы и амбары, привезённые из казачьей станицы Кулусутай? А вдруг вернутся их хозяева, бежавшие от новых властей в Баргу? Антон хорошо знал русских казаков Кулусутая, в образах многих из них часто проявлялись черты далёких монголов. В праздники молодёжь богачей, крепко обвязав головы красивыми лентами платков, кисти которых свисали по вискам и лицам, лихо скакала вдоль улицы станицы на горячих конях, гарцуя и красуясь перед визжащей толпой девчат. Самые богатые из них – Золотухины и Пушкарёвы.
Теперь казаки перекочевали в Баргу и перегнали туда свой скот, которого было так много, что его не считали, падь заполнили – и ладно. В памяти людей осталась быль о том, как в лютую пургу, бушевавшую трое суток, сквозь ураганный ветер, прорвался к станице полуживой пастух-бурят Сундуп и, тревожно постучал плёткой в окно Пушкарёвых, в избе которых источали жар русская печь и большая керосиновая лампа. Когда к Сундупу выбежали хозяева в накинутых дохах, он, совершенно обессилевший, упал с коня в снег и прошептал обледеневшими губами сквозь свист ветра: «Хозяин, четыре тысячи эргэнов, валухов пропал… Шурган…». На что старик Пушкарёв, сплюнул и выматерился: «Х…й с имя, главное, ты живой!» и велел сыновьям нести пастуха в баню и натирать спиртом снаружи, прежде, влив ему вовнутрь…
Откочевали казаки, поскучнел Кулусутай. Новые люди создают новую жизнь и разбирают их избы и амбары, перевозят в центр нового сомона, где пытаются собрать борзинских и торейских бурят, которых невозможно угнать за левый берег Онона. Говорят, что за Онон перегонят весь Адун-Чулуунский хошун. А ещё люди говорят, что в Барге неспокойно, что буряты СССР воевали с китайцами. Выслушав и подумав, Антон сказал, что, наверное, среди китайцев тоже были буряты.
Вообще, власть, как и всякий пастух, пытается сгрудить бурят в кучки, поселить в разных местах, отодвинуть их от границы, через которую они могут бежать. И бегут. Следовательно, нужны надёжные новые изгороди, загоны, расколы, которую обозначат как новую родину оставшихся здесь людей. Ко всему может привыкнуть живое существо, привыкнут к новым местам и буряты. Тем более, что там им будет хорошо. Антон и некоторые буряты видят действия новой власти, то есть новых пастухов. И думают, думают, думают…
Ладно, создали новый сомон между Бурят-Монголией и границей. Пусть. Но почему надо скучиваться, толпиться и жить всем в одном месте, когда повсюду степь и свежий воздух? Многое было непонятно Антону и другим бурятам, на глазах которых начала меняться жизнь.
Бывалый степняк, он хорошо помнил, как в 1925 году в степи появилось с десяток людей, на которых была русская военная одежда, островерхие шапки с большими красными звёздами. Эти были не те, худые и злые, воевавшие меж собой до 1920 года, а другие, более сытые что ли. Двое, в кожаных куртках, первый с маузером в плоском деревянном футляре, свисавшем до колена, второй с револьвером в куцей кобуре на боку, командовали остальными. Говорили, что они приехали из Верхнеудинска и Читы, остановились в Борзе. Намерены собирать бурят правобережья Онона, кочующих от Адун Чулууна до Хухэ Уулы, создавать для них новую жизнь. Слухи гуляли самые невероятные: от того, что все люди будут жить вместе, в одном большом доме, а женщины станут общими, до того, что никто не будет работать, еду положено раздавать всем три раза в день. Коммунизм называется: живи, радуйся, не поперхнись.
Люди смеялись, верили и не верили. Но самым назойливым и, видимо, верным был слух, что всех жителей сомона освободят от татвар – налогов. Кто-то говорил – на три года, а некоторые шептались – на всю жизнь. Без татвара! Это манило…
Центр сомона стал укрепляться сразу, после создания: появились несколько изб, амбар, вокруг них – юрты, откуда-то возникли уполномоченные, участковые, участились собрания. Говорили, в основном, о хозяйствах, устройстве новой жизни, бодхуулах – перебежчиках. Люди бежали не только в Китай и Монголию, но, редко, и – оттуда. Неожиданно стало очень много лозунгов, намалёванных белыми буквами на красной материи. Они возникали чуть ли не на каждой избе или юрте, а одна из них так и называлась – Красная юрта. Суета закрутилась серьёзная, большая и, видимо, надолго.
Антон и его родственники чувствовали себя спокойно у Хухэ Уула, в Монголии, хотя и там уже появились люди в русской одежде с винтовками, маузерами, револьверами. И там главными стали – красный цвет и лозунги. Как теперь жить бурятам, если они разделены границами Китая, Монголии и России?
Несколько дней тому назад, вечером, Мажиг сказала отцу, что поедет в гости на вороном по темноте, этой же ночью, но Антон решительно запротестовал. Какая может быть ночь, когда наступает полнолуние? Луна зальёт светом степь так, что издалека не то, что человека на коне, но и овцу станет видно. Небо, земля, горизонт отчётливы. В это время любой звук слышен издалека. Трудно будет переехать на коне через границу не замеченной. Пограничники задержат или застрелят. А такие случаи есть, вся степь о них судачит. И в новолуние ехать нельзя: слишком темно, заблудиться можно. Известно, ночью чёрт водит.
– Отправишься, когда ночи станут темнее, – ласково сказал Антон, смотря печальными глазами на повзрослевшую дочь.
Мажиг молча согласилась с ним.
Антон чувствовал: дочь скучает по матери. К тому же ей нужна новая одежда, а Чимид – мастерица, давно, наверное, сшила ей нарядный тэрлик, шапку, обувь. Конечно, она тоже скучает по старшей дочери.
Умный конь шёл по степи не спеша, и девочка его не подгоняла. Далеко справа тускло мелькнула гладь воды, и она поняла, что там Батын нуур, значит, справа же останется и Эрдэни Уула, где ламы проводят молебствия, а слева угадывалась в ночи темень бесконечной котловины высыхающего озера Баруун Тари.
Край неба на востоке побледнел и медленно стал розоветь. Похолодало, где-то закричала невидимая маленькая пичуга. На востоке показался край огромного алого солнца, поднимаясь, оно медленно заливало оживающую степь тёплым розовым сиянием, в которых переливались лазурно-жёлтые лучи, от которых засверкали алмазные росы в зелёной степи, украшенной цветами. Девочка сладко дремала на ходу коня, но всем телом чувствовала овевающее её тепло и красоту, мерное движение коня, будто она плыла в бескрайнем океане трав и цветов…
Неожиданно, напугав коня, вспорхнула из высоких предрассветных трав, большая стая тяжёлых и прекрасных своим разноцветьем дроф, которых буряты называют звучным именем – тоодог. Вздремнувшая было Мажиг встрепенулась одновременно с вороным. Дрофы летели плавно и грузно, тяготея к травам и забирая влево, подальше от внезапно появившейся маленькой девочки на большом вороном коне. Вскоре они исчезли из вида.
В степи очень много тоодог, некоторые даже больше жирного ягнёнка. Говорят, что в древности буряты ловили их с коня, на полном скаку, чуть ли не руками.
Оглядев местность и убедившись, что едет правильно, Мажиг понукнула коня. За небольшой сопкой метнулось и стремительно помчалось по степи огромное стадо дзеренов – удивительных антилоп и подлинных хозяев этих просторов. Изящные палевые фигурки животных переливающейся лентой мчались по степи, радуя взор девочки, заметившей вдали табун коней и дымки стойбищ. Как сладок вкус их запаха! Начиналось утро.
Предчувствуя завершение работы, вороной пошёл быстро и бодро, мысли девочки вернулись к ожиданию встречи с матерью и сестрёнками. Настроения коня и человека стали почти торжественными, а степь перед ними предстала во всей своей утренней красе. Недалеко мелькнула, успев быстро оглянуться, золотистой струйкой лисица, потянулись от озёр утки и гуси, высоко в небе, распластав крылья, парила большая и хищная птица, высматривая добычу. То и дело мчались по степи корсаки. Степь жила своей жизнью. Мирно паслись коровы, быки и косяки лошадей.
На одном из нежилых бутанов, Мажиг остановила коня, спешилась и, отпустив длинный повод, дала ему попастись, а сама, отвязав от седла торбу, отпила из туеска немного арсы и стала грызть сушёный творог – айраг, не переставая оглядывать степь и исследовать бутан. Он, действительно, был нежилым, в двух норах застряли сухие колючки перекати-поля, валялись старые перья и кости какой-то птицы. Наверное, тарбаганы давно покинули это жилье, в котором, видимо, недолгое время жили лисы или корсаки, барсуки или еноты, а, может быть, – дерзкие и красивые птицы с отливающим золотом тёмно-красным и сине-зелёным оперением, их называют ангатуями или ханскими утками. Говорят, что они даже корсаков выгоняют из нор. Может быть, ангатую не повезло именно в этой норе?
Вся степь, в неисчислимых переливах небольших бугорков – бутанов, особенно заметных при восходе или заходе солнца. Каждый бутан и каждая норка – отдельный, живой и трепетный, мир. Сама земля наполнена и пронизана бессмертным духом, непрерывной жизнью, неукротимой волей к ней.
Позавтракав, девочка снова села на коня и отправилась дальше. И сразу на её пути стали внезапно показываться из травы трепетными живыми столбиками тарбаганы, тревожно пересвистывающиеся между собой.
На севере степь окаймлял сосновый бор. Вдали, на востоке, показались тёмно-синие контуры далёких гор Адун Чулууна, заголубели степные озёра, показались стойбища степняков и небольшая отара овец, возле которой маячил всадник с икрюком. Поодаль паслось пёстрое стадо коров, от ближней стоянки неспешно бежали две лохматые собаки.
Направление было знакомым, Мажиг уехала с отцом из этих мест, потом не раз приезжала сюда с ним же. За первой же сопкой, в степи, заблестели круглые озёра, проехав ещё немного, она увидела несколько изб и юрты центра нового сомона – строящегося селения, и сердце её снова радостно встрепенулось.
Очень скоро она встретится с матерью и сёстрами.
В центре сомона её узнали первые же встречные и показали направление на летник Байдун Балдана, нового мужа Чимид и отца её двух дочерей. Слух о том, что приехала старшая дочь Антона тут же разлетелся по селению, а дальше – по сомону. Женщины судачили о Чимид и перемывали ей косточки, обсуждая её мужей – Антона и Байдун Балдана, с которым она жила сейчас, попутно жалели четырёх дочерей женщины. Почему красавица Чимид не может родить парня? Казалось, что это большая загадка и тема обитателей степи. Второй муж Чимид, кроме того, что содержал скот, ещё с царских времён работал уртонщиком, это что-то среднее между ямщиком и курьером. В общем, служба – кони и разъезды. Следовательно, он должен быть человеком осведомлённым обо всех новостях степи.
Летник Байдун Балдана находился между центром сомона и речкой Борзя, известной девочке с раннего детства. Мажиг заспешила туда, и в предчувствии скорой встречи, понукнула коня.
Как только вдали показался вороной с Мажиг, из юрты летника выбежали Чимид и три её дочери Хорло, Һамудай и Бутид. Они побежали навстречу гостье по травам, а младшая, трёхлетняя Бутид, конечно, запуталась в траве, упала и заплакала, но на неё не обращали внимания. Земля мягкая, ничего с ней случится. Мажиг спешилась и тоже побежала навстречу родным.
Земля и небо закачались в глазах родных людей, радостно смеющихся и обнимающих друг друга. Для всех людей есть на земле счастье, которое невозможно измерить временем. Зачем им мешать?
Счастливое солнце валилось за полдень, когда Мажиг успела уже померить новый дэгэл, потом – тэрлик, шапку с красными кисточками, крепкую обувь, именуемую по-бурятски гутулами. Всё было добротным, прочным, удобным и тёплым. Сложив одежду обратно в сундук, Мажиг с младшей сестрой Хорло, отправились на конях пасти овец и коз, скрывшихся за сопкой. Новый муж матери был в отъезде, и Чимид часто посматривала в степь.
Вечером, когда собрали и скучили у юрты овец, коров подоили, коней застреножили, начались длинные пересказы друг другу новостей. Наступило самое приятное время, когда за войлоком юрты дышат животные, луна озаряет степь серебряным сиянием, поблёскивают глади вод на озёрах и излучинах рек, а в юртах начинаются долгие разговоры.
II
Больше десяти дней гостила Мажиг у матери, сестёр, родственников. Побывала почти у всех. Два дня жила в центре сомона – Новой Заре, где стояли несколько старинных русских изб и амбаров, перевезённых из соседнего Кулусутая. Даже ночевала в избе. Не очень-то понравилось. Дух больно тяжёлый.
Мать была по-прежнему жизнерадостной и красивой, сёстры росли здоровыми. Новый муж матери оказался приветливым и добрым человеком. Мажиг поняла, что он заядлый картёжник, как и многие буряты.
Новостей – уйма. О них говорили на каждом летнике. Всюду строят новую жизнь. Многих борзинских и торейских бурят угнали за Онон, а некоторых людей увозят по ночам неизвестно куда на чёрных машинах. Вечерами распевают новые песни, юноши и девушки учат русский язык и поют русские песни. Их называют комсомолом. Всем женщинам велели снять туйбы-шпильки, которые они испокон веков вставляют в основания кос, собирая и украшая волосы. Комсомол борется за чистоту и говорит, что возле туйб заводятся вши. Этот же комсомол наставляет, что лучше одевать русские одежды, но одевавшие такую одежду люди утверждают, что они короткие и в них холодно, нет никакого тепла. Да и где взять эту одежду на всех, когда и своей-то не всегда хватает? Комсомол не может ответить, но учит и учит.
Да, ещё новость: заметно, что люди стали часто ругаться, хотя раньше это было большой редкостью, ссора становилась настоящим событием. Но люди пошли дальше – стали обвинять друг друга неизвестно в чём и неизвестно зачем. Очень много гуляет разных слухов. Шепчутся, что стало много доносчиков – тагнул, хобуушан. Молодые перестают почитать старших. Некоторые буряты очень и очень стараются говорить только на русском языке и только с русскими людьми, пренебрегая бурятами. Неизвестно кто пустил слух, что скоро всем запретят молиться. Теперь некоторые семьи тайком прячут свои божницы и божков, а другие увозят их в дацан. Третьи утверждают, что и дацаны очень скоро закроют, а лам выселят неизвестно куда. Неужели?
По ночам крепкие хозяева кочуют в Баргу и Монголию, договариваются они заранее, скот собирают в укромных, скрытых от глаз, падях. Народ по-прежнему переходит границу, хотя охрана становится строже. Многие агинские буряты переселяются за Онон, в новый сомон Шэнэ Толон, где, действительно, пока не собирают налоги. Здесь живут уже несколько лам из Цугольского дацана, двое из них оказались хорошими лекарями. Говорят, что в Аге новая власть крепкая, очень суровая и даже жестокая, потому и кочуют люди за Онон и дальше. Если за Ононом большинство слухов исполняются, то здесь – не всегда.
Такие разговоры вели буряты долгими вечерами в юртах, а в старинной казачьей избе, разделённой на две половины, молодёжь ставила спектакли и пела новые песни, оглашая степную ночь неизвестными доселе звуками.
Жизнь становилась совсем другой, люди менялись, время побежало быстрее, будто бы и ждало перемен. Происходили самые невероятные события, в которые даже поверить невозможно. Но Мажиг не вникала в разговоры, а помогала матери и сёстрам. У всех в эти дни было хорошее настроение. А когда однажды вечером мать стала расспрашивать о знакомых и родственниках в Монголии, Мажиг охотно поведала ей некоторые новости. И каждая казалась матери интересной и хорошей.
Особенно звонко смеялась Чимид, когда дочь рассказала ей историю о том, как в первый зимний месяц года, в бушующий шурган, через границу перегнал большой табун голый человек, правда, в меховом бурятском тулупе и бурятских гутулах. Но голый. Об этом, ещё весной, Антону и другим бурятам рассказывал дарга сомона Хухэ Уула. Оказывается, слух об этом случае почему-то не дошёл до бурят на русской стороне. Мажиг пришлось рассказать историю три или четыре раза в юртах своих родственников и знакомых, вызывая у них слёзы на глазах от смеха. Смеялись даже сестрёнки, вплоть до ничего не понимающей, трёхлетней Бутид.
Всё дело было в стуже и штанах, которые буряты одевают зимой мехом или овчиной вовнутрь. Обычно, такие штаны выносят на мороз, очень часто, буквально, отбивают на снегу вместе с другими одеждами. Конечно, такие штаны находятся постоянно на улице. Зачем плодить вшей? Одевают их по необходимости.
Этот бурят в последнее время был сильно озабочен перегоном своих животных через границу, жил и кружил с табуном по степи много дней. Штаны не снимал, не менял, и в нём, конечно, завелись вши. Человек терпел, но его сила воли и стремление к свободной жизни оказались сильнее неудобств и каких-то вшей.
Особенно стало в невмоготу, когда копошение мерзких и мелких тварей совпало со степным ураганом – шурганом, именно в это время он начал перегонять табун через границу. Смельчак специально ждал такой бури. Снежная и свистящая пурга захлёстывала и завивалась кольцом, образуя вихрящиеся снежные занавесы, за которыми мелькали морды и крупы коней, их ошалевшие от паники глаза. Стужа была страшная, животные и люди заиндевели и леденели. Ветер бил с ураганной силой и, казалось, что может унести к чёртовой матери не только человека, но и весь бившийся в пурге табун. И в этот момент укусы и копошение вшей стали чрезвычайно невыносимыми. Через многое прошёл этот человек, в него не раз стреляли пограничники и бандиты, тело его познало пули и ножи, но вши стали страшнее всех былых опасностей, казалось, что тьма за тьмой они вгрызаются в его пах.
Не выдержав, он решил снять злополучные штаны, вывернуть их и вытряхнуть вшей с тем, чтобы они сдохли на морозе и были унесены дьявольским ветром. Улучив момент, он изловчился спрыгнуть с коня, снять, даже вывернуть и попытаться отряхнуть штаны, но порыв ураганного ветра со страшной силой вырвал их из рук и мгновенно поглотил в снежном вихре. Поняв свою оплошность, но избавившись таким образом от вшей, он снова вскочил на коня, запахнул под голую задницу и колени полы тулупа и погнал дальше свой табун. Бесстрашный человек! Была полночь. Он пригнал коней в Буруун Тарь на рассвете, когда стих буран, и всё пространство засверкало мириадами алмазов на свежем снегу. Уставший смертельно человек, вошёл в юрту, распахнул тулуп перед изумлёнными знакомыми и родственниками, и те не смогли удержать смех и хохот.
Такие были люди. Они хотели жить в своём мире и понимали, что ни один человек не сможет стать другим и жить с другими людьми, в чужом мире, а потому бежали от тех, кто всем и всюду навязывал свои порядки и законы, считая это нормальным, а себя – лучшими из всех живых тварей на Земле. Но кому от этого хорошо? Каждый в этом мире хочет жить и быть счастливым…
Жить в юрте матери было хорошо. Тепло жить. Хорошо работать вместе с Хорло, хорошо играть с маленбькими сестрёнками – Һамудай и Бутид. С матерью хорошо. Ехать обратно маленькой Мажиг уже не хотелось. Но отец будет ждать у подножия Хухэ Уула, у Большого камня. Ведь они договорились. Ни один человек не сможет жить, если нарушит данное слово. Таков закон…
Время в юрте матери стало врагом Мажиг.
За день до отъезда она спросила: не собираются ли они кочевать в Монголию. Что передать родственникам? Мать встревожилась, оглянулась и зашептала, что собираются. Многие хотят перекочевать. Тут становится страшно, исчезают умные и работящие люди. Никто не знает куда их увозят, что с ними делают и где они вообще? Сюда приезжают русские люди и буряты из-за Онона, они устраивают собрания, на них выбирают даргу сомона и его помощников. Первый дарга убежал в Баргу, потом за границу ускакал и второй. Между прочим, они собирали деньги у людей. Третьего привезли из-за Онона. Говорят, что очень скоро люди сомона будут работать все вместе в какой-то артели. Как это возможно? Надо готовиться к отъезду. Когда? Может быть, через год. Люди здесь становятся злыми, следят друг за другом, доносят русским.
Кстати, Мажиг надо уезжать внезапно, ночью, чтобы ни один житель сомона не заметил её отъезда. Перед переходом надо будет дождаться ночи возле Ималки. А родственникам передать, что Чимид с новым мужем и дочерями обязательно перекочуют в Монголию. Они давно готовятся к перкочёвке. Мажиг была уже большой и умной девочкой. Она всё поняла.
В ночь отъезда мать проверила узду и седло вороного, который, предчувствуя дорогу и настроение хозяйки, стоял понуро опустив голову. Мать тщательно ощупывала узду, стремена, подпруги, что-то вязала, подшивала. Ничто не должно зазвенеть и обратить внимание посторонних в ночи до того, как Мажиг достигнет Большого камня у подножия Хухэ Уула, где ждёт её Антон.
Сестрёнки встревожились и смотрели большими глазами на приготовления к отъезду.
Новую одежду и подарки Мажиг туго упаковали и перевязали, собрав в один большой и продолговатый сверток, который крепко закрепили за седлом вороного. Продолжалась бесконечная тёплая летняя ночь, звёзды стали крупнее – явный признак приближения восьмого месяца. Луна только начала обновляться, её тоненький серп почти не озарял степь.
– Ну, поезжай, дочка. Не опоздай к отцу, – шепнула, волнуясь, мать, показывая в сторону Хухэ Уула. – Мы обязательно приедем к тебе. Жди. – И понюхав голову наклонившейся с коня дочери, отстранилась.
Маленькая Мажиг понукнула вороного, и очень скоро тёплая мгла скрыла четырёх родных ей людей, стоявших у низенькой юрты в огромной ночной степи – мать и сестрёнок.
Продолжалось долгое лето 1928 года.
Она встретилась с ними через шестьдесят с лишним лет. Границы открылись в 1989 году. И многие бурят-монголы Китая, России и Монголии, дожившие до старости, смогли увидеть своих братьев и сестёр, снова окликнуть их по именам, как десятки лет тому назад. Может быть, сёстры могли бы встретиться и раньше, ведь МНР не была закрытой для России страной. Но у людей разные возможности и условия жизни.
За это время в степи и названных странах произошло то, что и должно было произойти. Каждый оставшийся в живых человек пережил то, что и должен был пережить. Эти истории затёрты в устах окружающих, известны всем. Зачем их повторять и надоедать людям?
Современные монголы мира за это время стали совершенно другими. Возможно, сегодня им нет дела до того, как жили и какими были их предки? Нет дела до того, кто они и какие сегодня сами? Куда идут и зачем? Какими будут их потомки? Может быть, такова природа любого человека?
Поплачь, поплачь, мой читатель, смягчи своё зачерствевшее от непрерывной лжи сердце и взгляни на эту прекрасную жизнь радостно, по-настоящему, как и должен видеть и чувствовать любой, нормальный, человек, мечтающий жить в своём мире с родными и близкими.
10 ноября 2023 года
P.S. Рассказ основан на реальных фактах. Все персонажи – реальные люди ХХ века. Некоторые имена, названия, цифры, а также события – из архивных материалов и преданий, бытующих в бурят-монгольских сомонах и архивах современной Монголии.
Мажиг – старшая из пятерых дочерей Чимид, жизнь которой прошла в Монголии. Четверо её сестёр жили в России. Их общая судьба – судьба народа, которая пришлась на минувшие этапы истории двух стран, о которых должны знать потомки.
Четыре сестры
I
– Опять ты, зараза, здесь ковыряешь, а ну, брысь отседова! – громко и хрипло крикнул краснорожий военный в расстёгнутом кителе, выходя на крыльцо большого и широкого дома, на худенькую, смуглую до черноты, девчушку в заплатанных лохмотьях от бурятского тэрлика, торопливо собиравшую, присев на корточки, картофельные очистки, куски хлеба, рыбьи головы и скелеты на помойке возле столовой вохровцев и госслужащих, каковым и был этот дом, стоявший посреди таёжного посёлка.
На вид девочке лет семь или восемь. Чёрные, тоненькие босые ножки местами покрывала короста, коленки в царапинах. Над ней монотонно жужжали зелёные мухи. Нещадно пекло беспощадное тайшетское солнце, опаляя побелевший шифер посёлка, который, казался вымершим.
Девчушка строго и недовольно стрельнула большими черёмуховыми глазами в сторону военного и, сложив аккуратно объедки в собранный подол, не очень-то спеша побежала вдоль забора и лопухов к баракам в конце посёлка, где жили спецпоселенцы. Там ждала её больная мать Чимид, сестрёнка Сэвэдэй, которой не было и года, ещё одна сестра десяти лет – Һамудай, а старшая сестра Хорло придёт с лесоповала вечером. Ей уже четырнадцать лет. Семья. И все, кроме младшей, добывают еду. Больная мать шьёт, Һамудай помогает ей и смотрит за младшей, часто помогает и старшей на лесоповале, которая выполняет «норму», Бутидка выпрашивает или ищет еду. Заметно, что военных и госслужащих девочка не боится. Видимо, привыкла к их постоянному окружению, окрикам, взглядам.
Бутидка бежала, не оглядываясь, потом пошла ровным шагом и с тоской думала, что на помойке осталось много очистков овощей, кусочков хлеба, объеденных рыбьих скелетов и даже слипшихся стебельков лапши. Бутидка набрела на это место первой! Сегодня она могла бы хорошо накормить семью. Неужели военным жалко объедков, даже чушкам не отдали? Пропадёт еда. Но, если повезёт, то остатки могут собрать другие бурятские ребятишки, которых привезли сюда вместе с ними осенью прошлого года. Многие из них умерли за зиму и весну, но некоторые выжили, а теперь бродят по посёлку, ищут пищу.
Случается, они собираются вместе и играют, когда не не в поиске. А ищут они всё время. Матери и старшие дети на бесконечной работе. Русское слово «норма» для взрослых и подростков бурят, некогда живших в степи и кормивших себя, стало и праздником, и голодной смертью. Выполнил «норму» – получишь еду, не выполнил – не получишь, помирай. Кто не работает, тот не ест. Вообще…
Дети умирают чаще взрослых. Русские говорят «дохнут, как мухи». Буряты повторяют пословицу: «Живущий в аду, адом и счастлив». Неужели? Голод, холод, грязь, бараки набиты людьми, клопы и вши прямо пожирают их. Клопов – тьмы, валятся прицельно, обнаружив обогретые места, вши непрерывно копошатся в одежде, по всему телу, у людей кровавые расчёсы.
В бараках – скарб, воздух спёртый и нездоровый. Вдоль стен – нары из не оструганных досок, топчаны, некоторые семьи «отгородились» одеялами и простынями. Это их «квартиры». В середине – единственная, плохо сложенная, печь на всех, дров на неё не напасёшься. А где и на чём еду варить? Взрослых и подростков гонят на работу охрана, бригадиры, госслужащие, но лучше их – «норма». Люди в тайге валят деревья, обрубают сучки и таскают тяжеленные брёвна. Больные, дети и младенцы спецпоселенцев остаются в бараках.
И все считают норму выработки, от которой зависит норма еды. Неработающим и детям выдают меньше всех. Случается, придёт измождённая, после лесоповала, мать в холодный барак, наклонится над ребёнком, лежащим на грязном тряпье топчана: моргает ли кроткими глазёнками? Не моргает, значит, умер. Запричитает, а то и упадёт от невыносимого горя рядом с ним. Но потом отойдёт, безвольная, отупевшая и безжизненная. И отнесут мёртвого ребёнка в общую яму, что за бараком. В некоторых случаях даже актов не пишут, только отмечают галочкой в амбарной книге учёта спецпоселенцев. (Теперь на местах таких кладбищ – парки культуры и отдыха трудящихся).
Много раз Бутидка видела картину похорон стариков и детей. Поняла: надо шевелиться, всё время шевелиться и тормошить других, иначе – смерть. Жизнь – движение. Сегодня Бутидка искала еду самостоятельно. Обычно кучкуются несколько бурятских детей, ходят измождённые под окнами русских изб, казармы или столовой, протянув тоненькие ручонки и выпрашивая еду. Все выучили русские слова. Не выучишь – умрёшь. Даже зажмурив глаза Бутидка может дрожащим голоском, без никакого притворства, приговаривать:
– Дяденьки и тётеньки дайте поесть, мама умирает, дайте хлеба, мама умирает, мама умирает. Хлеба, хлеба немного. Дайте поесть…
Иногда дают. Дебелые жёны офицеров, старшин, госслужащих брезгливо бросают им куски объедков, а жалостливые жители деревень суют немного еды в руки. Кажется, деревенские и сами голодные. Глаза обитателей бараков непрерывно и всюду ищут еду, особенно, возле домов, казарм, столовой, руки тянутся подобрать любой предмет, напоминающий пищу. Всегда хочется есть, ох, как хочется. Мама лежит ещё с весны. От работы её освободили. Как может работать изувеченный человек, не могущий встать на ноги?
Только очень низкий, не выработавший в процессе эволюции никаких понятий о человечности, завистливый, мстительный и в то же время подлый и хитрый организм, мог создать такую дьявольскую и несокрушимую систему уничижения и уничтожения. Даже случайный контакт с этой системой губит всё человеческое в человеке, делая его послушным, управляемым и подлым существом без собственного мнения. Сначала системе надо было препарировать людей и готовить из них манкуртов, но с годами они стали рождаться и воспроизводить себя сами, далее процесс стал естественным. Но трава нигде не растёт ровно, время от времени появляются другие, конечно, система уничтожает их, а манкуртов бережёт и откармливает для размножения.
Девочка открыла тяжёлую и вонючую, обитую разным тряпьём, дверь барака, куда хлынул свет из улицы, увидела сгорбившуюся фигурку матери, полулежавшей на топчане возле окна, прислонившись спиной к стене. Она сосредоточенно шила очередные рукавицы, а Һамудай сучила нитку из конских сухожилий. Иссохшую, смердящую и обглоданную тушу издохшего от непосильной работы старого лагерного коня сёстры нашли на скотомогильнике. Есть жилы – будут и сухожилия, крепчайшие нитки. Значит, можно зарабатывать…
Бутидка зашла и умилённо засмотрелась на маленькую Сэвэдэй. Малютка не моргала, но мирно посапывала на остатках бурятского овчинного одеяла, которое с каждым днём становилось всё меньше и меньше. Раньше под этим роскошным и тёплым укрытием могли спать мать и все четыре сестры, а теперь – только двое. Чимид кроила и шила из одеяла рукавицы, которые заказывали спецпоселенцы. Кроме них заказывали вохровцы и госслужащие. Таких варежек не было, да и не могло быть, ни у одного человека, кроме бурят. Рукавицы покупали, обменивали. А семье – прибавка, тем более что, когда на Чимид обрушилось дерево, после чего она уже не могла ходить, её осмотрел доктор и освободил от работы на лесоповале. Потом прошелестел слух, что семью могут отправить домой. Но никто этим слухам не верил: куда пойдёт человек, который не может ходит?.
Дисциплина в семье держалась строгая, каждый знает о своих обязанностях. Раньше это были заведённые предками порядки, а теперь – жизненная необходимость. Мать, хотя лежит, превозмогая боли, и не встаёт с топчана, всё время шьёт рукавицы, латает людям одежду. Четырнадцатилетняя Хорло работает за мать на лесоповале, она сучкоруб, отрабатывает семейную «норму». Десятилетняя Һамудай помогает Хорло и матери, смотрит за маленькой Сэвэдэй, а семилетняя Бутидка выпрашивает по посёлку еду. От пригоршни муки, выдаваемой начальством и которую пекут прямо на плите печи, болит живот. Иногда отпускают немного крупы, в которой попадаются черви. Масла дают – только губы помазать, которые тут же иссохнут на сибирских ветрах, лютых морозах или жаре.
Малютка Сэвэдэй – чудо-красавица, живая кукла, любой залюбуется, любому она по сердцу. Как-то вышла с ней Бутидка на улицу, так на Сэвэдэй сразу обратили внимание военные и гражданские, засуетились, зашушукались, стали подходить и гладить её по головке. Бутидка испугалась и быстро унесла Сэвэдэй в барак. Но потом некоторые семьи военных и госслужащих стали приходить в барак и уговаривать Чимид отдать им в дочери Сэвэдэй. Говорили: чудесная малютка всё равно умрёт в таких условиях, лучше отдать её в русскую семью, где ей сменят имя и воспитают. Но Чимид сурово смотрела на них и отказывала. Дочерям же строго наказала: в любом случае, при любом исходе их ссыльной судьбы довезти Сэвэдэй до родных краёв, ни в коем случае не оставлять её здесь и не отдавать русским людям.
А теперь Сэвэдэй посапывает и крепко спит на нарах, завёрнутая в стираные-перестиранные пелёнки. И вся её жизнь – впереди, в неведомом будущем.
II
Совсем недавно Чимид была непревзойдённой работницей и красавицей в Торейской степи, весь её род – красивые и большеглазые, весёлые и работящие люди. За зиму и весну в тайшетском поселении она превратилась в маленький, ходячий и бледный, скелет, обтянутый кожей, в котором всё ещё угадывалась былая красота и теплилась воля к жизни. Дочери исхудали, побледнели, но, несмотря на бескровные лица, оставались работящими, быстрыми и послушными.
Все спецпереселенцы, живущие в трудовых посёлках вокруг Тайшета, неузнаваемо изменились за каких-то полгода: из сытых и нормальных людей они превратились в забитые и измождённые существа неизвестной национальности. В германском концлагере был железный орднунг, то есть порядок, а здесь – неискоренимые воровство и бардак. Мускулы всего работающего контингента непрестанно болели, хотели отдыха, но отдыха не давала сама система, требующая постоянных и нечеловеческих, порой совершенно бессмысленных усилий и мук, превращающие мышцы человека в слабые, изорванные бечева, напрягающиеся неимоверными усилиями воли.
Товарно-денежные отношения – не только двигатель производства и торговли, но и активное орудие преступников. Все последние войны – за их благополучие. Экономическая удавка или выгоды от распределения природных и материальных ресурсов, особенно пищевая иерархия, отлично изучены и продолжают изучаться категориями преступников. За всю историю человечества именно они, всеми способами, стараются занять ведущие места в системах распределения. Суть политической и экономической борьбы – в этой ничтожной, но кровавой, суете, которую не видит за завесой слов большинство наивных людей, ослеплённых пропагандой или рекламой, что одно и то же. Не видели никакой преступности и спецпоселенцы Тайшета и других трудпоселений. Но люди – везде люди, и даже в нечеловеческих условиях случаются роды, свидетельством чему – дети заключённых и ссыльных, рождённые в стране, руководство которой потрудилось создать для народонаселения ужасающий криминальный фон, где ничто человеческое не могло проявиться. И никто ещё не ответил, не покаялся за это преступление. Таких не было и нет. Зачем тогда такие люди, почему с ними надо считаться и знать их? Рабов на каторгу второго крепостного права большевиков везли со всех концов самой большой в мире страны. Кто вёз? А кто ещё, кроме рабов, тут живёт?
«…В конце января 1931 года нашу семью вместе с несколькими другими отправили в верховья р. Бирюсы на заготовку леса, поселили в бараках. За работу не платили, кормили и выдавали рабочую одежду бесплатно. Выдавали паёк, столовой не было, никто из нас не имел права уволиться, сменить место работы, уехать, потому что мы были ссыльными, отбывали срок. Моему отцу, когда ещё на него заводили дело, сказали – ссылаетесь на десять лет, а значит вместе с семьей. При конторе леспромхоза был комендант, который наблюдал за нами. Бежавших искали, судили и давали пять лет лагерного срока. Вскоре моих родителей, сестёр, братишку перевели в пос. Юрты. Там они жили плохо, голодали. Братишке было в 1934 году шесть лет. Осенью этого года отцу на работе выдали рожь. Братишка нашел её в чулане и наелся. У него получилось вспучивание живота, а помочь никто не мог, и он умер. Через год умерла мама, отец заболел, совсем обессилел, работать, как раньше, не мог. Через некоторое время его увезли куда-то, в какой-то дом для престарелых, а моих сестрёнок – в Бирюсинский детдом…»
А. Наумов «Спецпереселенец». «Бирюсинская новь». Июль 1989 г
«В Тайшетском районе в 1933 г. существовало 13 трудовых посёлков: Караул, Пярендя. Новый путь, Неоисидный, Невельская, Квиток, Лавинка, Сафроновка, Суетиха, Саранчет, Пролетарка, Бирюсинский детдом, Квитковский инвалидный дом. Эти сведения взяты из сводки Тайшетской районной комендатуры ОГПУ о ходе уборочных работ по неуставным сельхозартелям спецпереселенцев на 1 сентября 1933 года».
Тайшет, горархив, Ф1, оп.3,в.х.7, стр. 58.
«…Спали на каких-то ветках. Спим, а нас снегом засыпает. Мама сделала веник и им нас обметала. Потом отец надрал коры и сделал что-то вроде шалаша. Корчевали лес, расчищали поля. Подкапывали деревья глубоко, рубили корни, а потом привязывали за вершину верёвку, и все вместе тянули, пока дерево не упадёт. Затем его распиливали, что могли, уносили с поля, а что нет – сжигали. Потом лопатами копали целину, садили капусту, косили сено. Потом меня забрали в Квиток. Работала на строительстве, копали землю под фундаменты. Уходить из посёлка запрещалось, за уход – в каталажку. Кормили нас в столовой два раза в день. Кормили плохо. Помню, один раз давали горох, а в нём белые черви. Но мы ели и это. Денег не выдавали, выдавали муки 7 кг, а стахановцам по 12 кг, иждивенцы получали по 2 кг. Отец стал совсем плох и умер в 1933 году. Потом меня перебросили в пос. Неожиданный – копать землю под капусту. Жили в избушках, спали на нарах, нас было человек 20. Условия были тяжёлые, особенно нас мучили клопы, которых было много – просто ужас! Мама моя находилась в Квитке, жила очень плохо, голодала, опухла от недоедания. Я просила отпустить меня к ней, но начальство не разрешало. Тогда я ночью бежала, до Квитка было 14 км. Меня в Квитке увидело начальство и вернуло назад. Работала на кирпичном заводе, резала кирпич. Норма – 800 штук. Глину месили ногами, от такой работы одежда всегда была мокрой, не успевала высохнуть. Затем работала на лесоповале, на расчистке полей… Позже мне удалось устроиться уборщицей в детдом. Платили 45 рублей. Летом вновь полевые работы. Старалась попасть на уборочные работы – там обещали по 200 гр. хлеба. Мы так голодали, что собирали в лесу съедобные травы – саранку, щавель, черемшу. От употребления травы в пищу болели часто. Муку спецпереселенцам выдавали в Тайшете и нам приходилось за ней ходить пешком. Подмешивали в муку опилки. Мама собирала очистки по помойкам. Местным жителям запрещалось с нами общаться, не говоря уже о том, чтобы жениться или выйти замуж…»
Воспоминания М. В. Мацкевич. Архив ИПО «Бирюса».
Осенние мухи вялые, умирают от перемены климата. Люди умирают от тифа, оспы, пеллагры, скарлатины, кори, то есть – от антисанитарии, голода, плохой и случайной пищи, вшивости, безволия, до которых доводят людей другие люди. Благоденствие одного, зачастую, – трагедия для другого.
Их много, распределителей материальных ресурсов, вечно карабкающихся на вершины пищевой иерархии. Конечно, они всегда хотят спрятать от посторонних глаз, скрыть всё, с чем трудно жить, что мешает им ощущать себя настоящими людьми, а потому они выдумывают себе какую-то другую жизнь, в которую коллективно играют много лет, обманывая друг друга и общество. Эти лицемеры и сегодня пытаются продолжать такое существование, но оно уже настолько устарело, что сгнили все нитки, скреплявшие ложь. Объедая других всю свою жалкую жизнь, эти товарищи страшились, что кто-то вывернет их ложь наизнанку. Но зачем и кому нужно гнилое нутро, тем более что оно всегда наружу? Лучше забыть о нём навсегда, само исчезнет.
«…Многие умирали. Особенно страдали старики и дети от надоедания, так как на детей и неработавших выдавали по 200 гр. хлеба или муки. Уход из посёлка был запрещен…»
Воспоминания В. К. Тринс. Архив НПО «Бирюса».
«Встретились, поплакали и пошли в посёлок или зону, не знаю даже как это назвать. Были длинные бараки, общие, без комнат, кроватей не было, только топчаны. У папы и мамы было два топчана, а у кого были семьи, они имели больше топчанов. Семьи отгораживались друг от друга половиками, кто чем мог, жильцов в бараке было около 40 человек, а то и больше. Одна печь-плита на всех, на ней готовили пищу Мама толкла сушенные гороховые плети и лебеду, другие собирали очистки с помоек надзирателей. А лепёшки пекли кто из чего мог, прямо на плите, без сковородок. Люди умирали каждый день, очень много было опухших от голода…»
Воспоминания К.М. Ермаковой, архив ИПО «Бирюса».
Подобных откровений много. Также мучались и умирали ссыльные бурят-монголы, но они не оставили мемуаров, есть только устные воспоминания, которые неумолимо отдаляются во мглу истории всё дальше и дальше, покрываясь толстым слоем красочного слоя с расцветкой о радостных переменах и сытой колхозной жизни. Покрытие становится непробиваемой каменной стеной, отделяющей современников от их предков.
Настоящие слова и настоящий смех людей могут быть только после правды, исповеди. Ведь настоящая история – это и есть исповедь. До этого момента любая песня – ложь. Пой, пой, современник: «Только валят лесорубы, там ангарскую сосну… Там, где речка, речка Бирюса, ломая лёд шумит – поёт на голоса… Там ждёт меня таёжная…»
Способны ли современники исповедоваться сами и понять исповедь ближних? Ведь настоящая жизнь и настоящее счастье возможны только после этого, очищающего душу, явления, после которого рождается настоящий Человек…
III
В амбарной темноте Балдан осторожно ощупал печь, обнаружил дымоход, потом старинным кованым гвоздём, пронесённом за пазухой дэгэла, начал аккуратно колупать в расщелине и раскачивать угловой кирпич.
– Ты что, ты что! Увидят, нас всех тут перестреляют, – зашептал в мутной мгле кто-то из арестованных.
– Нас так и так расстреляют, – беззлобно ответил Балдан, выворачивая кирпич и подавая его кому-то позади него. – Вы хотите умереть, как бараны? Им только бараны и нужны, но я не баран. Главное – не шуметь.
И всем стало понятно: расстреляют. Надежд не осталось, а правда была страшной. Кирпич приняли молча, тени зашевелились, работа закипела: печь медленно превращалась в бесформенную груду в углу амбара.
– Кажется, у дверей комсомола нет, – удовлетворённо прошептал один из земляков. – Тихо, даже собаки не лают, тоже бояться стали…
– Они нас закрыли и ушли. Придут за нами на рассвете, – тихо рассуждал Балдан, продолжая разбирать дымоход. – Но мы успеем уйти. Должны успеть.
Арестованные бесшумно брали из его рук кирпичи и передавали по цепочке. Работали молча и слаженно.
Наконец, в открытом проёме показалась густая звёздная ночь, дохнуло осенней прохладой. Дымоход печи был разобран, кирпичи свалены в углу. Стали видны измазанные сажей лица и возбуждённые глаза людей.
– Амбар низкий, спускаемся с крыши и уходим на север, к соснам, там табун, конюшня. К своим ни в коем случае нельзя заходить, – прошептал довольный Балдан и, с полуразобранной печи, весь в саже, не снимая бурятского тэрлика, полез в образовавшийся проём на крыше, откуда посыпалась сухая труха.
Когда наступил рассвет беглецы скакали уже за дальней сопкой, навстречу алому, восходящему солнцу. Осенний холод бил в лица, блестело русло речки Борзя, синели контуры Адун Чулууна. Скрыться в степи, уйти в Баргу. Навсегда покинуть злых людей. Сейчас главное – остаться живыми, за семьями можно вернуться…
Но Байдун Балдан не вернулся обратно. Где-то в степях и на склонах сопок Маньчжурии живут его потомки, родственники жителей Новой Зари и Борзи..
Буряты почти не оставили литературных и документальных свидетельств о том, как они пережили коллективизацию и тюрьмы в годы репрессий. Песня о том, как в XIX веке «Ланцов с тюрьмы бежать собрался, Ланцов верёвочку вязал», а потом начал проворно ломать печь, известна многим людям, но мало кто знает о том, как осенью 1930 года, выломав печь, бежал из-под ареста, может быть, перед расстрелом Байдун Балдан из сомона Шэнэ Толон, то есть Новой Зари, второй муж женщины по имени Чимид. Кем же она была?
Мне известны лишь некоторые моменты её биографии, как известна, если уместно такое выражение, часть доколхозной истории монголо-бурят, о которой сегодня не знают современники. В годы неразумной молодости немногое из этой истории я успел услышать и сохранить.
Жил в степи, на большом пространстве, что между горой Буха на окраине современной Борзи и Торейскими озёрами, долиной реки Борзя и селом Новая Заря, имеющей историю только советского периода, человек по имени Баяндын Яман. Вообще, словосочетание «жил в степи» – большое и живописное пространство. Имя жены Баяндын Ямана неизвестно. Может быть, оно на слуху кого-нибудь из жителей степи, или имеется в родословных записях? Из одной такой записи следует, что у Баяндын Ямана и его жены родились четыре дочери: Бальжима, Сэжэ, Чимид и ещё одна Чимид, отданная в дочери Юмэй Дугару, семья которого обитала на берегах Онона, где-то около современного села Первый Чиндант.
После этого абзаца некоторые жители степи могут насторожиться и более внимательнее всмотреться в строки моего повествования: там возможны имена их родственников, а некоторые сведения, на взгляд читателей, могут оказаться недостоверными. Значит, надо поправить. Ведь в памяти каждого человека есть предание о его родословной. Иначе какой же это человек?
Старшая дочь Баяндын Ямана Бальжима стала женой Увашын Цырена, вторая – Сэжэ, муж которой неизвестен, родила одного сына – Содбо-Жамсо, а также троих дочерей – Дулму, Ирыгму и Должин. Впоследствии Содбо-Жамсо жил в Монголии, умер молодым. Младшую Должин отдали в семью Увашын Цырена, то есть она стала дочерью своей тёти Бальжимы. Третья дочь Баяндын Ямана – Чимид, о которой идёт речь в этом рассказе, в первый раз вышла замуж за бурят-монгола по имени Антон, родила от него дочерей Мажиг и Хорло. Но потом разошлась с ним.
Антон с дочерью Мажиг перекочевал в Монголию, а Чимид и Хорло остались в сомоне Новая Заря, которую органы госбезопасности создали в июне 1925 года в целях задержки миграции монголоязычного населения в Баргу (Китай) и Монголию. Для чего объявили территорию нового сельского Совета безналоговой зоной не то на два, не то на три года. Естественно, жить в таком благословенном регионе пожелали многие жители Агинского аймака Бурят-Монгольской Автономной Советской Социалистической Республики, то есть БМАССР, границы которой доходили до левого берега реки Онон. Но люди говорили, что жизнь в республике становилась всё хуже и хуже, вопреки газетным материалам, как того времени, так и нашей современности.
Сельский Совет «Новая Заря» был создан на территории Борзинского района специально, для жителей степи, ведущих кочевой образ жизни. В него, по утверждению краеведов, были включены 10 улусов, 7 стойбищ, 32 отдельно стоящие юрты и одно зимовье, где, скорее всего, обитала русская семья. Ещё раз отмечу, что территория никогда не входила в бурят-монгольские национальные образования России, где шли очень суровые гонения на частную собственность и религию. Есть много свидетельств о желании переселиться в Новую Зарю лам и жителей БМАССР, которым жизнь в этом сомоне представлялась благодатью.
В статье Википедии о селе Новая Заря Забайкальского края – ошибка, село основано не в 1929, а в 1925 году, но колхоз, названный именем К. Е. Ворошилова – в 1929 году. История людей и степи совсем другая, имеет иные даты и судьбы, наполненность и насыщенность которых совершенно отличаются от официально узаконенных и закреплённых дат и периодов.
Сдаётся мне, что в первые годы создания столь большого сомона здесь была маленькая своеобразная республика бурят-монголов, свободная экономическая зона, о которой слагали стихи и песни. Сегодня их можно услышать в сомонах Монголии, что недалеко от Новой Зари. При этом слово «Ворошилов» употребляется с маленькой буквы, люди, надо полагать, не знали о первом красном офицере, для них он был названием колхоза, неким живым символом новой жизни.
Тухэриэн Тарийн хойхонуур
Тумурын татаад шаазагнаа
Тувэй намай удардалгаар
Туруулоо колкозоёо ворошилов
Утахан Тарийн хойхонуур
Утаһын татаад шаазагнаа
Улсай намай урилгаар
Удадаа колкозоёо ворошилов
В общем, здесь, между рекой Онон и российско-монгольской границей, бурлила жизнь естественного, смешанного и непрерывно меняющего свой состав сообщества людей монгольского мира.
Рассказ, который я пишу, как и многие остальные рассказы, связанные темой истории бурят-монголов, живёт в моей памяти, вопреки имеющемуся информационному пространству, сильнейшим дурманом которого окурено всё современное общество. Следовательно, надо выходить за географические рамки этого пространства.
В Новой Заре Чимид вышла замуж за свободолюбивого и самостоятельного Байдун Балдана, родила дочерей Һамудай, Бутид, позже – Сэвэдэй. Известно о пятерых дочерях Чимид, старшая из них – Мажиг жила с отцом в Монголии, остальные четверо – в России.
В те времена почти каждая бурятская женщина была искусной мастерицей по шитью, но красавица Чимид превосходила многих не только в шитье, но и в практичности, бережливости, умении поддерживать чистоту и порядок в хозяйстве и семье. Следовательно, она была умной и физически крепкой бурят-монголкой.
Обстановка в безналоговой и белогвардейской зоне, где в гражданскую войну властвовали барон Унгерн с атаманом Семёновым, была беспокойной. Бодхуулы (перебежчики) не очень-то зарились на слова о безналоговой зоне и продолжали уходить в Баргу и Монголию. И не зря, обман, как и положено ему, действительно оказался обманом, ловушкой для простаков. На эту тему можно вообще не рассуждать.
В конце 1920-х и начале 1930-х началась коллективизация и вместе с ней – аресты людей. Конвоиры и подводы с арестованными потянулись на железнодорожную станцию Бырка и в ОГПУ (потом НКВД) Борзи.
Осенью 1929 года арестовали Байдун Балдана, а с ним ещё несколько человек. Их заперли в крепкий амбар из толстенных брёвен, который вывезли из зажиточного казачьего посёлка Кулусутай. Впрочем, все первые строения Новой Зари оттуда. Амбар этот стоял до 1970-х годов, памятен многим жителям села, в том числе и мне. Из него, разобрав дымоход печи, и бежал в Китай с товарищами Байдун Балдан. Скорее всего, их обвиняли по статьям 58-2 или 58-7 УК РСФСР того времени, означающие, если убрать многословные определения: противодействие советской власти или контрреволюционная троцкисткая деятельность – КТРД. Семьи таких «контрреволюционеров и троцкистов» подлежали высылке.
В один из дней 1931 года конвоиры посадили на телегу и Чимид с четырьмя дочерями: Хорло, Һамудай, Бутид и Сэвэдэй, которая только родилась. Так они стали спецпоселенцами Тайшетского ада, граничившего с другими лагерями и спецпоселениями, в которых мучились сотни и тысячи других бурят-монголов и людей разных национальностей.
Караваны телег, грузовых автомашин и железнодорожных вагонов, набитые людьми, двигались со всех сторон СССР в лагеря и спецпоселения, откуда поступали – деловой лес, золото, редкие металлы и остальное сырьё для строительства социализма и счастливого будущего отдельных советских семей. Чем не древний Египет, Дахау или Бухенвальд? Печей нет?
IV
Наивное чувство справедливости в нечеловеческих условиях, как и ожидание здравого рассудка и логики от начальника, откуда и следует собственное мнение, неискоренимо в любом человеке. Но и такое чудо иногда сбывается. Ведь ответное чувство, хоть и редко, возможно только от существа своего вида.
В середине июля 1932 года, когда от мехового одеяла остался только клочок на две пары рукавиц, неожиданно на спецпоселение обрушилась комиссия. Медики в белых халатах решительно ходили по баракам, подростков не выпускали на работу. Проверяли всех больных, выписывали диагнозы, направления.
Осмотрев и выслушав стетоскопом Чимид, высокий доктор в очках, удивлённо покачал головой и вынес вердикт, обращаясь к стоявшим рядом людям в белых халатах: для работы категорически непригодна, отправить обратно по месту жительства и, многозначительно взглянув на второго доктора, невысокого человека интеллигентного вида, добавил какую-то длинную фразу на непонятном языке и недоумённо развёл руками.
Чимид поняла, что её отправляют домой, она забеспокоилась, привстала на нарах и печально обвела взглядом, собравшихся у топчана худых и измождённых от адовой жизни дочерей. Хорло держала на руках Сэвэдэй. Доктор в очках взглянул мельком на детей, задержал взгляд на заголосившей от испуга Сэвэдэй, и быстро, извиняющимся тоном, проговорил:
– Да, да. Конечно. Всех отправить обратно. Как можно быстрее. – И, обращаясь, к сопровождавшему комиссию госслужащему добавил, – Не забудьте выписать им справку об освобождении… Хотя, какое уж тут освобождение… Формальность так сказать…
После ухода комиссии начались хлопоты. Появились какие-то начальники, за ними – санитары. Уточняли поезд, станцию прибытия. Оказалось, что билет надо покупать самим спецпоселенцам. Привезли бесплатно, уезжать надо на свои деньги.
Чимид и до этого всё время наставляла Хорло и Һамудай, говоря о возможных обстоятельствах, которые могут случиться в их судьбе, а теперь уточняла, вспоминала знакомых, родственников. Продавая рукавицы, она будто заранее знала о возвращении в родные края. Оказалось, что Чимид зашивала смятые купюры в подол своего старого тэрлика, который всегда подкладывала под голову. Теперь несколько купюр она отдала Хорло, которая отправилась на вокзал со знакомой русской девушкой. Взяли билет до станции Оловянная, как и велела Чимид.
На станцию, где никогда не могло пахнуть человеческим теплом и едой, семью привезли на грузовой машине. Два санитара занесли на носилках сухонькое тело Чимид в жёсткий вагон и уложили возле окна. Женщина ещё могла только приподнять полтуловища, в этом случае ей помогали дочери. На этот раз Һамудай несла Сэвэдэй, Хорло и Бутид – домашний скарб, завязанный узлом в солдатском одеяле, ещё одно одеяло и старый медный чайник, начавший и продолжающий путь со своими невезучими хозяевами из Новой Зари.
У всех было приподнятое и возбуждённое настроение. Домой! Даже Сэвэдэй насторожилась и внимательными глазами посматривала на мать и сестёр.
До Оловянной поезд полз трое суток. За это время насмотрелись в окно вагона: на тайгу, Байкал, станции, познакомились с попутчиками. Были среди них и буряты. На рассвете они помогли семье выйти на перрон, где остро пахло мазутом и дымом, уложили Чимид на скамейку под тополями. И она осталась в окружении дочерей со скудным скарбом недалеко от вокзала.
Теперь надо было добираться до Онона, дальше переправиться через реку, дойти до села Первый Чиндант, а оттуда уже – в Новую Зарю. Больше шестидесяти километров. Как и на чём их пройти? Может быть, надо было ехать до Борзи? Чимид думала и корила себя за оплошность. Невезучие они люди, всю жизнь невезучие. Неужели такими будут и дочери? Почему она и её сёстры не могли родить парней? Что за судьба у дочерей Баяндын Ямана!
Перед глазами зеленели сопки, а за ними должны быть привольная степь, озёра, реки. Дочери здесь не пропадут. Она смотрела в рассветное небо. Далеко на востоке заалело солнце. Неожиданно прибежала Хорло, отправленная купить какую-нибудь еду у женщин, собиравшихся торговать на перроне снедью, за ней шла Һамудай с полным чайником воды.
Сёстры поделили на всех картофелины, напоили мать водой, кое-как уложили её на одеяло и потащились по по обочине дороги в сторону степи. Неожиданно их нагнала телега, за вожжами сидел русский старик. Он остановился, засуетился. Причитая, он посадил всех на телегу и вывез далеко за станцию, на дорогу, ведущую к Онону. Дальше ему было не по пути.
Оставшись в степи, девочки снова уложили мать на одеяло и, взявшись за его концы, потащились дальше. Через какое-то время их настиг грузовой «Форд». И снова добрый человек, причитая и бормоча проклятия в чей-то адрес, погрузил всех в кузов, и машина резво запылила по дороге. Ехали довольно долго, но шофёру надо было сворачивать на другую сторону. Машина остановилась. И снова сёстры положили худенькую мать на одеяло, снова взялись за концы и потащились по степи в сторону Онона. Казалось, река совсем близко.
В одном месте девочки развязали узел и принялись обедать несколькими картофелинами и сухими лепёшками, которые берегли ещё с Тайшета. Һамудай убаюкивала проснувшуюся Сэвэдэй. Мать продолжала наставлять Хорло, показывая рукой в сторону Онона, далеко, из-за миража проступал лес. Чимид перечисляла родственников, имена их были написаны на старой тетрадной бумаге. Хорло внимательно слушала. Мать отпила из чайника и продолжала говорить тусклым голосом, отдавая следующую бумагу Хорло:
– Спрячь, в сельсовете покажешь. Это справка об освобождении. Теперь мы имеем право жить дома.
Они побрели дальше, даже не зная, как переправятся через реку. Матери становилось всё хуже и хуже. Бутидка несла неумолкающую от плача Сэвэдэй. Казалось, что раскалённое солнце начинает белеть на всё небо, в центре которого – огненный сверлящий сгусток. Сёстры исходили горячим потом, но скоро иссяк и он. Потом стало казаться, что так они идут или шли всю жизнь. Конца дороге не было. Солнце и степь, солнце и степь.
В общем онемении возник какой-то звук. Девочки остановились. Говорила мать. Дочери наклонились над ней. Иссохшая и маленькая мать что-то шептала, и они поняли: просит оставить её здесь, в степи, а самим идти дальше. Иногда она смотрела на своих детей осмысленно и строго, пытаясь убедить их оставить её. Так было несколько раз. Но, упрямо посмотрев на неё, Хорло и Һамудай брались за одеяло. Клонясь, они тянули по траве дорогой груз вперёд, обессилев, разворачивались, брались за концы одеяла и двигались задом наперёд, мучительно, изо всех сил, преодолевая каждый шаг этого страшного пути.
Не дети с картины Василия Перова «Тройка», тянущие на Рождественском бульваре Москвы санки с обледеневшей бочкой (за ней – четвёртая фигура), а четыре бурятские девочки, мал мала меньше, упрямо клонясь вперёд, тащили по испепелённой смертельным зноем степи больную мать на грубом одеяле, оставляя в траве смятую неровную полосу. Четырнадцатилетняя Хорло и десятилетняя Һамудай из всех сил тянули одеяло с умирающей матерью, а семилетняя Бутидка, спотыкаясь, несла на руках маленькую Сэвэдэй. Мать хрипло дышала, по уголкам её губ пузырилась и стекала кровавая пена, она всё порывалась что-то сказать своим детям. Но девочки шли. Разве поверит ребёнок, что мать может умереть?
Чимид уже не шевелилась. А дочери её, не оглядывались и продолжали идти.
Кто напишет такую картину! Кто? Мне даже думать об этом больно…
Сёстры остановились отдохнуть, дальше виднелись овраги, заросшие тёмными кустарниками. Хорло приподняла мать и поднесла к её губам чайник. Һамудай взяла на руки Сэвэдэй. Освободившись, Бутидка сбежала в ближайший овраг. Песок под ногами был горячий. В кустарниках пахло сумраком и прохладой, здесь можно играть и веселиться, но надо идти. Всё время надо идти и искать еду.
Взбежав наверх, Бутидка почувствовала что-то неладное. Чайник лежал на боку, вода из него вытекала. Мать не могла пить, она умерла. Девочки сначала даже не поняли. Сэвэдэй, которую баюкала Һамудай, громко плакала, а сама Һамудай будто оцепенела. Онемевшая Бутидка внезапно закричала, заплакала и побежала по горячей, хрустящей, траве к матери, голова которой повисла на руках старшей дочери.
Горячее солнце померкло в глазах четырёх сестёр.
Бутидка не помнит сколько прошло времени. Солнце в слепнувших от слёз глазах было уже не белым, а чёрным. Грянула тишина. Оглушило безвременье. Сэвэдэй не плакала. Не возраст чувствует и не ум, чувствует весь организм. Даже младенцу, наверное, страшно внезапно осознать, что всё в этом мире бессмысленно, и твоя жизнь в этой бессмысленности особенно бессмысленна, ибо ты чувствуешь и ощущаешь эту смертельную бессмысленность. Счастлив тот, кто не знает о ней.
Сёстры, опустошённые и онемевшие, долго, очень долго, сидела в степи под огромным, бездонным небом, окружив тело мёртвой матери. Они смотрели на её матово-бледное, бескровное, лицо, ставшее снова красивым, как при былой жизни, всего два-три года тому назад.
Вдали, наваждением в туманном мареве, показалась телега. Прошло немного времени, и телега остановилась возле сестёр. Молодой и крепкий мужчина в старом тэрлике подошёл к девочкам. Внезапно в глазах человека ожили печаль и боль. Он всё понял! Сел рядом с девочками, потом заговорил с Хорло и Һамудай, прочитал бумаги, которые протянула ему Хорло. Растерявшийся и оцепеневший мужчина очень быстро преобразился, стал сильным и деятельным: распряг коня и, оставив телегу, поскакал в степь, вернулся очень быстро, с полной торбой еды, лопатой, ведя на поводу второго коня под казачьим седлом.
Имя этого человека осталось неизвестным. Сначала он накормил девочек, нарушил тягостную тишину разговорами. Потом мужчина выкопал могилу в податливой и песчаной степи. Бережно завернул в одеяло и уложил в могилу тело Чимид. Хорло с Һамудай помогали своему спасителю. Бутидка с замолчавшей Сэвэдэй поели и сидели, сытые, в тени телеги и коней.
Место стало оживлённым, и девочкам было уже не очень страшно. Пустота появившаяся в душе не облегчала, а тяготила и наполняла непреходящей тоской.
Вечерело. В степи появился свежий песчаный холмик. Мужчина разбрызгал на четыре стороны привезённое молоко и сушёный творог, потом обошёл три раза вокруг холмика, велел девочкам молиться и шептать «Ом мани бадме хум».
После этого он снова запряг коня в телегу, посадил девочек, особенно и бережно баюкая, – заревевшую Сэвэдэй. Поехали в сторону Онона, напротив которого виднелись пологий берег и дома села Первый Чиндант.
Мужчина переправил сестёр через реку вплавь, на осёдланном коне, по одной, а маленькую Сэвэдэй перевёз сам. Это был сильный и добрый волшебник, сердце которого беззвучно плакало так, как плачет сердце настоящего мужчины, который в ответе за всё на земле.
После переправы, убедившись, что у девочек в Первом Чинданте есть родственники, он вернулся обратно. Сёстры, мал мала меньше, в лохмотья одежды, босые, долго смотрели в его сторону до тех пор, пока он не вышел на берег и не скрылся с конями в миражах кункурской степи. Кто он, как звали? Он был своим человеком.
Чимид навсегда осталась на той стороне Онона.
Четыре сестры пришли к своим родственникам, но не прожив у них и суток, отправились, отдохнув, дальше, через лес. Сегодня сказали бы: время было трудное и голодное. Родная степь и Новая Заря недалеко от Онона, всего-то двадцать с лишним километров, и они ушли туда.
Каждая из четырёх сестёр, до конца жизни, прожила среди своих земляков. В первое время ходили по людям, жили в разных семьях. О Тайшете не говорили. Может быть, между собой, во время редких встреч?
Все сёстры жили в Новой Заре, работали в колхозе. Есть такое выражение – на разных работах. Если рассказывать о них подробно, то никаких романов не хватит. А потому завершу кратко.
1. Хорло в годы войны трудилась трактористкой, вышла замуж за Цыбенова Дамдинцырена. В замужестве, уже в 1947 году, удочерила дочь своей сестры Бутид, в 1958 году усыновила ещё и мальчика. Постарев, поведала им о своей жизни.
2. Һамудай несколько лет жила в няньках в семье Цыдыпа Шангарапова, которые удочерили Сэвэдэй. С ней и продолжала нянчиться Һамудай, потом вышла замуж, усыновила мальчика и удочерила девочку, вырастила их.
3. Бутид, через год, после возвращения из ссылки, удочерила семья Боросон Гармы, она стала Гармаевой Бутид. Первый её муж умер. Вторично вышла замуж за Жамбалова Бадму, родила десятерых детей. В 1969 году умер и второй муж. Бутид всю жизнь чабанила. И только один раз она рассказала о Тайшете.
4. Сэвэдэй выросла, вышла замуж за Саганова Дондока, родила и вырастила вместе с ним десятерых детей. Много лет счастливо прожила в степи.
Четыре сестры, как и многие другие их земляки, всю жизнь работали в колхозе. На разных работах. Старшие не рожали. На то есть особые причины. Рожали младшие – по десять детей каждая. Не по одному, не по два, как многие женщины нашей страны. По десять. Вырастили и воспитали всех. Как могли и умели.
V
С юных лет я слушал разные истории судеб своих земляков, сородичей, народа… И наивно полагаю, что слишком велика была воля к жизни наших наивных предков, слишком ужасен был за их спинами ад, в котором они жили и не осознавали своего места в этом аду, слишком чисты были их души, перемалываемые когтями и зубами страшного зверя – системы безродных и бесчеловечных «строителей счастливой жизни» для остальных.
Наивные люди – мощнее сильных. Наивные люди просто жили и любили жизнь во всех её проявлениях, что было недоступным и остаётся таковым для манкуртов, ибо им не дано превратиться в человека. Не бойтесь их, но исключите с ними любую связь.
P.S. Потомки Мажиг, старшей дочери Антона и Чимид, известны, они живут в посёлке Эрэнцаав сомона Чулуунхороот Монголии, отделённые колючей проволокой государственной границы от своих родственников Шэнэ Толона или Новой Зари. По обе стороны границы уже совсем другой менталитет и язык.
Рассказ, услышанный от Бутид Гармаевой в середине 1980-х годов, преследует меня всю жизнь. Позднее повествование обогатилось многими подробностями, нюансами и деталями, обрёло конкретные места, время, образы. Мы, родившиеся и выросшие в более или менее благополучное время, до их пор ничего не ведаем о своих предках, земляках, сородичах. Кто мы тогда?
Монголы мира обязаны знать о бурят-монгольских детях, которые в оборванных тэрликах, рылись в поисках еды на помойках Тайшета, Зимы, других российских городов и посёлков 1930-х годов, хоронили в тайге и степи своих родителей, став взрослыми, выживали в колхозах и совхозах. Не забудем о них. Ведь тени лагерей и спецпоселений Тайшета, Зимы, других городов и посёлков таёжной, промозглой России шли, настигая всюду, не только за ними, но и за их потомками всегда. Эти тени и сейчас с моими земляками и сородичами, они – в их редких радостях, но больше – в ошибках и бедах.
Может быть, после этого рассказа отстанут?
Ноябрь 2023 года
Сапоги в пустыне
I
Нужны художественное воображение и опыт проживания в пустыне для того, чтобы представить овец, пасущихся в безводных просторах Южной Гоби, опалённых белым сгустком солнца, источающим дрожащий жар, возбуждая призрачные и голубеющие миражи на горизонте. Чьи там тени и куда идут? Не то верблюды, не то всадники, может быть, – целый караван. Шёлковый путь? Кстати, что овцы едят в пустыне? Не знаю.
Знаю, что местные люди носят сапоги. Яловые или хромовые, купленные у советских солдат. Почему-то именно в знойной пустыне, в 1973-1975 годах, нам выдавали крепкие яловые сапоги и полушерстяную форму. Для здоровья, в жару? Возможно. Думаю, что эту военную тайну, как и многие загадки «совка», никто и никогда не разгадает. Воображения не хватит.











