Читать онлайн Солдатское счастье
- Автор: Пётр Карякин
- Жанр: Советская литература, Классическая проза, Книги о войне
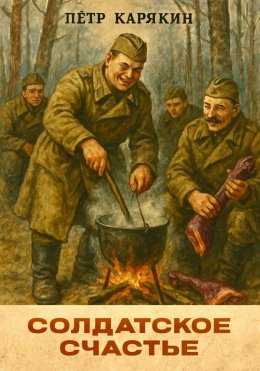
Как ни странно, старые кости быстро зажили. Омельянов думал, что пролежит в госпитале до осени, ну хотя бы до лета, а тут – на тебе. Только сошёл последний снег – рука заработала. Не зря, видно, говорил его командир Локотков, что «коновалы» по нему соскучились. Врачи и впрямь так упорно лечили его, что быстро выписали. Он видел на рентгеновском снимке, что пуля задела снизу только одну кость. Вот она, кость-то эта, и захрящевалась. Прямо как у молодого.
– Ну, старый хрен, – сказал он себе, – ты ишшо можешь. Знать, положено «фрицу» ишшо не одну мину от тебя сглотить.
Однако он попал в пехоту. В самую кровную «царицу полей». Его бывшая рота 82-миллиметровых миномётов, «заплечная артиллерия», тоже топала на неизменных своих двоих. Только на дальних переходах миномёты везли на повозках, а в бою, на бросках, их, как малых младенцев, на себе носили.
И всё-таки они были артиллеристами! Теперь же он стал обыкновенным стрелком. В миномётчиках он носил короткий артиллерийский карабин, такой ловкий и аккуратный. Тут ему дали пехотную тяжёлую и долгую винтовку, да ещё со штыком. Этим штыком он всё время задевал за ветви, за сучья, если шли по лесу, а низкий приклад путался в полах шинели и бил его по тощим ногам. Но самым скверным в пехоте было то, что, если вовремя не подъедет ротная кухня, а она в наступлении редко вовремя подходила, есть приходилось всухомятку. А от сухомятки его старый, наджабленный желудок бунтовал. После ранения, от потери крови, ему требовалась усиленная еда, и в животе у него постоянно что-то урчало.
В этот раз все батальоны полка прошли вперёд, а их оставили в лесу, вроде резерва. Солдаты расположились кто где. Нарубили немецкими штыками еловых веток, устроились под самыми разлапистыми деревьями. Кто залез в овражек, и если были плащ-палатки, натянули их от крутого овражного скоса на колышки, отдыхали, дымили махрой. Но только у самых экономных ещё остались сухари из НЗ. А что делать было остальным? Только на привале в лесу или где-либо в овраге удавалось развести костерок и погреться кипятком, да и то днём, когда не видно огня, а то фрицевские самолёты быстро засекут. Весна была на исходе, а дни стояли слякотные, с ветрами и частыми дождиками. Особенно студёно было ночью.
За Омельяновым всегда водился грех: любил он поесть. Может, поэтому ещё до войны и передолил желудок. Но теперь уже нечего было об этом думать. Сейчас он был просто голоден. Он знал, что армия их заведена в так называемую «бутылку». Подход к плацдарму узкий. И не всегда был виноват их старшина или ротный повар – просто подвозу не было.
Так или эдак, а есть-то хотелось, и надо было что-то придумать. Омельянову повезло: он попал к хорошему отделённому, старшему сержанту Воронцову, тоже не молодому, а главное – земляку. Их деревни были в пятнадцати километрах одна от другой. Они никогда не дружили, но знакомы были с молодости. Надеясь получить полную поддержку отделённого, он сказал:
– Воронцов, разреши, я к артиллеристам смотаюсь. Они тут, за нами. Может, жратвишкой какой разживусь. Наши-то кормодавы седни нас определённо не найдут. Вишь, ночь какая…
А ночь тёмная и впрямь выпала. Небо – чернота сплошная, и редко-редко где меж высоких верхушек деревьев, ещё гораздо выше их, мигали крохотные звёздочки.
– Иди, – кивнул отделённый. – На всех добывай. И, усекаешь, одна нога там, другая тут, а то, может, пихнут нас на передок. Где искать станешь?
Чтобы не цепляться за ветви штыком, Омельянов снял его и напялил на ствол вниз жалом, как и полагалось по уставу в походе.
Батарею эту он приметил, когда шли из лесу. Артиллеристы только подъехали и разгружались, начинали окапываться в низкорослом густом кустарнике. Пушки новые, на гусеничном ходу. Стволы у них не длинные, не больше трёх метров, но толстые, как брёвна. Наверное, 152-калибровые, а может, и больше. Таскали эти орудия тягачи, но не простые тракторы, а с какой-то сдвоенной кабиной, и сзади этих кабин – кузовки. Небольшие, а на лавочках весь расчёт сидит. Позавидовал Омельянов артиллеристам: «Жисть! Уж если в миномётчиках было не так плохо, то тут-то вообще малина. Блиндажи у таких батарей – три наката. Для отпугивания самолётов – отделение пэтээровцев с длинными, как оглобля, ружьями. А ПТР этот если влупит самолёту хоть один раз, то и амба. Самолётик отлетался. Пуля-то у этого ружья, как палец, да ещё термитная, огонь даёт».
«Вот есть же ведь такие счастливые люди, – думал Омельянов, пробираясь в ночи. – В артиллерию, в тяжёлую попадают. Стоят себе за восемь, за десять, а то и больше вёрст от передка, и в ус не дуют. Тут же, как ни крутись, а дальше линии огня никуда тебя не суют.
Лётчикам тоже жизнь, – немного погодя подумал он. – Но это уже не по его годам, не по его учёности, да и падать высоко, если зацепят. На земле на этот случай надёжнее. Сподручно. Под носом земля, вот и страху нет. Сбили если, но жив ещё – вжимайся в землю. Она укроет и защиту даст.
У артиллеристов всё это есть. И расстояние от фрицев приличное, и земля под ногами. И регулярная кормёжка из собственной батарейной кухни (Омельянов слышал, будто Наполеон утверждал, что солдат воюет желудком). Может, и так, – думал Омельянов. – Сытому воевать, конечно, легче, силы больше, – соглашался он с Наполеоном, но тут же и возражал: – Наполеон ведь говорил не о русских, а о своих французах. Русский солдат и голодный воюет. На фронт не обедать идут, а чтоб противника уничтожить.
А насчёт еды солдату… надо и самому при случае беспокоиться. Может, кухню разбило или на мине подорвалась? Вот если пойдём в наступление, а это по всему чувствуется в последние дни – вот и эти новые пушки не зря прикатили, и пополнение пехоте идёт, – тогда хорошо бы на каждый взвод человек пять-шесть дохлых фрицев.
Фрицы обжоры. У них у каждого в рюкзаке и масло в оранжевых баночках, в таких плоских, и консервы бывают, и галеты. Фриц, если дня три не поест, никуда не годится. Наступать уже не может».
После боя как-то попался Омельянову унтер убитый. Он вытряхнул его рюкзак – так чего там не было. Даже яблоки и оранжевые такие фрукты, апельсины, как узнал он потом. Весна, а у него, у сволочи, яблоки и апельсины. Откуда?
– А чё удивляться, – сказал он сам себе, – всю Европу захватил ведь, гад ползучий. Вот с юга и гонит добро. Разные там страны есть, Италия и другие, где всё это произрастает. Но вообще-то зачем фриц апельсины таскал? Баловство. Силос один. Уж лучше бы картошку или огурчики малосольные.
Так, размышляя, и вышел Омельянов незаметно к батарее. Остановился, огляделся и пошёл прямо на пушки. Тут же, как на острие штыка, он напоролся на окрик:
– Стой!
– Стою, хоть дой, – ответил Омельянов и стал, как вкопанный.
– Кто такой? – часовой выступил из-за куста, держа карабин наперевес, направив его прямо в середину Омельянова.
«Под дых навёл, молодец», – отметил про себя Омельянов и добавил быстро: – Я из пехоты, что перед вами. Мне бы к повару, к вашему, и слукавил, – землячок он мой.











