Читать онлайн Неформат
- Автор: Николай Сметанин
- Жанр: Биографии и мемуары
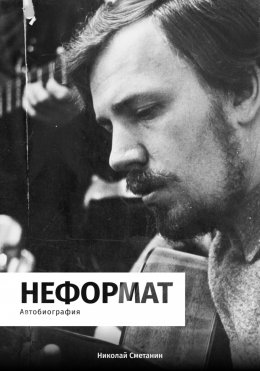
«Счастливая случайность – просто псевдоним Бога»
Альберт Эйнштейн
Глава 1.
Мне всё дороже, всё родней…
Вспоминаешь раннее детство, и жизнь представляется долгой дорогой: идёшь по ней день за днем, но вдруг запнулся, упал, например, – вот уже и событие случилось. Жизнь ведь из мелочей состоит. Бывают какие-то и крупные события – как большие и тяжёлые камни… А то вдруг что-то очень счастливое случится и, наоборот, как солнышко путь осветит. А так, в основном, дорога выстлана мелкими камушками, и ты их забываешь. У меня раннее детство не складывается в какую-то цельную картину, оно состоит из эпизодов – такая мозаика, фрагменты. Я даже не помню, какие из них были раньше, а какие – позже. Просто что-то всплывает – это я помню, а дальше провал. Происходило тогда, видимо, что-то совсем обыденное.
Люди начинают помнить и осознавать себя в разные моменты жизни – кто-то с трёх лет, а кто-то с двух, с четырёх, с пяти. Моё самое первое воспоминание относится к 1953-у, когда мне было три года. Помню, как мы с бабушкой возвращались из детского садика на Сортировке, а жили мы в Пустошь-Боре. Тогда был такой маршрут: Сортировка – Пустошь-Бор. Автобусы эти, кроме номеров, имели наверху три разноцветных фонарика, и по набору цветов каждый знал, какой это номер маршрута. Я помню, наши фонарики светили жёлтым, синим и красным. Как вижу, что едет автобус, а наверху у него жёлто-сине-красные фонарики – это наш. И мы с бабушкой готовились к посадке. Мать мне потом сказала, это могло быть только в 53-м году, потому что потом такие автобусы ходили уже без огоньков, с одними номерами. Я даже немножко помню этот мой первый детский садик, куда меня водили в малышовую группу. И самое яркое – эти автобусные огоньки…
Баба Юля часто носила меня на закорках. Сама она была маленького роста, но на закорках меня носила совершенно без проблем. Я был «крайне мал», как говорил Остап Бендер. На остановке бабушка меня, конечно, ссаживала, когда мы поднимались в автобус или выходили из него, а потом опять брала меня на закорки.
Так же – на бабушкиной спине – я ездил и в Посадскую баню, там тётенька торговала газированной водой, с сиропом и без. Мыли меня в женском отделении. Помню, как бабушка несёт меня по улице Жиделёва, я смотрю на прохожих сверху, это так необычно… сюда сворачиваем, там – баня и большая очередь. А уж что там внутри было… Баня она и есть баня. Мне тогда была интересна только сама помывка – слишком горячо или не горячо, вот и всё, что меня заботило. А главное – чтобы поскорее в душ попасть, вот это уж удовольствие! Не говорю уж о газировке с сиропом.
Позже меня перевели в другой детский сад, на улице Калинина, поближе к тому месту, где работала моя мать. Там я был на круглых сутках – меня брали домой со второй половины дня субботы и на воскресенье. А утром в понедельник отводили опять на круглые сутки, потому что у матери нас было двое, а она одна, работавшая всю жизнь в три смены.
В этот детский садик мы часто ходили пешком. У меня же родители из деревни, для них пройти несколько километров в школу и потом из школы – это ничего не стоит, поэтому ходили пешком много и запросто. Мать привыкла с детства и даже любила пойти пешком – и деньги экономятся, их же немного, и автобуса вечно не дождёшься… О пользе ходьбы – тогда ещё такой агитации не было, только «Закаляйся, как сталь…», такого рода песенки, а трусцой никто ещё не бегал, не помню такого. Вместо физкультурников на улицах гораздо чаще можно было увидеть мужчин-калек – война-то недавно закончилась…
В этом детском саду у нас была молодая воспитательница, которая мне очень нравилась. Я хорошо помню, высматривал – тайком, конечно, – как она идёт. Это была моя первая, бессознательная влюбленность, хотя воспитательница была взрослой девушкой, не меньше 20 лет, я думаю. Она как-то особенно элегантно одевалась, примерно в таком стиле, как Мэри Поппинс в одноименном советском фильме. У неё было серое платье, не чёрное, а именно серое, тоже с белым воротничком. Потом, когда я увидел фильм о Мэри Поппинс, – прямо Вера Ивановна! С Верами мне везло, первая моя учительница была тоже Вера.
Я, как и многие дети, учился читать по вывескам, когда мы с матерью шли пешком по городу. Как Шариков читал: «АБЫР»… Остановимся, и мама спросит:
– Коль, смотри, что там написано? Какие буковки ты видишь?
– Иг-руш-ки… игрушки! Па-рик-ма-хер-ская… парикмахерская!
Я рано, лет с четырёх, наверно, начал читать вывески. Годам к пяти читал довольно сносно уже и книжки, как мне мать потом говорила, а в шесть лет меня даже воспитательницы просили в детском саду читать детям.
– Коль, почитай ребятам, а мы пока тут посидим, отдохнем.
Они там сидят, болтают негромко, а я читаю. Плохо ли? Да и гордость меня так и распирала! Кто-то из детей лежал, кто-то сидел в начале тихого часа, а я читаю, чтобы они засыпали. Мне очень нравился сам процесс – я им читаю, а дети меня слушают. Наши педагоги говорили:
– Ты, Коля, читай с выражением!
Вот я и старался им подражать. Книги были про Буратино, Чиполлино, русские сказки, простенькие истории и стихи, конечно: Агнии Барто, Сергея Михалкова, Самуила Маршака, Корнея Чуковского – словом, всё, что тогда было положено читать в детских садах.
Мама… Конечно, мама – это, прежде всего, детство. А детство – это, прежде всего, мама. Ну да, бабушка меня водила в садик, и на закорках носила, но мама – это нечто особенное. Когда её увидишь, так что-то даже поднимается внутри… Помню самую первую поездку в пионерский лагерь, первый день посещения, я в толпе выглядываю маму. Вот увидел её лицо – оно настолько родное, именно родное, другого слова не подберёшь.
Моя мама, Екатерина Александровна Сметанина, овдовела очень рано, её муж, Николай Михайлович Сметанин, умер от ревматизма 27-и лет от роду в 1952-м, когда мне было полтора года, и она осталась одна с двумя сыновьями.
Послевоенная жизнь была трудной, как и у многих других обитателей нашей окраины Иванова – выходцев из окрестных деревень, трудившихся на фабриках и заводах, потерявших кормильцев, в том числе, на фронтах Великой Отечественной. Нам помогала бабушка Юля, которая была, между прочим, персональным пенсионером, она получала очень неплохую по тем временам пенсию – рублей сорок, сравнимую даже с фабричной зарплатой. Баба Юля могла бы жить и с другой своей дочерью, Валей, но у нас было свободнее: там детей-то четверо, шумно очень, а у нас два пацана, которые всегда гуляют на улице, – я и Вовка.
Помню, мама знала, что я очень люблю ириски «Золотой ключик». Ну, ирис «Забава» – это было бы еще лучше, но он стоил четыре рубля за килограмм, а этот – два рубля семьдесят копеек. Хорошо помню, когда я был в детском саду на круглых сутках, после тихого часа выбегал в раздевалку, открывал шкафчик, совал руку в карман пальто – а там ириски! Это мама за время перерыва успела прибежать с работы, с фабрики Крупской, положить мне в карман конфеты, порадовать меня ирисками, чтобы мне не было там так уж одиноко. Специально прибегала. Не каждый день, но…
Хорошо помню её характер. Если она была бы парнем, то можно было бы назвать её «рубаха-парень». Мама, работая слесарем по увлажнению на фабрике имени Крупской, получала маленькую зарплату. Получит, бывало, мама зарплату и накупит всякой вкусной еды, всё, что мы любим, не пожалеет денег. Был у неё такой вот щедрый характер! Купит, например, халву – не подсолнечную, а тахинную обязательно, 600г – она же знает, что Колька любит тахинную. Вовке всё равно, что за халва, он сладости не очень-то любил – он «колбасник». А мне колбасы даром не надо, я любил молоко и конфеты. Молоко – это моя самая любимая еда. Мог на молоке с мягкой городской булкой прожить хоть неделю. А Вовка, мой брат, любил мясо. Как он обгладывал кость из щей – до последнего кусочка мяса, выскребывал, вилкой выковыривал, тщательно высасывал и стучал, чтобы оттуда выскочило нечто особо вкусное, если эта косточка мозговая. И рыбу обгладывал до голого скелета, включая головы. Он и мать – мясоеды. А я молочник, весёлый молочник, как сказали бы сейчас.
Однако на самом деле я не очень весёлый был в детстве, плакал часто, по общим отзывам, и я сам это хорошо помню. Я так-то весёлый был, шустрый, всё нормально, но у меня всегда глаза оказывались на мокром месте, и не потому, что меня, например, пнули по ноге, и я заплакал от боли, это понятно. Но стоило меня чем-нибудь обидеть, словом, например, – от одной обиды я мог заплакать. Причём не специально, мол, дай-ка я зареву, а просто слёзы сами начинают катиться из глаз, и всё. Или я смотрел какое-нибудь кино, там был трогательный момент, и я ревел, просто ревел. Мама тоже могла заплакать в кино, как и я.
Моя мама родом из деревни Дьяково, а в школу ходила, как и другие дети, в Авдотьино – каждый день четыре километра туда и столько же обратно. Мама училась хорошо.
В 38-м году бабушка Юлия Васильевна переехала в Иваново, в частный дом к своей старшей сестре, которая уже была очень пожилая, ей требовался уход, вот она и позвала свою сестру Юлю с мужем. Они взяли с собой дочек Валю и Катю, тогда еще незамужних, остальные дети были уже постарше. Мама училась в 37-й школе, в той же, в которую впоследствии поступил и я, окончила полную десятилетку с четвёрками и пятерками, собиралась поступать в медицинский институт, у неё была такая мечта. Но…
Это был тот самый случай, который мы в кино видели не один раз. Мама окончила школу именно накануне войны, она получила аттестат 21 июня 1941 года, была выпускницей последнего мирного дня. Она собиралась на следующий день подать документы в медицинский институт, но её папа, истинный большевик Ноговицын Александр Фёдорович (кстати, в прошлом председатель колхоза, потом, когда они переехали в Иваново, он был уже просто пенсионером, пожилым и довольно больным человеком), сказал:
– Катя, учиться потом будешь, а сейчас стране нужны снаряды, началась война, и мы все будем работать на Родину. И мама моя всю войну делала снаряды на заводе им. Королёва – для фронта, для победы. Когда в 1945 году вышла замуж, уже не до учёбы стало. Так мечта её и не сбылась.
Мама была мудрым и неунывающим человеком, любила петь. Люди к ней тянулись, как к магниту. Она умела сочувствовать. Вот где-то хоронят знакомых, на той улице или на другой, она обязательно на эти похороны пойдет, придёт вся заплаканная оттуда. И ей помогали, потому что вся улица знала, что она одна, вдова, двоих пацанов воспитывает. Мужики помогали: кто крышу починит, кто подправит наши сени, они там сели на одну сторону… Община такая существовала, исконный российский деревенский уклад жизни.
Люди в нашем краю – Минеево, Пустошь-Бор – вышли из окрестных деревень и сохранили деревенскую духовность, привнесли ее с собой в город. Думаю, и другие городские окраины жили так же. Все были приезжие, как в фильме «Москва слезам не верит». И они, по сути дела, постепенно создавали духовную атмосферу города Иваново, а сами, в свою очередь, усваивали городской быт. Почти все работали на фабриках или заводах.
Другая черта характера моей мамы – врождённая деликатность. Вот один из примеров этого её качества. Отец бабушки Юли, мой прадед Василий, шуйский мельник, выстроил дом в Иванове, в местечке Пустошь-Бор, для другой своей дочери. Я уже не помню точно её имя – то ли Анна, то ли Лиза. Она тогда еще молодая была, и её отец думал, что она там замуж выйдет и детей родит. Но она до старости так и прожила в этом доме одинокая, детей у неё не было. Она завещала всё моей матери, но – на словах, поскольку была неграмотная. При бабушке Юле и при других членах семьи не раз говорила, что весь дом, мол, завещает Кате, поскольку Катя у неё любимица была, любимая племянница. Она, как солнышко, войдет и споет или спляшет, без расчёта, её никто не учил этому, всё с улыбкой, с добром в душе. «Ой, Катенька, посиди со мной!» – тетка часто звала мою мать к себе. И говорила много раз: «Я весь дом завещаю Кате. Это моё такое желание, это мой дом». Потом эта бабушкина сестра умерла. А Юлия Васильевна, будучи матерью и Кати, и Вали, сказала:
– Что хотите со мной делайте, пусть я даже нарушу волю сестры, но, в общем, пустим Валю с семьёй. А где им жить? Смотри, у них с Тимофеем уже двое детей, может, и ещё будут, куда они пойдут жить?
Валя с мужем-инвалидом и детьми поселилась в задней половине этого же дома. А Катя с Николаем, двумя сыновьями и своей матерью – в передней части, что по площади-то даже поменьше. Тогда ещё мой отец был жив. Мать даже какое-то время обижалась на Бабу Юлю, свою мать, ведь при ней же было сказано, что дом завещан ей, Кате…
Позже сестры частенько ссорились между собой по этому поводу, но мать никогда сор из избы не выносила. Дело в том, что Вова и я всегда дружили с двоюродными братьями Герой и Лёней, а также с сестрой Лидой. Я особенно был дружен с Лидкой, мы с нею погодки, брат Вовка – больше с Геркой, он на год моложе моего родного брата, то есть с 47-го, и с Лёнькой тоже, он мне ровесник. Витька еще маловат был, он с 53-го. Все четверо детей уложились у них в шесть лет.
– Вот одноногий стругает! – говорил сосед, смеясь. – Сколько у вас ещё детей-то будет?
Я в детстве всегда думал, что мама и тетя Валя никогда не ссорятся.
– Ты что – не ругаются! Еще как ругаются! Просто она не хочет, чтобы мы слышали это, – тайно сообщал осведомлённый Вовка.
Мать никогда в присутствии детей не говорила даже о самом факте раздора с сестрой. Я узнал об этом много позже, мама рассказала:
– Они-то что сделали! Я ведь думала, ну ладно, мы потерпим, пока им не дадут квартиру, Тимофей – инвалид войны, ему положено. Я поделилась с ними, понимала же, что надо им где-то жить. А теперь у них есть своя жилплощадь, лучше моей, со всеми удобствами, да она еще на этом «наварила» – на нас, фактически. А у нас что? Я одна с двумя детьми, я хоть квартирантов пустила бы, всё деньги какие-то.
Тете Вале и дяде Тимофею, действительно, дали в начале 60-х годов квартиру на улице Индустриальной, в доме номер 20\17 – две больших комнаты из трёх (в третьей, самой маленькой, жили бездетные супруги). У них была ванная, был туалет в квартире, все удобства. То есть они получили жильё, и казалось бы, должны были просто съехать. Все же помнили, что владевшая домом тётка говорила: «Дом завещаю Кате!» А Валентина взяла и продала ту часть дома, где жила, чужим людям, и даже деньгами не поделилась… Вот это самое обидное для мамы было. Ну, получила ты площадь, деньги всем нужны, понятное дело, но ты же помнишь, что это не твоё. И у моей матери хватало деликатности не посвящать в свои обиды детей. Мы же с детьми-то тети Вали дружим, зачем между нами сеять раздор? Что, Монтекки и Капулетти? Она видит, что нам весело, нам хорошо, и слава Богу. Но между сёстрами надолго пролегла, действительно, большая несправедливость. Есть на что обижаться, как говорится. Потом всё это сгладилось, забылось…
Мать рассказывала:
– Мы когда в город переехали, так тоскливо сразу стало. У нас в деревне чуть не каждый день вечорки были. Мы уходили на берег речки, там был гармонист, из соседней деревни приходил, он нам играл, у нас там пляски, песни, игры разные, в «колечко», например…
Вот сейчас люди живут разобщённо в многоквартирных домах, соседей едва знают, так и у переехавших в город из деревни такой же перепад был, хотя они жили дружнее, чем мы сейчас. Мама скучала по родным местам, по весёлым вечоркам, да и по молодости безоблачной, ушедшей…
Мать, бывало, ходила «ряженой» на чужие свадьбы. Её всегда зазывали, потому что она везде споет, всегда спляшет, заводная такая, непременно какие-то простыни, какие-то тряпки навяжет, с костылем каким-нибудь, нос большой наденет, свеклой намажется и обязательно во всех этих шествиях и частушках поучаствует. Святое дело! Придут специально пригласить её: «Катька, а ты придешь? А то кому же петь-то? Я вот один куплет, может, и знаю, а дальше-то не знаю ничего, а ты все куплеты всех песен знаешь. Да и пляску кому завести без тебя?» Мама как массовик-затейник была, любила веселье. Она же не за деньги после ночной смены отплясывала, а просто ради радости жизни. Тяжко ей приходилось, вдовья доля горькая, можно и скиснуть. А если веселья добавлять, то получается вроде и ничего, терпимо. Живём пока, не помираем.
Итак, я был в детском саду на круглых сутках. Меня забирали домой в выходные дни. В те года, ещё дошкольные, я хорошо помню, по выходным у нас дома обязательно устраивали застолья. Приходили соседи, квартиранты, а это были, как правило, лётчики и обслуживающий персонал с Северного аэродрома. Военного городка тогда ещё не было, и они снимали жильё в округе аэродрома, того самого, где формировалась в годы Великой Отечественной войны легендарная эскадрилья «Нормандия – Неман».
Хотя в нашей половине дома была всего одна комната вокруг печки, но, тем не менее, мать пускала до трёх человек квартирантов, потому что нужны были деньги. Я хорошо помню, что у нас жили муж с женой, отгорожены были фанерой, как в общежитии имени монаха Бертольда Шварца в «Двенадцати стульях». Отдельный, самый большой закуток, как комнатка, был для матери и бабушки, там же жил Вовка, он на раскладушке спал, а бабушка – на каком-то диванчике, узеньком таком, неприхотливая она была.
Мать спала на кровати с шарами. Как это всё там помещалось?! Я неизменно спал за печкой, как сверчок, это было моё излюбленное местечко. Перегородка глухая, до потолка, я засыпал там, что бы взрослые ни делали. Нормально.
Почти все старались пускать квартирантов – в основном это были холостые молодые мужчины, работавшие на Северном аэродроме. Тогда эта теснота никого не раздражала и не удивляла, потому что все так жили в послевоенные годы – бедно, дружно, весело. У тети Вали, маминой сестры, было четверо детей, а они с мужем тоже квартирантов пускали, потому что и им тоже нужны были деньги. Да и квартирантам надо было где-то жить.
Помню, например, Нину и Галю, работавших на фабрике, такие красивые были девушки. Они потом от нас съехали. Хорошо помню военного квартиранта – молодого, красивого мужчину Ави Ивановича. Ави – так было в паспорте, я тайком посмотрел. Но я его называл просто дядя Аля, он снимал угол у нас довольно долго, они с матерью как-то ужились вдвоём.
Он был страстный рыболов, поскольку родом с Кубани, и меня к рыбалке приучил. К раме своего велосипеда дядя Аля привязывал удочки, сажал меня на раму, и мы с ним отправлялись на Красотку, есть такая речка около Красносельского, через неё перекинут железнодорожный мост. Вот на эту Красотку он и любил ездить. Или рыбачили на Талке, если времени было мало, тогда там ещё рыба водилась: довольно крупная плотва иногда попадалась, окуни, пескари, гольяны, даже карпы. А ещё там было много «сикилявок», то есть совсем мелких рыбёшек. Забросишь немудрящую самодельную удочку, и они сразу же клюют, моментально, верхоплавки эти. А какое удовольствие! Мне было лет пять или шесть, может быть, а уже рыбу ловил! Как шутил дядя Аля: «Маленьких-то мы выбрасываем, а больших складываем в спичечный коробок».
Еще дядя Аля тогда же приучил меня ловить шаранок. Это майский жук, но у нас, в Пустошь-Боре, как и во всём Иванове, их называли шаранками. В мае их вылетало немыслимое количество. Мы их выпускали из-под парты на уроках, этих майских жуков, но это уже попозже было. Они в коробке царапаются, шуршат… Я их обожал просто! Они же безобидные, не кусаются, такие милые, какие-то гладенькие, симпатичные, с усиками. Не так давно я как-то поймал и дал такую шаранку внуку, а он боится. Я говорю:
– Не бойся, открой ладошку, вот я тебе положу в ручку.
Положил. Он стоит, на меня смотрит со страхом.
– Ты ручку-то закрой, шаранка там будет тихонечко царапаться, но не больно, а просто она так передвигается.
Ему стало щекотно, и он скорей её выбросил. В общем, пока он не привык к шаранкам, а внучка – и подавно, она ещё малышка.
А мы ловили майских жуков, я даже не помню, с каких времён. Это целый спорт! С вечера, в сумерках, они поднимались с земли, и сразу слышно жужжание. Видимость уже плохая, но когда они летели на фоне неба, их хорошо было видно. Пока они поднимались, их уже можно было поймать, потому что разворачивались медленно – пока крылышки расправят, пока то да сё. Правда, это редко удавалось – у земли их было хорошо слышно, но почти не видно. А когда они поднимались повыше, мы гонялись за ними, как сумасшедшие! Но чаще их ловили уже утром, когда они спали в листве берёз: сбивали вениками, швабрами, деревья трясли. Кто-то брал метлу или голый веник насаживал на шест и сбивал шаранок наверху. А по толстым берёзам – там, где в коре были проплешины – просто лупили большими камнями. Шаранки срывались с листьев и, не успевая очнуться, падали в траву, а мы потом ползали, искали: большие усы – самец, маленькие усики – самка. Так было интересно, когда спрашивали:
– У тебя сколько?
– У меня семнадцать, а у тебя?
– А у меня – двадцать пять!
Жуков сажали в банки, траву и листики туда закладывали. Чем майские жуки питаются? Листиками. И они жили в наших банках или коробочках несколько дней, потом вялые такие становились, приходилось выбрасывать и ловить новых.
Позднее я узнал, что они вредители, но я к ним испытывал только самые нежные чувства, и до сих пор я их люблю. Они какое-то количество листьев, наверно, съедали, но больше приносили все-таки радости нам, детям, чем вреда природе. Я не видел, по крайней мере, голых деревьев, без листьев, этого у нас никогда не было. А теперь голые деревья можно встретить, но не из-за шаранок, кстати, не из-за майских жуков, или хрущей, как их еще называют. Когда они скребутся в коробке, то хрустят. Вероятно, майских жуков так называли, чтобы обозначить их вредность – хрущ, он хрущ… Что-то агрессивное в этом слове, а шаранка – что-то такое приятное. Для меня они всегда остаются шаранками, такое ненаучное название, детское, ласковое.
А дядя Аля потом уехал к своей матери, в Темрюк. Уже много-много лет спустя я был там, пытался разыскать его, я знал адрес, но адрес этот оказался старым, а дядя Аля переехал куда-то…
Глава 2
Мостик к былому
Мой дед по материнской линии, Александр Фёдорович Ноговицын, родился в деревне Дьяково близ Иваново-Вознесенска, в большой и бедной семье. Он выбрал путь революционной борьбы, с начала 1900-х стал большевиком. Его родная сестра, Мария Фёдоровна Наговицына, впоследствии Икрянистова по мужу, – выдающаяся революционерка, депутат Первого Иваново-Вознесенского общегородского Совета с 1905-го года. Ей поставлен бюст в аллее мемориала на реке Талке, посвященного первой русской революции. Она позже уехала в Москву, и я никогда не видел её лично. Просто знаю, что дедушкина сестра – выдающийся человек. Были и такие герои, это было их время, их выбор. Они шли в революцию совершенно искренне. У Марии Фёдоровны была партийная кличка «Труба». Почему? Потому что она зычным голосом всегда говорила, не боялась шпиков. Кто-то нашёптывал, а она всё громко вещала. Её и хватали, и арестовывали, но, тем не менее, конспирации она не признавала никакой. Мне рассказывали, что ещё в дореволюционное время Мария Фёдоровна, работая в московской типографии, в присутствии посторонних людей могла спросить у хозяина, который тоже был тайный большевик: «Товарищ, где у нас метла?». А ведь «товарищ» – это значит большевик, подпольщик.
Деревня Дьяково славилась тем, что там был настоящий «рассадник» большевизма, многие жители были настроены революционно, в том числе и семья деда. В их доме большевики устраивали тайные собрания, там бывали А.Ф. Афанасьев, М.В. Фрунзе и другие революционеры. Чуть ли не в каждой второй избе деревни Дьяково работала небольшая типография, на весь город они печатали листовки и просто воззвания всевозможные, перепечатывали ленинскую «Искру», носили в город, распространяли. Этим в молодости занимался и мой дедушка, он тоже ходил в Иваново-Вознесенск и распространял прокламации. Там он и познакомился с девушкой Юлей, которая была родом из Шуи, из зажиточной семьи мельника. Я много раз спрашивал у матери, как же они решились соединить свои жизни, ведь вышли – то из разных слоёв общества? «Такая судьба».
Баба Юля рассказывала, что их дом и водяная мельница находились на берегу реки Тезы, они соседствовали через прогон, т.е. пыльную просёлочную дорогу, с имением господ БальмОнт. Тогда они так звались – БальмОнт, хотя теперь мы привыкли произносить БАльмонт. Сам Константин Бальмонт, великий поэт Серебряного века, в родовом имении редко бывал, в основном жил в Санкт-Петербурге или в Европе. Баба Юля вспоминала, что его шуйская семья была далеко не бедной.
Семья Александра и Юлии Ноговицыных… Вот как говорить о предках? Я лично с прадедом и другой роднёй по бабушкиной линии не был знаком, знаю только, что звали его Василием, поскольку бабушка моя была Юлия Васильевна. Для меня бабушка была Ноговицына – по мужу. А в девичестве она была Мочалова, у нас сохранилась подписанная фотография её матери Марии. Вся родня бабушки Юли осталась в Шуе, она туда больше никогда не ездила с тех пор, как её, 15-летнюю, отдали «в люди». В центре Иваново-Вознесенска, примерно в районе 30-й школы, она работала домашней прислугой у господ.
Юля была неграмотная, умела только расписываться и хорошо считать. Как-то ходила гулять «в город» – всё же молодая девчонка – там и познакомилась с Сашей из Дьякова. Ей он, конечно, никаких листовок не давал, она прочитать всё равно не могла, однако через Сашу дочка мельника прониклась революционными идеями. Всё, что тогда писали в прокламациях, было правдой. В детстве Юля видела, как тяжело трудился её отец, она хорошо знала, что в пять утра весь дом поднимался, все работали, «пахали» с раннего утра и до ночи. Хотя мельник формально считался мелкой буржуазией, и большой их дом был под железной крышей, но на самом деле там все «вкалывали» – от мужиков до последней девчонки, все трудились, не было ни одного лежебоки. Даром кормить никто никого не будет. Как работаем, так и живем, как говорится, «как потопаешь, так и полопаешь». А уж что говорить о крестьянах и фабричных работниках…
Юлия Васильевна, когда познакомилась с будущим мужем, тоже стала распространять листовки, хотя не могла прочесть, что там написано. Но она Саше свято верила, просто в рот ему смотрела, ведь он был старше её на четыре года – ей шестнадцать лет, а ему уже двадцать! Он взрослый парень, знает, что говорит. Александр в начале ХХ века вступил в партию большевиков, а вскоре они поженились. Невесте было всего 17 лет, но тогда возраст никто не спрашивал – женятся и женятся. Обвенчались, как положено, в церкви. Я спрашивал:
– А как же дед в церковь-то пошёл? Коммунист ведь?
– Ну, и что? Надо было обряд-то пройти, ничего не поделаешь, венчались, а то дети были бы незаконнорожденными. Да я и сама не больно в Бога-то верила, не говоря уж о Саше, но и венчались, и детей-то всех в церкви крестили, – отвечала бабушка.
А по-другому тогда и не женились, никаких ЗАГСов не существовало. Понятие гражданского брака тогда было чисто эмоциональным. Так люди, жившие семьёй без венчания (по сути, сожительствовавшие), называли свой союз – «для солидности». А они венчались – Юлия Васильевна и Александр Фёдорович Ноговицыны, всё по закону того времени. Совсем ведь юные были по нынешним представлениям. Тогда же это было «в аккурат», как она говорила.
Кстати, деревня Дьяково была наводнена Ноговицыными, но из них половина оказалась Наговицыных, а половина – Ноговицыных, хотя они все родня при этом. Чем это вызвано? Я в этой деревне жил как-то на каникулах. Спрашиваю:
– Мам, а почему тут есть Наговицыны и Ноговицыны?
– Это неважно, – говорит, – мы все тут родня. А это просто дьячок в церкви – как записал на слух, так и осталось на всю жизнь.
Спросит: «Как твоя фамилия?» «Наговицына». «А как: На- или Но-?» «Наверно, Наговицына». Малограмотные были, кто как скажет. Так вот, дед был Ноговицын, а его родная сестра Мария – Наговицына, как и некоторые другие родственники.
Я спрашивал у бабушки Юли:
– А где вы с мужем жили-то?
– А жили в Дьякове, у него. Отец-то меня, самовольницу, и знать не хотел – против его воли замуж-то выходила, бесприданницей. И наследства мне было не видать…
Им в родительском доме Александра выделили угол, вот там и жили семьей. В 1903 году у них первая дочка родилась, Елена, а в 1923-м – последняя дочка, Катя, моя мама. Всего у дедушки и бабушки было шесть детей – три сына и три дочери. Все три сына воевали, двое из них погибли.
Мой дядя Петя, Пётр Александрович Ноговицын, был комбатом, погиб на территории Польши в 1945 году, в самом конце войны. Я его никогда не видел. Мать о нем очень тепло рассказывала. Его дочь, моя двоюродная сестра Неля, после войны жила с нами, училась в Иванове.
Еще один мой дядя – Володя – погиб рядовым в самом начале войны, в 41-м. Только ушёл и буквально через два месяца бабе Юле, его матери, прислали похоронку: «Ваш сын погиб…». Как мать говорила: «Он уходил из Иванова, потом в котёл попал», т.е. в окружение. Вот всё, что они знали, потому что Володя успел написать за время службы только два письма, и больше ничего не было. Незадолго до войны он женился, но они с женой уже успели разойтись. Ну, это уже дело житейское. А детей у него не было. Где он похоронен – неизвестно. В братской могиле, наверное…
Третий брат моей мамы, Виталий Александрович, тоже воевал и остался жив, слава Богу, дожил до 95 лет. Дядя Витя служил на Дальнем Востоке. Поехал, куда послали – военный есть военный – а он был тогда майором авиации. Войну закончил начальником лётной школы, в звании полковника.
После войны он ещё служил там же лет пять, наверное, а потом вернулся сюда и уже служил здесь, в военном управлении, при штабе каком-то, точнее я не могу сказать. Потом вышел на пенсию. У него было двое детей, жизнь протекала нормально. Кстати, дядя Витя ездил в 70-м году специально в Польшу и нашел могилу брата, только я забыл, как город называется (Вроцлав, кажется). Есть фотография, где дядя Витя стоит возле могилы, отдельной, не братской, а на табличке написано: «Капитан Ноговицын Петр Александрович», и годы жизни обозначены.
Дядя Витя и мне помог, да ещё как! Но об этом речь пойдёт в одной из следующих глав.
А Елена, самая старшая, была дояркой в колхозе. Во время войны её боднула корова в бок, а, спустя много лет, у неё в месте травмы образовалась злокачественная опухоль. В нашем доме, куда её вскоре перевезли, тётя Лена и умерла в ноябре 57-го.
Я хорошо помню, как её хоронили, как приехали присланные из деревни дрожки, запряжённые лошадью. Мы с двоюродной сестрой Лидой стояли в сторонке и беззаботно болтали о своём. В это время духовой оркестр грянул похоронный марш Шопена, и со мною произошло что-то необъяснимое: из моих глаз сами собой брызнули слёзы…
Меня долго не могли успокоить. Лидка испугалась, что со мной что-то случилось, а я не мог ничего сказать, меня трясло. Потом вбежал в дом, а следом за мной примчалась перепуганная мама. Убедившись, что я жив и здоров, мать спросила у Лидки:
– Что случилось?
– Я не знаю, – ответила сестра.– Музыка заиграла, и он сразу заревел в три ручья.
Мама успокоилась, обняла меня и сказала:
– Экий ты чувствительный.
Валя, мать Лидки, средняя дочь Александра и Юлии, вышла замуж в 45-м. И как интересно это получилось!
Во время войны во многих ивановских школах были оборудованы эвакогоспитали для раненных на фронтах Великой Отечественной. В одном из таких госпиталей работала Валентина, а дядя Тимофей, её будущий муж, лечился после ампутации ноги как раз в том же госпитале. Он там последние месяцы перед выпиской лежал, а потом должен был поехать на Алтай, откуда был родом. Он был на костылях, к нему полагалось приставить медсестру, чтобы она проводила его до самого дома.
Командировку выписали Валентине. А он ей уже нравился, Тимофей-то. Он красивый, высокий мужчина был в молодости, только ноги нет. Но тогда этому никто не удивлялся, многие фронтовики стали инвалидами на войне, жили без ног и без рук, а у него всего одной ноги не было, он еще частично трудоспособным человеком считался по тем временам.
Бабушка рассказывала, что Тимофей женился ещё до войны, но жена у него была неграмотная, писем не писала, он ничего не знал о ней. Но, конечно, переживал, примет ли его жена без ноги-то – какой он теперь работник, только обуза… Но тут другая история произошла.
Добрались они до станции Борзя на Алтае, проводила Валя Тимофея до дома. Он туда зашёл, а она решила дождаться: надо убедиться, что он здесь останется, сходить в исполком и подписать командировку – святое дело! Документ – это такая важная вещь. И вот Тимофей вышел, белый, как полотно, и сказал:
– Валя, у меня жена-то живёт с другим. Они живут здесь, это её дом. А у меня дома, получается, нет, мой дом в другом селе, и там живут другие люди. Не знаю, куда теперь и податься…
Валя отвечает:
– А поехали в Иваново, и будем мы с тобой.
Тимофей оформил там сразу развод, сам подал заявление, получил официальный документ, чтобы потом жениться можно было, детей заводить по всем законам. И вернулись они вместе назад, в Иваново.
Бабушка Юля Валентину уговаривала, ругала:
– Валька, ты что? Он же ведь одноногий! Ты – девка видная. Что, ты себе не найдёшь парня, что ли? Их, конечно, не так много после войны, мужиков-то одиноких, но ты-то найдёшь точно.
Валя была хоть и невысокого роста, но симпатичная, шустрая да фигуристая. Но Валька-то – знай – своё твердит:
– Я его люблю. Люблю его и всё тут. И я ему нравлюсь, он сам мне сказал, что я ему нравлюсь!
Он не говорил высоких слов, а «нравишься» – и всё. Они решили пожениться, вот хоть кол на голове теши. Там, в семье Ноговицыных, все такие упрямые! Пошли Валентина с Тимофеем и расписались в ЗАГСе, поженились официально, она взяла его фамилию – Банщикова, перестала быть Ноговицыной. И не ошиблась – счастливую жизнь прожили они, вырастили четверых детей…
Расскажу теперь всё, что знаю о своей родне по отцовской линии.
Мой отец, Николай Михайлович Сметанин, родился в деревне Иванцево Ивановского района, потом жил с родителями в Иванове, в маленьком доме на 4-й Минеевской улице. Его мать, Наталья Сергеевна, трудилась прядильщицей на фабрике Куваева, а отец, Михаил Иванович, там же обслуживал станки. На работу ходили пешком в любую погоду.
В семье родилось семеро детей-погодков: дочери Мария, Александра, Елизавета, Софья и сыновья Николай, Иван и Сергей. Жили очень бедно, не у всех детей была обувь, даже дрались из-за неё, если надо было куда-то идти. А Коля, начиная с марта, в школу босиком ходил, тогда сильно ноги-то и застудил. Старшие ребята нянчились со средними детьми дома. За самыми маленькими детьми присматривать было некому, зимой их привозили в плетёных санках на фабрику и оставляли в проходной, а в перерыве мать выбегала, чтобы покормить малыша.
У моей бабушки, Натальи Сергеевны, был крепкий и красивый голос, она исполняла народные песни из репертуара Лидии Руслановой и других певиц. Когда она пела там, в Минееве, вся округа собиралась её послушать. У неё был настоящий голос – и к тому же очень красивый! Кстати, Мария Михайловна, её дочь, а моя тётя, унаследовала этот талант от матери, у неё был очень хороший, просто оперный голос, мощный и чистый, от природы данный. Её долго приглашали в филармонию, на профессиональную сцену. У неё при пении было правильное дыхание, и опора хорошая, я-то мог это оценить. Она пела оперные арии и «жестокие романсы» – «Хуторок», «Окрасился месяц багрянцем» и другие – очень похоже на Марию Максакову по тембру. Тогда Максакова была популярна, и моя тетя подражала ей в чем-то, потому что она же не училась музыке. И пела правильно – до самых последних своих лет. Мария Михайловна окончила юридический институт, работала юристом. Она вышла замуж, родила двоих дочек – Ларису и Любу – Кременецких по отцу. А Мария Михайловна решила свою фамилию не менять, осталась и после замужества Сметаниной.
Голос красивый был и у моего отца. Вот такая музыкальная, поющая была у него семья. Может, там и ещё кто-то хорошо пел, но это мне неизвестно…
Мать с отцом познакомились в 43 году на одной из танцплощадок города. Жили они неподалёку друг от друга: он – в Минееве, она – в Пустошь-Боре, и он её после танцев провожал до дома.
Мать рассказывала:
– Я у него спрашиваю: «А почему на войну-то тебя не берут?» Он говорит: «У меня бронь». Ну, бронь и бронь, мало ли… Я же не знаю, что они там производят, на Ивтекмаше-то…
Потом выяснилось, что не взяли его по состоянию здоровья, у него было очень больное сердце, да и сосуды ни к чёрту не годились. Когда уже поженились, мать узнала, что у него ревматизм, суставы опухают, и прочее…
Это именно отец назвал меня Николаем. Тогда Коль было не меряно, у меня друзья сплошь были Кольки! Я спрашивал у матери, почему так много Коль? Я Николай, отец Николай. Она объясняла:
– Так ведь детей по привычке в церквах крестили, давали имена святых, а самый сильный святой – это Николай. Он заступником для малыша будет. Одно плохо. Вот родился мальчик у нас в 48 году, я не хотела его Колькой называть. Плохая примета, говорю, если в семье ребенка назовут именем отца, то кто-то из них не жилец. А он возражает, мол, это дурацкое суеверие, глупости! Пошёл и сам записал его Колькой, а мальчик умер через полгода. Потом ты родился, тут я завизжала, прошу, чтобы ни в коем случае тебя Николаем не называл, умоляла. А он пошёл и опять записал сына Колькой… Вскоре после моего рождения, в 1952 году, отец умер из-за болезни сердца, ему было всего 27 лет. Вот тебе и суеверие…
Книги Николай просто запоем читал. Лампочка у нас была слабенькая, 15-ти ваттная. Так он под неё двигал стол, на него ставил стул, на который садился и часами читал, поближе к свету!
Несмотря на серьёзную болезнь, он все мужские работы в доме делал сам – и по дрова в лес один ездил, валил деревья, распиливал двуручной пилой, сняв одну из ручек, потом колол. Крышу чинил, забор, крыльцо правил…
Баба Юля ругала Катю, когда она собиралась замуж за Николая:
– Одна одноногого выбрала, другая – вот этого, тощего да бледного. Две видные девчонки, за ними вон какие парни ухаживали…
Три «жениха» у матери было, все плясали, пели, весёлые парни были, здоровые, с ногами, с руками, а она Кольку выбрала – больно пел хорошо. Ему кто-нибудь подыгрывал, а он пел, да как пел! Заслушаешься. Мать рассказывала, когда она, много лет спустя, в первый раз услышала, как поёт Александр Малинин, так и охнула: «Батюшки, Колька! Закрою глаза – Колька!» Мой отец, оказывается, пел точно так, как Малинин – его тембр, его голос…
У мамы же в семье пели немногие, там Катя оказалась самой главной запевалой, очень хорошо слова и мелодию запоминала, знала все песни от начала и до конца. У неё был редкий музыкальный слух – она могла и вторым или третьим голосом подпевать. Голос у неё, правда, был небольшой, но чистый.
Глава 3.
Кружится, кружится диск старинный…
В пору моего детства на стене, практически в каждой семье, висела старинная семиструнная гитара с бантом. Не знаю, откуда, но и у нас была такая гитара. Мать, кстати, немного умела играть на ней. Сама настраивала, и на первых четырех струнах она себе подыгрывала и пела, когда компания собиралась у нас дома, что случалось практически каждую неделю. Святое дело! Среди приходивших мужчин было много сверхсрочников – как теперь сказали бы, контрактников. Им было по 25-27 лет, все работали на рембазе Северного аэродрома. Почти все они курили, не вынимая папирос изо рта, то есть дым столбом стоял. К дыму я относился совершенно спокойно, будто его и нет, а мама говорила: «Пусть курят – хоть мужиком в доме пахнет…»
Они пели много хороших военных песен: «Прощай, любимый город…», «На поле танки грохотали…», «Пора в путь-дорогу», «Тёмная ночь» и другие.
А однажды мама похвасталась:
– Колька тоже умеет песни петь, с пластинок выучил!
Меня ставили на табуретку: «Колька, давай!» И я давал. Естественно, я никогда не отказывался. А чего стесняться, когда все здесь свои, да еще и выпивши? Я пел взрослые лирические песни с пластинок, например, «Хвастать, милая, не стану…», «На крылечке твоём», «Только глянет над Москвою утро вешнее», из Утёсова пел – и, надо сказать, с большим удовольствием, мне самому эти песни нравились.
«В Москве, в отдаленном районе, двенадцатый дом от угла…» – это был мой самый главный номер, моя «коронка»! Я пел чисто, им нравилось, как выдавал уморительный шестилетний шкет: «Прощай, Антонина Петровна, неспетая песня моя»! Гости все хохотали до слез, хлопали в ладоши при этом, и я понимал, что им нравится. И, хоть непонятно было мне, на что они там смеются, это неважно. Молодые, весёлые, чего же… Я смеялся вместе со всеми. Здорово было!
Детские песенки я пел и в саду, и в школе, а дома – вот эти, пластиночные. Причем, даже когда никого не было дома, я их заводил. Мне очень нравилось просто слушать и пассодобль «Рио-Рита», и фокстрот «Цветущий май», и танго «Брызги шампанского», и «Утомлённое солнце»… Такие прекрасные мелодии!
Мамины гости, бывало, выносили во двор наш патефон и танцевали под эти пластинки. Когда потом, много лет спустя, я смотрел фильм Ю.Б Норштейна «Сказка сказок», и там танцевали пары под вот такую же музыку, я сразу вспомнил, как тогда у нас во дворе танцевали.
Лично я заводил пластинки, крутил ручку патефона и, как теперь сказали бы, был ди-джеем, а тогда… «Коля, заводи там следующую!» Они даже не смели мне советовать, что заводить, это была моя «епархия», я сам знал, что заводить – две медленных уже сыграны, значит, сейчас надо быструю мелодию завести. «Эх, Андрюша, нам ли быть в печали…» или «В Москве, в отдаленном районе…», «Мишка-Мишка».
…Я смотрю на мамины фотографии тех лет – худющая была, и не она одна, они все стоят худые. Тогда еще ватные подкладные плечи были модны, все их использовали. И вот, смотрят с фотографий эти послевоенные женщины – такие стройные, современные, прямо нынешние модели, в фитнес ходить не надо. Однако у них считалось, что худенькая, доходяга – это плохо, даже завидовали тем, кто полный: вот этой повезло – она справная! Они шутили: «Пока жирный сохнет, худой сдохнет», – и хохотали. Ну, с течением времени еда появилась, округлились как-то все. Мама говорила:
– Спасибо американцам, хоть они помогали – тушёнкой, крупами, много чего присылали.
– Мам, ты знаешь, ведь наше государство платило им золотом, у нас не было долларов, а бесплатно они нам ничего не давали. Америка очень нажилась на этом, я читал.
– Ну, мы-то об этом не знали, – говорит, – думали, американцы нам просто помогали, а так бы никакой еды не было, золото же есть не будешь. Да я его и в глаза не видела, это золото. Оно там где-то есть, и ладно. Хорошая-то еда нам была гораздо нужнее.
Я очень любил кино. Помню до сих пор фильмы «Олеко Дундич», «Над Тисой», «Кортик», «Дети капитана Гранта». Мне нравилось смотреть приключенческие фильмы.
Конечно, «Чапаев»! «Чапаева» я смотрел раз пятьдесят! Недалеко от нашего дома стоял балаган – собственно, сборный кинотеатр. Остов был сделан из ДСП или из какой-то другой плиты, но не из дерева, а сверху на дугах натягивали брезентовый тент, наподобие теплицы. На зиму тент снимали, чтобы его не продавил и не порвал снег, а остов стоял. Когда снег сходил, опять натягивали этот тент, ставили внутри лавки и экран, и начинался сезон кино. Вывешивали красивые афиши – расписание на всю неделю. Мы все фильмы смотрели в этом балагане. Красота!
В задней стенке нашего балагана было просверлено много дыр. Кем? Предприимчивыми людьми, кто не поленился из дома принести дрель и просверлить стенку. Почему я говорю, что «Чапаева» смотрел раз пятьдесят? У меня денег не хватило бы, если б я платил каждый раз за билет. Просто обычно этот фильм я просматривал в дырочки. Иногда дырочки были очень высоко, а низкие заняты, тогда смотрели по очереди с кем-нибудь: давай я у тебя на закорках посмотрю в дырочку, потом – наоборот. Правда, некоторые вредины изнутри тыкали в дырки гвоздями, но бесполезно – у всех нас с собой были стёклышки, которые мы к этим дыркам прижимали. Вот такие балаганные ухищрения ради кино!
Помню, мы смотрели фильм «Разные судьбы», а там такие песни отличные исполняли! Вот я, например, не любил фильм «Свадьба с приданым», но там очень красивые песни, и я приходил просто их послушать. Диалоги мне казались скучными и фальшивыми, очень раздражали, а вот музыка… «Хвастать, милая, не стану…», «На крылечке твоём…». Такие песни замечательные, для меня лично они отличались от самого фильма, как небо и земля. «Весёлые ребята» я смотрел тоже много раз, особенно нравилась сцена драки. Это было так здорово и смешно сделано! Помните: «А, по-моему, это ведь у вас шум, в вашей комнате!» «Что вы! Мы же культурные работники!» – говорил Утёсов, игравший Костю Потехина, героя фильма. Ну, и Орлова, конечно, потрясающая Любовь Орлова! Как она там блистала! Настоящая звезда экрана была, единственная и неповторимая. Играла она Стрелку или других, казалось бы, простых девушек, но всё равно в ней чувствовалась звезда, ощущалось это. А потом – «Цирк», там пели «Широка страна моя родная…». Или «Светлый путь» с «Маршем энтузиастов»: «Нам нет преград…» Я все эти песни знал, все любил. И «Марш энтузиастов», и «Ленин всегда живой» я тоже знал наизусть, потому что постоянно слушал радио.
О, это отдельная история – радио! У деда и бабушки Ноговицыных радио было еще в деревне Дьяково, они перевезли его оттуда и повесили в углу. Чёрная круглая тарелка, обыкновенная, из которой в фильмах Совинформ бюро вещало во время войны.
Я обожал радио, слушал и известия, и музыку. Было много молодежных и просто «модных» песен. Конечно, у них там «Битлов» и Элвиса, например, не было, но всё советское звучало. Прекрасной музыкальной классики много было, интересные радио спектакли, литературная классика, юмористические передачи – один Райкин чего стоил!
Я всегда слушал «Театр у микрофона», очень любил эту передачу. Если было у меня время, я пропускал даже гулянье с друзьями ради спектакля по радио. Такие пьесы были, что заслушаешься! Идет трансляция спектакля и вдруг – молчание, что-то происходит на сцене, но слушатель этого не видит, поэтому нужен был комментатор. Как сейчас помню, давали «Принцессу Турандот», и там звучит комментарий: «На площадь по-пластунски выползает начальник стражи Бригелла»! Я от смеха просто падал! До сих пор помню эти комментарии. Эта радио-тарелка давала, я бы сказал, разностороннее видение мира – шли то политические, то музыкальные, то театральные, то спортивные передачи. Лично мне почти всё было интересно. И детские передачи – там «рулил» почти во всех ролях непревзойдённый Николай Литвинов. Корабельный кок Антон Камбузов приветствовал меня как «юного географа»… Ну, и далее – «Клуб знаменитых капитанов», «КОАПП», «Угадай-ка», «Музыкальная шкатулка», «Театр у микрофона» и многое, многое другое…
Мы никогда не выключали радио, потому что мало ли какие известия поступят. Так повелось еще с довоенного времени, передачи шли весь день – от гимна в 6 утра и до гимна в полночь. Атомная бомба, о которой все были наслышаны, даже по ночам иногда снилась…
А еще я слушал футбол, к которому пристрастился очень рано. Меня не приучали, я сам. Прекрасно помню животрепещущие радиорепортажи Вадима Синявского!
Не забуду, как впервые посмотрел у моего приятеля Жоры Удалова по телевизору, на маленьком экране с большой водяной линзой матч «Спартак» – «Локомотив», в 57-м или 58-м году это было. Само слово меня завораживало – Спартак! Какое-то романтическое. Я тогда не знал, кто такой Спартак, к тому моменту мне никто про него ничего не рассказывал, историю я по малолетству ещё не изучал, и фильм с Керком Дугласом пока не вышел. Но я знал песню о юном барабанщике: «Вперед продвигались отряды спартаковцев, юных бойцов». То есть спартаковцы – это смелые юные бойцы. Я, конечно, болел за «Спартак», и он выиграл – 2:1! Так навсегда я и остался его верным болельщиком. Матчи этой футбольной команды я всегда смотрел и до сих пор смотрю.
Дядя Аля, наш квартирант, в 62-м году купил нам первый телевизор «Заря», с довольно большим экраном, и музыки стало еще больше, тогда стали популярны «Голубые огоньки». Появился ещё больший выбор, что слушать и кого смотреть. Имена актёров и певцов запоминали насмерть.
А сейчас я ненадолго загляну вперёд – здесь, думаю, это будет кстати.
В 1963-м году тот же Жора Удалов, футболист юниорской команды ивановского «Текстильщика» и отличный, весёлый парень, позвал меня послушать на его огромной радиоле «заграничную передачу» радиостанции BBC (Би-Би-Си) – точнее, её позывные. Так я впервые услышал и сразу навсегда полюбил «The Beatles» – они пели «Can't Buy Me Love» («Любовь нельзя купить»).
И ведь благодаря именно этой песне битлов я впоследствии сам научился играть на 6-струнной гитаре, которую мне присудили в качестве главного приза на бардовском конкурсе города. Тогда я ещё играл на маминой 7-струнке, со «звёздочками» и баррэ. А вот битловские песни надо было играть только на 6-струнной гитаре, иначе они просто не звучали бы, как у «Битлз». Да и английский язык я «изучал» по их балладам – в школе-то я учил немецкий…
Но всё это было потом.
Оглядываясь на свое раннее детство теперь, когда основная часть жизни пройдена, я вижу, как много всё это значит для меня и сегодня. Часто вспоминаю наш деревянный дом на ивановской окраине, моих родных, моих друзей-подружек, первые впечатления от нашего бедного, неустроенного быта, нехитрых детских забав, от музыки, которую теперь именуют «ретро», а главное – от той простой, трудовой, весёлой и дружной жизни, которая нас всех тогда объединяла. И болит душа от сегодняшних людских раздоров, от жестокости к себе подобным, лжи и корысти, от унизительной нищеты одних и безумного богатства других, от нежелания расслышать и понять друг друга.
Ау, люди, где вы?! Оглянитесь на свое детство, вспомните родителей, отыщите в своем сердце то светлое и доброе, что было почти у каждого из вас, – и постарайтесь передать тем, кто верит вам и идёт за вами.
Очень надеюсь, что эти мои слова не станут для вас пресловутой «дудкой крысолова», и что всё у нас с вами будет хорошо.
Глава 4
Школьные годы чудесные
В школу я прямо-таки мечтал пойти – очень хотел учиться – как Буратино! Однако на 1 сентября мне не было полных семи лет, всего недели не хватило (день рождения-то у меня 7 сентября!). Классы были переполнены учениками благодаря послевоенному демографическому взрыву, и школьная администрация под любым предлогом старалась снизить нагрузку на учителей. Меня не приняли, поэтому я пошел в школу почти с восьми лет, в 1958 году. Причем желание учиться сохранилось у меня на все школьные годы. В любые каникулы – и после пятого класса, и после девятого – я уже с июля начинал мечтать: «Скорей бы в школу!» «Скоро в школу, ой, как не хочется!» – сто раз я слышал от других ребят, но у меня такого никогда не возникало. Наоборот: «Скоро в школу! Ура, ура! Скорей бы в школу!»
Мне было интересно не только общение с друзьями, а именно сами уроки манили и даже снились. Возможно, сказывалось ещё и то, что я с раннего детства всегда был в коллективах и привык к этому. Как сейчас говорят, «он в социум был вписан с раннего детства». К тому же учёба давалась мне легко, я без всякого труда стал круглым отличником, а человека всегда манит к тому, что у него получается лучше других. Я не был «жмотом» – бескорыстно давал списывать всем желающим. Может, потому у меня и не было в классе никогда врагов…
Когда непогода на улице, никто не гуляет, я мог заскучать дома, а в школе всегда было весело, всегда интересно. Как в песенке: «Всегда у нас весело в классе. Да здравствует дружба! Ура!» Это песня того времени: «Ровесники, ровесницы, // Девчонки и мальчишки, // Одни поём мы песенки, // Одни читаем книжки…». Тогда по радио часто передавали песни о школе, например: «В первый погожий сентябрьский денёк // Робко входил я под школьные своды…» Там такие слова: «Разве они пролетят без следа? // Нет, не забудет никто никогда // Школьные годы…» Всегда в этом месте у меня подступали слезы. Даже музыкально это место гениально выстроено – такой подъем и как кульминация: «Нет, не забудет никто никогда…» Это так созвучно моей памяти о школе, что и по сей день слезы иногда набегают на глаза при этих словах. Действительно, я никогда не забывал школьные годы!
Мама меня собирала в первый класс: мне купили форму, это уж как полагается, и подстригли «под лысого». Тогда, в 58-м году, всех первоклассников так стригли, возможно, из-за педикулёза, который был распространён в военные и послевоенные годы. У нас рядом располагался военный Северный аэродром, мы часто видели там воинов, подстриженных под «ноль», это не считалось зазорным – все лысые бегают, ну и что же. Вероятно, такое требование было у директора и врача школы, заботившихся о здоровье детей. Мальчикам разрешили носить чёлку только в третьем классе: сам-то лысый, а впереди – чёлочка, вид странный такой получается, лошадиный какой-то. Очень смешно! Как там девчонки сражались за свои косы, я не знаю. Мальчишки постарше стриглись уже под бокс и полубокс, а позднее появилась и «молодёжная» стрижка…Конечно, некоторых пацанов кто-то из родителей постригал сам – специальной ручной машинкой.
Первого сентября мать отвела меня в школу. Дождя в тот день не было точно, но и солнышко не сияло, так – переменная облачность.
Здание школы №37 загибалось буквой «г», большое парадное крыльцо выходило во внутренний двор. Там-то нас и встретили учителя и, конечно, директор школы Иван Ильич Федченко, высокий, солидный мужчина лет под пятьдесят, спокойный, убедительный. Мне представлялось, таким и должен быть директор школы – внушительное впечатление производил Иван Ильич! Мы его не боялись, но уважали безоговорочно. В случае нарушения дисциплины кем-нибудь из нас директор говорил веским тоном, спокойно: «Ты еще об этом пожалеешь!» Его слова и интонации не были обидными, унизительными, поэтому чувства несправедливости не возникало, а его строгие внушения достигали цели – у ученика надолго пропадало желание мешать учителю вести урок и, тем более, пытаться сорвать его.
Моей первой учительницей была Вера Васильевна Галкина, дама уже в годах, но всегда опрятно одетая, причесанная, следила за собой. Она была спокойная, мудрая, никогда не повышала голоса, никого не унижала, если одёргивала. При этом она умела строго поставить на место даже Кольку Одинцова, моего соседа по парте, хотя остановить его было трудно, ну, если только минут на пять, а потом он забывался и снова потихоньку хулиганил или «клоунады» устраивал, а я от смеха просто под парту залезал…
Жила Вера Васильевна недалеко от школы, во Фрянькове. Четыре года она вела в нашем классе все предметы, кроме музыки, труда и физкультуры. Вера Васильевна очень интересно рассказывала на любую тему, хорошо знала материал, никогда не читала по учебнику. Конспекта перед ней тоже не помню: готовилась тщательно, видимо, и потом, много лет преподавала, уже практически все предметы освоила досконально.
Кроме глубоких знаний, Вера Васильевна обладала и умением преподавать. Бывают люди, отлично знающие предмет, но они не умеют передать эти знания, а ведь учитель – это переводчик между наукой и обыкновенным ребёнком, способный преподнести научные знания понятным для детей языком. Это трудно, не всем дано. Даже образованные и умные люди оказываются весьма посредственными учителями: у них каша во рту, они не умеют ни привлечь внимание и заинтересовать темой урока, ни следить за дисциплиной и толково объяснить, а это всё надо делать одновременно в классе, где сорок человек. Вера Васильевна это умела, у неё на уроках была отменная дисциплина. Я очень любил первую учительницу, как, думаю, и все ученики в классе. Вера Васильевна, преподавала как-то аккуратно, всё было понятно. Думаю, мне и всем ребятам, кто учился в нашем первом «В» 37-й школы, повезло, что именно она встретила нас в начале школьной жизни.
Я был образцовый ученик, в первом классе сидел, положа руку на руку, глядел в рот учительнице. Особенно мне нравились уроки математики, я чувствовал, что этот предмет – её «конёк».
Каждое лето перед школой покупали тетрадки, я их просто обожал! Открываешь тетрадку, а там – чистый листок в клеточку или в линеечку, погладить его хочется. В первых классах писали на еще более крупной разлиновке, где была обозначена не только нижняя строчка, но и линия сверху, чтобы буквы были ровными. Мне так нравилось само письмо! Писали простыми ручками, перо макали в чернильницу-непроливашку и выводили буквы и слова. Почерк сам по себе у меня был хороший, но рука – довольно шкодливая. То кляксу поставлю, то перо засорится, пальцами выдерну соринку, а рука-то испачкалась, но я этого не замечу, проведу по бумаге – вот и мазня. Это для меня самый главный бич был. Писать я любил, буквы и строчки у меня красиво получались, а учительница ставила мне четвёрки, хотя написано всё правильно, идеально, но ощущалась какая-то неряшливость. Конечно, обидно было – пустяки ведь. Но Вера Васильевна на этот счёт была другого мнения.
Мне учиться было интересно, но кроме того, было и чувство самоутверждения, потому что почти все предметы давались мне легко, буквально, даром. Например, у меня грамотность врождённая. Я даже правил не знал, а писал без ошибок.
Вот пока урок идёт, изучаем тему, я правила знал, а потом забыл, но пишу правильно, вплоть до тонких деталей орфографии и пунктуации. Это и есть врождённая грамотность. Смотрю, как мать писала – и запятые там, где надо, поставлены, хотя она писала не для диктанта, а просто не могла писать неправильно, рука не писала. Вот и у меня так же. Мать мне всегда говорила:
– Это не твоя заслуга, это Бог тебе дал, и ты этим пользуешься. Но надо учить правила, всё надо знать, это потом пригодится.
И к математике у меня хороший слух. Я и сейчас считаю, что нельзя требовать от всех учеников хорошей успеваемости по математике, к ней нужно иметь такой же слух, как к музыке, такую же наклонность. Пусть ребенок и вызубрит тему, но применить такие знания ему будет трудно, так как надо же еще вникнуть, понять логику, смысл действий. Это не всем дано. Я рано начал решать довольно трудные задачи, добровольно брал учебник следующего класса или через класс, задачку какую-нибудь выбирал. Если там было что-то мне совсем непонятное, какие-то незнакомые термины, то, конечно, я такие задачи просто не понимал и не мог решить. А если узнаваемое было, то решал задачи в шесть действий и в семь, довольно рано этому научился. Меня и на олимпиады посылали по многим предметам, так как я по ним хорошо успевал.
Коля Одинцов – это отдельная глава в моей школьной жизни!
Самое лучшее время у человека, когда он цветет, как дерево, радуется, обрастает друзьями. Это бывает в молодости. У кого-то друзья появляются рано, например, в школьные годы, у кого-то попозже – во время учебы в институте или с началом работы, дружба приходит в разное время. Я вот поздний оказался, у меня от школы друзей на всю жизнь не осталось, один только Колька Одинцов был бы другом. Я так жалел, что он ушёл, окончив восемь классов, мы виделись уже очень редко, наши дороги разошлись.
Его отец, дядя Коля, помню, был высокого роста. Или мне это казалось? Тогда ведь и деревья были большие… Я – Николай Николаевич, и друг мой – Николай Николаевич, только фамилии разные… Дядя Коля был вдовцом, один воспитывал сына. Жили они в частном доме на соседней улице, у них был великолепный сад, отец очень увлекался садоводством, хорошо разбирался во всевозможных прививках, знал, как правильно ухаживать за деревьями. Мичуринец!
У Кольки Одинцова в лице было что-то похожее на Буратино из нашего советского фильма: и вихор у него такой же, и шустрый он, жизнерадостный. Страшно шебутной оказался парень, озорной, весёлый, неуёмного темперамента. Каверзы он всегда устраивал с юмором, не злые, а именно такие прикольные, смешные – хоть стой, хоть падай.
Тогда у нас в школе были отличные, удобные 2-х местные парты. На верхней её панели были две продольные лунки для ручек и карандашей, а рядом – 2 круглых отверстия для чернильниц, т.к. все писали ручками со стальным пёрышком, макая это пёрышко в чернильницу-непроливашку. Так вот, Колька вынимал свою чернильницу, залезал под парту, и вдруг из круглой дырки вылезал мандарин на палочке, а на мандарине была нарисована такая смешная рожица (чаще пиратская), что удержаться от смеха – да ещё во время урока! – было просто невозможно. А Колька уже снова невозмутимо сидел рядом и преданно смотрел на доску. Я рядом покатывался со смеху, не мог сдержаться, а он сидит, мол, чего это он?! Меня выгоняли с уроков много раз, но я никогда не сердился на Кольку. Я ради этих его проделок, собственно, и сидел рядом с ним. Это же бесплатный цирк! Учительница не возражала против нашего соседства, ведь иначе Одинцов был бы запущенный двоечник, отцу не до него. Какие отцы-одиночки воспитатели? Тем более, такой шустряк, за ним было не уследить, даже когда он совсем малышом был.
Мы с Колькой сидели на второй парте с первого по восьмой класс. Он учился на тройки и двойки, списывал у меня постоянно (с кучей ошибок, конечно), а я не возражал, да ради Бога, хоть всё спиши. Если у меня оставалось время на контрольных работах, я у него ещё и ошибки проверял. Друг же.
Он был прирожденный клоун! Из Кольки вполне мог бы вырасти такой артист, как Юрий Никулин или Карандаш. Он устраивал всякие смешные приколы за партой, причем с совершенно спокойным и даже безучастным лицом. Клоун, прирожденный клоун. Например, чернильница-непроливашка стоит на парте и вдруг начинает шевелиться. Я подпрыгиваю от неожиданности, а он сидит, как ни в чем не бывало. Я показываю на чернильницу, и он будто искренне пугается, смотрит на чернильницу с ужасом: «Атас, крыса!», а сам её снизу пальцем двигает.
Всегда найдёт что-нибудь, чем меня развлечь, с ним даже скучный урок превращался в забавное приключение. Я за ним просто хвостом ходил. Он, вроде бы, и хулиганистый, мог и кнопку учительнице подложить, как тот самый Вовочка, но не по злобе. У него было колоссальное чувство юмора, как у профессионального клоуна: он мог строить на лице всевозможные гримасы, он непостижимым образом переплетал пальцы на руках, и получались какие-то фантастические существа. Все портреты знаменитых учёных, писателей, путешественников в его учебниках были разрисованы до полной неузнаваемости, и притом очень смешно!..
Мы с ним ходили вместе из школы, в одном районе Пустошь-Бора жили – я на 3-й Слободской улице, а он на 4-й. Однажды Колька предложил мне
«выгодное дельце»: повсюду поспели яблоки и груши. «Давай, говорит Колька, ночью потырим немного яблок. Есть отличный сад у Введенских!»
«Ты что – там же Дима Введенский живёт, звезда нашей школы!» – отвечаю с дрожью в голосе. А Колька: «Тем более. Должны же звёзды делиться с простым народом – со мной и с тобой, например». Я согласился – это было справедливо. Часов в 11 ночи мы с ним под покровом ночной темноты подошли к забору дома Введенских. Перемахнуть через ограду – легче лёгкого. Набиваем яблоками и грушами всё пространство за пазухами, и вдруг… Дверь в доме, выходящая в сад, открывается! В круге света я вижу …милиционера в форме… Нет, это девчонка, переодетая милиционером – но от этого не легче: мы метнулись к забору, перемахнули его, растеряв половину добычи, и побежали по домам! Дома я долго припоминал детали ночного происшествия. Девчонка была примерно моих лет, симпатичная. Она тоже, кажется, испугалась и убежала в дом, хлопнув дверью. Через много лет я узнал от знакомой по социальным сетям, Ани Введенской, что этой испугавшей нас девочкой была её мама. Бывают же такие совпадения!
Были у нас с Колькой Одинцовым и другие «подвиги» – удачные и не очень…
Уже в среднем звене меня часто ругала наша классная руководительница, Нина Ильинична Дубова, преподававшая у нас географию:
– Коля, ты мог бы учиться еще лучше, ты мешаешь себе и отвлекаешь Одинцова, а он слабый ученик.
– Я ему не мешаю, а помогаю.
– Ты ему помогаешь тем, что даёшь списывать? Это разве помощь?! Думаешь, он от этого чему-то научится? Если бы ты с ним после школы занимался, тогда да!
Но я тогда так понимал дружбу: Колька Одинцов мне друг, он сам решить или правильно написать не умеет, значит, надо ему помочь, дав списать. А заниматься с ним дополнительно мне было некогда, ведь я три раза в неделю ездил в музыкальную школу, в Воробьёво, а еще и погулять надо. В общем, свободное время было только в каникулы. И сам Колька, мягко говоря, не горел желанием заниматься со мной уроками – он лучше будет целый вечер на своей голубятне пропадать…
После 8-го класса Колька ушёл из школы. Окончив ремесленное училище, он начал работать слесарем на заводе «Ивтекмаш», кажется. Я это слышал от кого-то, но самого Кольку уже не видел с тех пор.
В школьные годы моя жизнь была насыщенной, наполненной событиями. В школе целыми днями мы были вместе с учениками нашего класса, знали всё про всех – кто есть кто. И драки бывали, и игры. Например, об стенку монетами, в орлянку или в стукана.
В стукана – это надо небольшим круглым плоским свинцовым битком стукнуть по столбику монет, уложенных на твёрдом грунте решками вверх. Монеты рассыпаются, и те из них, которые легли вверх орлами, – твои. А потом уже бьёшь по каждой решке в отдельности, переворачивая её на орла. Если перевернуть монету не удаётся – теряешь ход и т.д. Или кидаешь монету в стенку, потом другой пацан кидает, и, если ты дотянешься от монеты до монеты пальцами одной руки, то ты забираешь обе эти монеты.
А в орлянку вообще просто – подбрасывают монету и угадывают, какой стороной она упала, – орёл или решка. Если угадаешь, монета твоя, не угадаешь – денежку придется отдать. Похожая игра в трясучку: там две монеты надо положить между ладоней и трясти, а потом спрашивать: «Орёл или решка?» Открываешь ладони, если он угадывает оба орла, например, значит, забирает обе монетки.
В стукана об стенку играли только возле школы, поскольку все дома в округе были деревянные, монеты от стенок плохо отскакивали. А школа же кирпичная, в фундамент стукнешь, монета со звоном отскакивает – красота! Иногда проигрываешь, иногда выигрываешь, никто же не умел тогда жульничать – уж как повезёт или не повезёт. Нас шугали, конечно, ругали, но нам нравилось это занятие.
Играли на наши карманные деньги, которые нам давали на обеды в школе. Все экономили – кто на что, копили. Мне, например, когда я поступил в музыкальную школу, давали деньги на проезд в Воробьёво, куда добираться надо было с пересадкой. Так я экономил на автобусе: пешком доходил до Станционной остановки, а это же пять копеек. Дальше ехал на трамвае, заплатив три копейки, там далеко было. И возвращался, сойдя с трамвая, опять пешком – вот и получал целых десять копеек за один раз. Небольшие деньжата, а на что они? Вот на такие ребячьи радости или на мороженое.
Еще одной статьей расходования наших накоплений были брикетики с какао. Я обожал какао со сливками! Какао с молоком за восемь копеек тоже очень хорошее, но за двенадцать копеек какао со сливками – это что-то божественное! Такой брикетик, кстати, весьма мягкий, можно было сравнить только с эклером, который перепадал нам совсем редко. В голову никому из ребят не приходило, что этот брикетик надо растворять в стакане горячей воды, а потом пить какао, нет! Это посчитали бы кощунством! Мы его грызли, как шоколадку, хотя там сахар виден, но так вкусно. И жалко, что сейчас такие брикеты не производят, я бы купил какао со сливками по старой памяти и погрыз бы с удовольствием.
Помню, как идёшь на занятия в первый день четвертой четверти, а она начиналась 1 апреля, и уже, как правило, почти не было снега. На мелких лужах – хрустящие корочки льда после ночных заморозков, а на ногах не какая-то тяжелая зимняя обувь, а ботинки с калошами! Идти в них легко и весело: наступаешь на примёрзшую лужицу и хрустишь её тоненькой белёсой корочкой… Правда, иногда не рассчитаешь и в глубокую лужу сквозь лёд проваливаешься, а кругом мальчишки смеются, а я – вместе с ними. Придя в школу, калоши снимаешь в раздевалке и приходишь в класс в чистых ботинках.
В более глубоких весенних лужах и ручейках мы пускали кораблики. Сначала простые бумажные лодочки складывали, а потом уже строили, вырезали из дерева мачтовые кораблики. Мне нравилось вырезать. Попрошу брата, бывало, чтобы он наточил мне нож поострее, и вырезаю из толстого куска сушёной сосновой коры совершенно непотопляемые кораблики. Мачту ставили с парусом, а потом мчались к ручью, спускали свое творение на воду и смотрели – далеко ли оно поплывет! Среди снега выкапывали канальчики, смотрели, чтобы был непременно уклон, тогда вода по каналу потечет быстрее, а значит, быстрее помчится и кораблик. В неглубоких, но стремительных ручейках струи бились о стенки и переплетались в косичку, тогда надо было русло углубить, чтобы течение получилось довольно сильным и более ровным, тогда и кораблики поплывут быстрее. А еще делали запруду, накопив воду, спускали ее – тогда кораблики мчались ещё быстрее. Это было главное и поистине повальное увлечение малышни. Солнце отражается в ручьях, кораблики плывут – вот это ощущение апреля, золотое ощущение. Это совершенно незабываемо!
Конечно, хорошо помню 12 апреля 1961 года, первый полёт человека в космос.
В нашей школе радио было только в кабинете директора (в классы ещё не провели на тот момент), он первым услышал правительственное сообщение. Сразу же протрубили общий сбор в актовом зале, и директор сделал сообщение:
– Дорогие мои, я так рад и счастлив, что я дожил до этого дня и могу вам сообщить радостную новость. Впервые человек полетел в космос! И этим человеком стал наш советский лётчик-космонавт Юрий Алексеевич Гагарин!
Мы все были в таком восторге! Не просто там хлопали в ладоши, а кричали:
– Ура! Ура, ура, ура! В космос полетел! В космос! Скоро все будем летать в космос! Куда хочешь!
Мы же ещё не изучали астрономию в 3-м классе, и нам казалось, если один человек полетел в космос, то и другие смогут. А в космосе ты выбирай – куда захочешь, туда и полетишь. Нам так представлялось это. Уж потом мы осознали, когда стали постарше, что освоение космоса – дело совсем не простое, всё очень сложно. Но в тот день был настоящий праздник, большая всеобщая радость, колоссальный подъём.
Рядом стояли первоклассники и наперебой спорили: «На Марсе-то живут марсиане, это понятно. А на Луне кто? Лунатики!!!» – и радостный хохот на весь зал. Это был миг нашего общего счастья!..
Потом по телевизору показывали встречу Гагарина на Красной площади. Идёт по ковровой дорожке человек, рапортует о том, что он сделал, показывали его лицо, открытую доброжелательную улыбку. По радио и по телевизору говорили: важно, мол, что наш парень сделал это! Никто не смог, даже идущие впереди нас Соединённые Штаты, которые мы не могли догнать по производству мяса и молока на душу населения, даже они не смогли запустить человека в космос, а мы это сделали.
Однако нас, детей, прежде всего, волновала романтическая сторона события, радость от того, что теперь мы все сможем летать в космос. Вот это самое главное, а не то, что мы кого-то там победили, кого-то опередили. Детям хотелось приключений, а не победы в какой-то там гонке. Я, конечно, не обратил внимания, что шнурок на правом ботинке космонавта развязался, как теперь это муссируют. Разве в шнурках было дело?!
Учитель пения Виктор (к сожалению, не помню его отчества и фамилии) был особенной личностью, в моем представлении – классическим музыкантом: он всегда был одет в чёрный костюм с галстуком-бабочкой. Волосы у него были волнистые и длинные, доходили до плеч, что было большой редкостью в то время. Наш учитель музыки, пожалуй, был похож на этакого богемного музыканта. Он играл на скрипке, так как рояля у нас в классе не было, на ней же аккомпанировал нам, когда мы пели обычные детские песни, которые он с нами разучивал: «У дороги чибис», «Бескозырка белая…», «То берёзка, то рябина»…
Да, это великолепная песня – «То берёзка, то рябина»! Учитель наиграет на скрипке – мелодия очень трогательная и красивая! Кому-то из детей эти уроки казались несерьёзными, они были не склонны к музыке, занимались, чем хотели, шалили. Они говорили, что этот учитель похож на Сверчка из мультфильма про Буратино – и правда, схожесть была! Мне же всегда было интересно его слушать, а скрипка в его руках просто пела! Я сидел на второй парте, слушал внимательно, стараясь вникнуть в каждое слово учителя, запомнить мелодию, с удовольствием пел.
Кроме того, учитель приносил проигрыватель на урок и включал для нас пластинки с хорошей оркестровой или фортепианной музыкой: «Вот послушайте, как красиво!» Я не могу вспомнить точно весь репертуар, но это была популярная классическая музыка, она привлекала наше внимание, многим нравилась. Мы слушали, например, «Полонез» Огинского, «На тройке» и «Баркароллу» из цикла «Времена года» Чайковского, «Песню Сольвейг» Грига, «Полёт шмеля» Римского-Корсакова, «Танец маленьких лебедей» Чайковского и много других произведений. Учитель нам немножко рассказывал о композиторах – особенно нас увлекал его рассказ о детстве «вундеркинда» Моцарта и о дьявольски виртуозной игре Паганини…
Он немного рассказывал и о самих произведениях, то есть, по сути дела, преподавал музыкальную литературу. Позднее я это понял, учась в музыкальной школе. Обычная задача учителя пения была только в том, чтобы выучивать с нами определенные песни, поэтому предмет и назывался «пение». Однако наш учитель мыслил шире, чем составители тогдашней учебной программы. Во время, которое оставалось от разучивания песен, он знакомил нас с классической музыкой, учил её слушать, терпеливо и доходчиво приобщал к музыкальной культуре. А те, кто петь не любили, тоже радовались, что можно просто послушать пластинки, и, например, рисовать что-нибудь в это время. Учитель никого не одёргивал: в классе тишина, дети слушают хорошую музыку и впитывают её, сами того не ведая…
Сначала я пел со всеми вместе, но как-то учитель сказал: «А вот ты, Коля, спой-ка этот куплет, как запевала, один, а припев уже весь класс подпоёт». Я встал и спел, мне очень понравилось это, я же ещё с детского сада и с домашних «застолий» привык солировать. Это я – всегда пожалуйста! Я спел, учителю понравилось. Пятёрка!
Однажды наш учитель музыки специально пришёл на родительское собрание и, как мама мне рассказывала, настоятельно советовал ей:
– Вашему сыну надо обязательно учиться в детской музыкальной школе, у него очень хороший слух, он точно поёт. Голос, может, и не сильный, но мальчик очень точно интонирует (т.е., «попадает в ноты») и ритм прекрасно чувствует, музыку запоминает хорошо, у него великолепная музыкальная память.
Он очень рекомендовал мне поступить в музыкальную школу. Мог ли я подумать тогда, что музыка станет главным делом моей жизни?!
Глава 5
В прекрасное Далёко я начинаю путь…
И вот мать решила, что с четвёртого класса я буду ходить в музыкальную школу, если, конечно, поступлю в неё. Тогда музыкальных школ было немного, поступить оказалось совсем непросто – конкурс среди желающих составлял в среднем 11-12 человек на место, по классу баяна – ещё больше.
Мать много рассказывала мне об отце: он очень хорошо пел и аккомпанировал себе на гармошке, а мечтал научиться играть на баяне, который он не мог купить по бедности, такие инструменты стоили дорого. Кто с фронта привёз, у того и были баяны, а так купить баян было трудно – дорого! Может быть, мне хотелось осуществить мечту моего отца?
Мамин брат, мой дядя Витя, бывал у нас каждую неделю, ходил пешком: от улицы Мельничной до нас недалеко. Приходил он даже не столько к нам, не к сестре Кате, нашей маме, сколько к своей маме, бабе Юле, приносил ей гостинцы, всё время сидел рядом. У нас-то, мальчишек, терпения не хватало тогда её выслушивать – у нас шаранки, друзья или кино, у нас «шило в заднице», а дядя Витя её выслушивал, сам рассказывал, что она спрашивала, даже денежек ей немножко давал.
Как-то он подозвал меня к себе и говорит:
– Коля, мне Катя сказала, что тебе рекомендовали поступить в детскую музыкальную школу, и тебе нужен баян. Я готов тебе помочь, но сначала ты должен поступить в эту школу. Я хочу быть уверенным, что инструмент, который стоит серьёзных денег, будет тебе нужен и полезен, а не будет валяться без дела. Значит, мы так договоримся: ты поступаешь в любую детскую музыкальную школу, и если поступишь, мы купим тебе баян.
Мама узнала, где конкурс поменьше по классу баяна, и мы с ней поехали на экзамен в детскую музыкальную школу №1, в Воробьёво. Многие дети пришли на экзамен с баянами, играли какие-то пьесы. Я думал, конечно, их-то примут, а я ни на чем не умел играть, только на расчёске. Поэтому был уверен, что шансов у меня никаких, но потом выяснилось, что играть ничего и не нужно. При поступлении проверяли музыкальный слух и память, чувство ритма и так далее – повтори мелодию голосом, прохлопай в ладоши ритм по памяти. Сказали, чтобы я отвернулся, две ноты какие-то взяли на пианино: «Сколько нот ты слышишь? Спой эти нотки», – и так далее.
Когда я вышел, у меня мать спросила:
– Ну, как там?
– Да не знаю я, как. То, что они меня просили, я всё делал, а правильно или нет, они не говорили, и я не могу сказать.
Мать поехала в музыкальную школу через неделю, когда там вывесили списки принятых детей, вернулась радостная:
– Ура! Колька, ты поступил! Третий в списке!
Я, помню, сильно удивился: ведь только похлопал, потопал, попел что-то. А там были ребята, которые играли на баяне, но их почему-то не приняли. Я не понимал, как произошло такое чудо, но был горд и очень рад.
Дядя Витя выполнил свое обещание: повёл нас с матерью в большой универмаг выбирать баян. А не догадались позвать кого-то, кто умел играть на баяне и мог посоветовать в выборе инструмента.
– Какой баян тебе нравится? – спросил дядя Витя.
– Вон тот! – показал я пальцем, потому что этот баян был зеленый, перламутровый, красивый очень. Однако он оказался не тульский, а кировского производства, немножко глуховат, но это я уж потом узнал. А так он мне очень понравился, я ведь выбирал инструмент по красоте.
– Ну, этот, значит этот. Ну-ка сыграй!
Нажал на кнопку, растянул меха – и всё, я же не умел играть. Говорю:
– Мне он очень нравится, красивый такой…
– Будешь учиться? Серьезно будешь учиться? – уточнил дядя Витя.
– Конечно, буду.
И баян мне купили!
Я учился пять лет в детской музыкальной школе. Моим педагогом по классу баяна был Юрий Германович Сорокин – хороший учитель, терпеливый, сдержанный. Придёт какой-то ученик в музыкальную школу, например, не выучив уроки, учитель, конечно, его поругает, но раз уж человек пришёл в школу, педагог позанимается – пусть хоть на уроке ученик поучит, а потом ещё и дома, чтобы сдвинуться с места.
– Главное – сдвинуться с места, потом самому понравится, – любил он повторять. – Вот увидишь, мы пройдём этот сложный период разучивания, а потом тебе самому понравится.
Помню, как много позже, работая над песней Таривердиева «Там, где сосны, где дом родной…», прозвучавшей в фильме «Большая руда», я спросил маэстро:
– А вот там, в конце, орган звучит?
– Нет, – ответил Микаэл Леонович, – там готово-выборный баян, но партию эту, верно, я писал для органа!
Про готово-выборный баян я уже знал, но никогда его не видел,
Вернусь ко времени учёбы в музыкальной школе. Там хорошо познакомиться с кем-то из ребят, друзей завести было некогда: приходишь, как правило, на занятие со своим педагогом – 45 минут. Потом какой-то общий урок, где одновременно собирались все ученики одного класса, хотя играли на разных инструментах – сольфеджио, например. Успеваешь только написать диктант, расскажут что-то новое по теории, споёшь по нотам незнакомую мелодию, получишь оценку – и свободен. Или урок по музыкальной литературе идёт – там тоже не предполагалось какого-то общения между учениками, сидим и слушаем биографию композитора, его музыку, педагог укажет какие-то её особенности и так далее.
Мы вроде знали друг друга-то по имени и фамилии, представляли, кто как учится, кто может хорошо написать диктант по сольфеджио или сыграть заданную пьесу, но дружба, как в школе, не складывалась. С Лёшей Земляным, например, мы сидели рядом на занятиях по сольфеджио. Причём, диктанты я писал быстро, почти не задумываясь, и всегда получал пятёрки – Лёша иногда у меня подсматривал, но нечасто. Нам хотелось вместе закончить урок и идти домой вместе, о чём-то говорить… Но занимались мы у разных педагогов по баяну, были неплохо знакомы, но более близкая дружба не возникала, мы просто не имели возможности хорошо узнать друг друга.
Бывали у нас также и отчётные концерты, где мы должны были показать, чему научились за какой-то период – за четверть, полугодие или за год, я сейчас не могу точно вспомнить наши отчетные периоды, давно это было, более полувека минуло, я же окончил музыкальную школу в 66-м. На эти концерты приглашали и родителей. Мы очень волновались, прямо-таки дрожали перед таким выступлением: надо было выйти одному на сцену и сыграть три пьесы. Казалось бы, что такого страшного, но волнение, помню, было сильным, ведь в зале сидели педагоги, родители, а ты выходишь на сцену один, кланяешься и сам объявляешь: «Черни. Этюд». Как в фильме «Приходите завтра»: «Исполняет Бурлакова Фрося!». И понеслось…
Первый этюд – на беглость пальцев. А второй – аккордами играть, – это отдельно, такое, собственно говоря, развивающее упражнение на баяне. А дальше надо сыграть третью вещь, ее выбирал сам ученик по собственному вкусу и по совету педагога, который что-то сам сыграет, возьмет пьесу прямо с листа, спросит: «Нравится? Будешь играть?» Но ему-то что не сыграть, он же консерваторию окончил, а как я сумею выучить и сыграть – вот в чем вопрос! Это произведение, как правило, оказывалось самым сложным технически, хотя оно мелодичное, мне самому нравится. Все ученики очень волновались, бывало, играешь-играешь, вдруг – бац! – запнулся, остановился на каком-то месте, оно сходу не получилось. Тогда лучше уж играть пьесу с начала, с этого же места всё равно не сыграешь, опять обязательно запнёшься, уже известное дело.
Я окончил музыкальную школу с отличием, как и некоторые другие ребята, проучившиеся пять лет вместе со мной. Толя Останин, с которым мы вместе поступали, тоже окончил с отличием, но на год раньше нас. Он позже продолжил обучение в консерватории. Витя Соболев очень хорошо играл на баяне, все пьесы выучивал чуть ли не моментально! А пальцы на руках у него были просто вдвое длиннее моих. Мне же редко удавалось сыграть серьёзную пьесу безошибочно. Зато у меня оказался абсолютный гармонический слух – об этом мне много позже сказала Александра Николаевна Пахмутова. Благодаря такому слуху и хорошей музыкальной памяти, мне было легко подбирать любые песни для художественной самодеятельности, причём в любой тональности.
PS: Я уже рассказывал, что не помню своего отца – он умер очень рано. Мать работала в три смены, и ей часто было не до нас. Поэтому в моей детской жизни рядом со мной всегда были моя бабушка и мой брат. Очень рано ему довелось стать старшим мужчиной в доме: чинить забор, пилить и колоть дрова, таскать воду с колодца, красить дом…Но вынужденная склонность к физическому труду постепенно стала для брата потребностью. Его друзья – парни с нашей улицы – часто помогали ему. А меня он отгонял, оберегая мои музыкальные пальцы от травм.
До определенного возраста Вовка не особо интересовался мной. Всё изменилось, когда я ему понадобился. К этому моменту я заканчивал 3-ий класс музыкальной школы, неплохо играл на баяне и рано научился подбирать на нем любые песни.
У Вовки образовалась своя компания, где он был лидером. Это было время, когда вся молодежь бредила песнями Высоцкого, Визбора, Галича…
Будучи человеком энергичным, предприимчивым и разбиравшимся в радиотехнике, Вова облазал все авиационные свалки Пустошь-Бора и Минеева, набрал кучу всевозможных запчастей и собрал из них работающий магнитофон. Как он раздобыл магнитофонные записи песен всех своих кумиров – это мне неизвестно. Гонял эти записи безбожно, и невольно мы выучили слова почти всех бардовских песен. На стене у нас испокон веков висела старая семиструнная гитара с бантом. Мама показала нам 4 главных гитарных аккорда на этой семиструнке: малая «звёздочка», большая «звёздочка», баррэ и обратную лесенку. Этого нам тогда за глаза хватало.
–Давай, Кольдяй, учи меня играть на шестиструнной гитаре, чтобы серьёзные песни играть можно было, – заявил Вовка однажды своему брату – шестикласснику, никогда этой гитары в руки не бравшему.
–Но я же не умею!
–Вот заодно и сам учиться будешь.
С Вовой – как в армии – не поспоришь. Пришлось учиться.
Так как пальцы мои для гитары были еще слабы, самому мне играть удавалось с трудом. Брат же ждать не хотел. Пришлось придумать свой особый способ обучения игре на нашей старенькой гитаре. Начали с песни «Люди идут по свету». Вова очень постарался и разборчиво написал на листке через строчку весь текст песни. А я в пропущенных строчках вставил номера аккордов. Сами же аккорды были зарисованы на отдельном листе и пронумерованы. Вовка старательно выучивал эти аккорды на гитаре. Это был самый долгий и мучительный этап обучения. Но наступил момент, когда я разрешил ему попробовать совместить игру и пение. Это не сразу, но тоже стало получаться. К концу 10-ого класса в его репертуаре было уже достаточно много песен.
Надо сказать, Вове не чуждо было некоторое пижонство. Едва научившись играть на гитаре, он решил придать ей европейский, битловский вид. Он выкрасил всю гитару черной масляной краской, а по краям бережно провёл белую полосу. Теперь она выглядела шикарно, но… звук потеряла, хотя и не совсем.
Глава 6
Девчонки, девчонки, ну в чём ваш секрет?..
Яркие эпизоды в школьной жизни во многом для меня связаны с девочками – они меня интересовали всегда, причём, только красивые. Такой уж я эстет уродился, хотя сам-то из себя довольно невидный. На других пацанов девочки заглядывались, а я на себе их внимания не ощущал. Потом мне говорили, мол, такая-то в тебя была влюблена, и эта в тебя была влюблена в школе, а я их не знал и даже не замечал. Мне интересно было самому выбирать тех, кто мне нравится, то есть исключительно очень красивых девочек.
Самая первая из них была Мила Страдомская (а может, Стародомская). Она училась в параллельном классе, в 1«Б», вместе с Лёней Банщиковым, моим двоюродным братом. Конечно, я ему ничего не говорил о своей влюблённости. Впервые я увидел Милу в актовом зале, там что-то происходило, праздник по поводу годовщины Октябрьской революции, возможно, нас в октябрята принимали, а она сидела совсем неподалёку, через три или четыре кресла. Лицо её ярко выделялось для меня среди всего пространства зала. Казалось, что вокруг него никого и ничего нет, только она, её смеющиеся глаза, её смех… Рядом с ней расположились, наверно, обожатели-пацаны, дёргавшие её за светлые волосы (у неё были такие очень милые хвостики), ухаживали в основном в такой форме, а я даже этого был лишён. Зато я мог смотреть на неё без всякого риска, что на меня тоже обратят внимание, иначе я просто сгорел бы от своей застенчивости, только издали мог наблюдать. Мила, конечно, была очаровательная девочка, и её имя ей удивительно подходило. Я даже знал, где она живёт: выходишь от школы налево, к 28-у магазину, напротив которого были два двухэтажных дома, как сейчас помню, вот в одном из этих домов она и жила. Первые два класса она училась в нашей школе, и я мог иногда её видеть, это было большое счастье.
А потом она исчезла. Как я ни старался, не мог ее найти и очень переживал. В конце 3-го класса я как-то пришёл к Банщиковым и увидел только что принесённую фотографию Лёнькиного класса. Поскольку я часто гулял в их дворе и знал ребят, что учились в его классе, мой интерес не был подозрительным. Разглядывая фотографии, я собрался с духом и спросил нарочито небрежным тоном, как бы невзначай: «А вот у вас во втором классе девчонка симпатичная была, её почему-то нет на этой фотографии». «Милка, что ли? А они давно переехали», – так же небрежно сказал Лёнька и отмахнулся. Всё, переехали, значит, всё…
А влюбленность моя ещё долго не проходила, я всё еще надеялся, что Мила как-то появится, вернётся, года два еще поджидал… Не появилась. Когда я ходил в музыкальную школу в Воробьёво, всё думал, что, может быть, прохожу где-то неподалёку от её дома, вдруг встречу её! Кто знает? Я не знал. Ещё несколько лет Мила мне снилась, как бы не желая уходить из моей жизни.
Много позже, уже учась в институте, я увидел её однажды. Праздновали чью-то комсомольскую свадьбу в институтской столовой, а я туда ненадолго приходил поиграть на баяне. Мила была там, я её сразу же узнал. Ну, узнал и узнал… Убедился, что она жива и здорова, всё так же красива, весела – и слава Богу. И жизнь продолжалась дальше. Но в моей памяти она так и осталась первой любовью, очень светлым воспоминанием.
Хочу добавить, что встреча с Милой в моей жизни задала мне чувственный и эстетический камертон девичьей – и вообще, женской – красоты в этом мире. И, хотя влюблялся я довольно часто, но скоро понимал, что это милое, волнующее чувство – всего лишь влюблённость, увлечение на 3-4 месяца или недели, которое остывает, не закрепляясь в сердце…
В книге восточного автора я когда-то прочитал, что все мы, вероятно, уже встречали эти же самые образы в одной из предыдущих жизней, и один из таких образов стал там твоей настоящей любовью, с которой ты прожил долго и счастливо и, конечно, умер в один с ней день! А в этой, нынешней жизни (твоей третьей или девятой?) ты неосознанно отыскиваешь ту самую девочку, девушку, женщину, надеясь встретить и сразу узнать.
Группа «Корни» исполняет песню на эту тему. Там в припеве они поют, как бы отвечая на вопрос: «Как в огромной массе девушек найти ту, единственную, которая суждена тебе свыше, суждена раз и навсегда?»… Ответ они дают такой: «Ты узнаешь её из тысячи – по словам, по глазам, по голосу. Её образ на сердце высечен ароматами гладиолусов…».
Здесь, замечу, что обычно считается, будто бы гладиолусы не имеют ярко выраженного аромата. Но в каталогах цветов указан, например, гладиолус сорта Lucky Star, имеющий сильный и приятный запах, так что не стоит однозначно обвинять автора стихов за мнимый поэтический ляп. Возможно, на данный момент цветоводами выведены и другие ароматные сорта гладиолусов.
То есть образ истинной твоей любви уже «высечен» в твоём сердце с самого рождения – надо только не прозевать, узнать, уловить её присутствие именно здесь и именно сейчас. И уже не сомневаться: ты нашёл ЕЁ, это – ОНА! И не смотри больше по сторонам, иначе она мелькнёт и растает в толпе… А тебе останется снова ожидать ЕЁ появления или довольствоваться хоть сколько-нибудь похожим образом.
Моя первая любовь, сама не зная того (да и меня-то самого не зная), явилась мне слишком рано, когда я искренне думал, что она бывает только в книжках или в кино. Но когда мне выдали пионерский значок с девизом «Будь готов!», я уже знал, о чём эти слова, – о том, например, что на свете есть истинная любовь, и к её появлению ты должен быть готов в любой момент твоей жизни. Только не пытайся ловить её руками – выйдет лишь хлопОк, улови её глазами и сердцем, а там – как судьба сложится…
Позже я убедился, что Создатель милостив к человеку: ему даётся ещё одна попытка найти свою судьбу (не из третьей, так из какой-то иной жизни?). Разумеется, если ты это чем-то заслужил, как я думаю. Такой шанс через много лет был предоставлен и мне. Об этом я расскажу позже.
Глава 7
И вообще, ученье – это свет!
Даже в начальных классах любимым предметом у меня была математика. Хотя надо признать, я любил практически все предметы. Я не любил историю, потому что там надо было читать, учить, запоминать даты. История древнего мира интересна, средние века, новое время – тоже ещё интересно. Дальше шел 19-й век – декабристы, разночинцы, ещё ничего… А уж как дело подошло к революции, 20 век, съезды – это кошмар был, так нудно, но всё равно приходилось учить.
Ещё я не любил органическую химию. Почему? Там красивые опыты, а вот теоретическая часть – это же одно и то же! В бесконечных формулах используется всего пять-шесть химических элементов, которые тасуются в разных вариациях в бензольные кольца и тому подобную муру. Такая скука! Полимеры – это, вообще, ужас какой-то, запоминать это всё… А вот неорганическую химию я обожал, особенно опыты. В химическом кабинете были хорошие приборы, много реактивов, администрация школы заботилась о техническом оснащении лабораторий. Химию у нас преподавала Нина Ивановна Давыдова, ставившая все эти волшебные опыты с амальгамой, с соединениями калия и всякие другие. Здорово!
Да, был и ещё один нелюбимый предмет – физкультура. На лыжах я очень любил кататься, довольно быстро бегал. А вот прыжки, беготня, всякие нормативы – скучно. Ещё мы гранату и мяч кидали, здесь самое основное – это бросание мяча на дальность, обыкновенного теннисного мячика, такого жёлтенького. Я с этим справлялся. А вот гимнастика… Школьный спортивный зал, гимнастические снаряды – всё у нас содержали в хорошем состоянии. Но я не был создан для этого «блаженства» – для гимнастики – у меня неважнецки получалось, кроме акробатики, может быть, для неё я был достаточно гибкий и ловкий. А вот на перекладине, брусьях – это не мой конёк, как говорится, не моя стезя, Бог мне этого не дал. А всё остальное… Ничего такого особенного, всё как у всех.
Внизу, на первом этаже школьного здания находились столярная и слесарная мастерские. Причём столярная мастерская была оборудована отдельно от слесарной, обе – оснащены просто отлично, потому что у нас шефом был механический завод, который передал школе полное оснащение слесарной мастерской, всё устроил так, как надо, по уму. Выпускники нашей школы, не думавшие о продолжении образования, могли, минуя ремесленное училище (так назывались тогда нынешние технические лицеи и колледжи), могли сразу устроиться на завод слесарем 1-2-го разряда или учеником. Мальчишки уже имели представление о простейших станках, могли сами выполнять несложные операции. В школе, конечно, только учитель труда запускал станки (техника безопасности!), чтобы, не дай Бог, кто-то палец не сунул в работающие механизмы. С этим шутки плохи – токарные, слесарные станки для обработки металла требуют особого внимания. С деревом-то там всё-таки проще, не так опасно, хотя молотком по пальцам многим попадало.
Мне очень нравились уроки труда, но у меня мало что получалось, меня Бог обделил и в этом плане. Я умом знал, что и как надо делать: надо измерить тщательно (семь раз измерь, один раз отрежь!), аккуратно приладить деталь для обработки, но… Мне, наверно, не хватало то ли терпения, то ли ловкости рук (как говорится, руки не к тому месту пришиты). Ещё с заданиями по столярному делу как-то справлялся, а слесарное … Не получалось все эти детали вытачивать. Вроде с виду всё нормально, а как сдаёшь учителю, он померяет своим штангенциркулем, скажет: «Да…. Ну, четвёрочку-то можно поставить». Это он натягивал мне четвёрку-то. Я и сам видел, что деталь у меня получилась болезная какая-то. Колька Одинцов сдаёт деталь – у него она блестит чинно-благородно. Он рукастый, у него свой талант. Уж не знаю, как он его употребил, но на трудах у него всё получалось отлично. Колька и мне, кстати, помогал: он уже всё сделает и мою деталь подправит, что успеет. «Чего ж ты, – говорит, – здесь напортачил? Надо бы новую заготовку брать, сначала начинать, ты уже запорол эту заготовку, здесь уже лишку выточил, уже не вернёшь…» Что можно было сделать, он мне, конечно, поправлял, а уж что нельзя, так оно и оставалось. Я на труды ходил с удовольствием, в принципе, там всё интересно было, но успехов я там не имел. По труду у меня была трудовая четвёрка, я старался. То есть учитель видел, что я не сачковал, видел, что пыхтел, но вот… не получалось как-то. Пятёрку мне удавалось получить крайне редко, и я очень радовался ей, даже больше, чем пятёркам по математике, потому что она стоила для меня гораздо дороже. В математике просто берёшь и всё решаешь. Задачу ещё только диктуют, а я уже знаю заранее, как её решать, там же не надо ничего выпиливать или вытачивать, только пиши. А на уроке труда надо ручонками работать. Мало ли что ты знаешь умом, как надо делать, а ты сам сделай – руками! Труды мне давались с трудом, прямо скажем. Именно тогда я понял, что и к труду надо иметь талант!
В старших классах у нас появился завуч Марк Зиновьевич Давыдов. То есть он и раньше был в школе, просто он нас не учил. Когда же он стал преподавать у нас физику, мы узнали его ближе и полюбили. Об этом учителе я хочу рассказать подробнее.
Марк Зиновьевич и его жена Нина Ивановна, преподававшая у нас химию, учились в Москве, окончили педагогический институт. Оба они были широко эрудированными людьми, особенно Марк Зиновьевич. Нину Ивановну я знал хуже, после уроков она сразу уходила домой, у нее не было классного руководства. Она отвечала за кабинет химии и очень за ним следила (за сложной аппаратурой и химическими реактивами), и наш кабинет химии был одним из лучших в городе.
Марк Зиновьевич работал завучем, тоже не имел классного руководства, но кроме уроков вёл ещё физический кружок. А самое главное – он был настоящий заводила, любил внеклассную работу. После уроков Марк Зиновьевич азартно играл с нами в волейбол – как в спортзале, так и во дворе школы, активно «поднимал» нашу самодеятельность.
Кроме того, Марк Зиновьевич глубоко знал и любил литературу и русский язык. Как-то он решил проверить наши знания по русскому языку с помощью дореволюционного диктанта, где использованы слова чеховского и даже более раннего времени. Он предложил:
–До конца урока остаётся пятнадцать минут. Всем, кто хочет получить пятёрку по физике, предлагаю написать диктант из одного предложения. Тому, кто допустит меньше пяти ошибок, я поставлю пятёрку в журнал. Кто не хочет участвовать, не участвуйте, можете делать своё домашнее задание, только никому не мешайте. Итак, кто хочет получить пятёрку, приготовьте листочек, напишите свою фамилию и имя.
Кто же не хочет получить пятёрку по физике за одно предложение?! И сразу – лес рук, все подняли руки, вплоть до двоечников. А чего? Он же не угрожал, что тем, кто сделает больше пяти ошибок, поставят двойку по физике. То есть ты участвуешь в соревновании на пятёрку, и больше ты ничем не рискуешь. Написать одно предложение – и пятёрка по физике! Даже можно допустить четыре ошибки и все равно получить пятёрку. Кто не согласится? Конечно, все согласились, все, как один, подняли руки.
–Все готовы? – продолжил Марк Зиновьевич. – Ну вот, пишите… Оценивать буду не только орфографические ошибки, но и пунктуационные тоже по нашим нынешним правилам, которые вы все, по идее, как девятиклассники, должны знать, уже русский язык, в общем, пройден, литературой занимаетесь, сочинения пишете.
И он, заложивши руки за спину, конечно, прямо по памяти, диктует, причём говорит медленно, как положено, чтобы мы успели подумать:
–На колоссальной дощатой террасе, близ конопляника, мачеха подьячего, веснушчатая Агриппина Саввична, потчевала винегретом коллежского асессора Фаддея Аполлоновича. Всё! Сдавайте листочки, кто написал.
Ну, я писал, не задумываясь, и сдал листок, как и все. Наши девчонки-зубрилки учились хорошо, но они всё по стандарту добросовестно учили, а в этом диктанте почти не было стандарта. Тут надо было просто знать, как это пишется, надо просто много читать и видеть глазами эти слова, здесь никакие правила тебе не помогут. «Аполлоновича…» почти все написали наоборот – два «п» и одно «л». А у меня на печатные или на написанные слова зрительная память хорошая, поэтому я, даже не зная правила, так напишу какое-либо слово, как прочитал его (тогда книгам и газетам можно было доверять). Ну, повезло. У меня и без этого стояли в журнале пятёрки по физике, эта-то мне и не особо нужна была, но любопытно же. Всё-таки диктанты я в основном писал на пятёрки, редко когда четвёрку получал. Вот Марк Зиновьевич пролистал наши листочки, пометил что-то в них и говорит:
– У вас только один Сметанин получает сегодня пятёрку, а остальные – увы…
Из пятёрочниц никто не возмущался, они хорошие девчонки-то, только попросили:
– А можно посмотреть?
Громче всех кричал троечник Васька Журихин, по-моему:
– Не может быть! На «четвёрку-то» я написал!
– А у тебя, Василий, – ответил учитель, – восемь ошибок!
– Не может быть!
– Но это, увы, так, Вася, – продолжил он. – Я когда в параллельном классе давал этот диктант, там был установлен рекорд – четырнадцать ошибок орфографических, я запятые у них даже и не засчитывал, бог с ней, с пунктуацией. Но четырнадцать орфографических ошибок в одном предложении – это многовато. Вот, я пишу это предложение на доске – сами сверяйте.
– Читайте книги, читайте! Читайте больше, потому что всё в школе изучить невозможно, русский язык очень труден тем, что его надо понимать, чувствовать и помнить. Почему это слово так пишется? Да просто потому, что именно так сложилось, так пишется, и всё.
Я-то как бы родился в русском языке, в нем купался, и у меня нет проблем, память за меня работает. Знаю, многие молодые журналисты, например, пишут с ошибками, и этому не удивляюсь даже. Почему? Книги читают мало, всё больше в интернете сидят. Заглянул и я в интернет, почитал там статьи и ужаснулся: сплошь одни орфографические ошибки, причём в редакционных статьях! Я даже не говорю о том, как письма пишут или комментарии какие-то. А вот взять статью профессионального автора, и там – орфографические ошибки. Да не одна ошибка, их там десяток и больше. О пунктуации и речи нет. Ну как так можно?
Теперь молодые люди и дети сидят в интернете вместо того, чтобы читать книги, особенно прежние издания – тогда ещё настоящие редакторы и корректоры были. А чтение в интернете не способствует улучшению грамотности, потому что там – каждый сам себе редактор – как написал, так и хорошо для него. Там русскому языку научиться нельзя, вот неграмотность и нарастает, как снежный ком. Если ты интуитивно чувствуешь, ты напишешь, как надо, а если не чувствуешь…
Вообще-то, надо признать, что русский язык действительно очень сложен, там множество исключений из правил, его надо как-то упрощать. Любой язык развивается с течением времени. Установили правила, то есть формализовали русский язык не так давно, в середине XVIII века (первая «Российская грамматика» М.В. Ломоносовым опубликована в 1755 году). В других европейских языках – то же самое. Если читать современному французу или англичанину тексты из их книг XII или XIV века, они немного поймут, как и мы без специальной подготовки не понимаем старославянский язык – и тут, и там нужен перевод! Ещё царским правительством была задумана реформа русского языка, но не проведена. В 1918 году её провело уже советское правительство, кое-что упростили: убрали с конца твердые знаки, было два или три варианта «и» – заменили на одно. Куда их столько? То есть кое-что упростили, сделали написание более современным. Сейчас, видимо, наступило время, когда надо подумать об упрощении тонкостей, уменьшить число исключений.
С одной стороны, я понимаю, что русский язык надо приблизить к сегодняшней жизни, упростить. А с другой стороны, меня как поборника родного языка коробят некоторые нововведения: докУмент, кофе среднего рода… «Тебе тут звОнят», – говорят, причём на каждом шагу. Искореняй – не искореняй, а из поколения в поколение одно и то же. Это значит, таким путем идёт сейчас развитие русского языка.
Мне повезло, у нас были хорошие учителя по русскому языку. Марк Зиновьевич тоже ориентировал нас на грамотность, за что ему отдельное спасибо.
Именно учитель физики Марк Зиновьевич Давыдов приохотил нас к туризму, научил бережно относиться к природе, оставлять место стоянки или ночёвки в чистом виде, убирая за собой мусор и закрывая дерном кострище. Летом, в июне, Марк Зиновьевич увозил нас куда-нибудь на сборы, всем компасы выдавал, учил нас читать и составлять карту местности, ориентироваться по ней. У нас не было никаких шефов, помощников, нас всему учил Марк Зиновьевич единолично.
Мне памятен областной туристический слёт близ железнодорожной станции Красносельское Ивановского района, это было летом 1967-го. Туда прибыли ребята из нескольких десятков школ Иванова и других городов нашей области. Наша команда тогда хорошо выступила по ориентированию, первого места, конечно, не заняли, но в пятёрку-то лучших вошли. Марк Зиновьевич считал, что это большой успех, потому что наша школа впервые участвовала в таких соревнованиях. Думали, если мы в десятку войдем, это будет хорошо. У нас команда физически довольно слабая была, мы плохо бегали, а остальное – чтение карты, расчёты, азимут – выполняли хорошо. И девчонки у нас не были спортсменками, тоже не выиграли свой старт.
Кроме того, на слёте проводились конкурсы по приготовлению пищи, по оказанию первой медицинской помощи, по установке палаток на время, по топографии, проверяли, правильно ли подготовлен и разведён костер, как убран бивуак после нескольких дней нашей жизни в лесу, нет ли мусора…
Я участвовал в двух конкурсах – в ориентировании и установке палатки. Мы ставили классическую палатку, а там всё зависит от правильной растяжки дна. Однако натянуть хорошо и закрепить веревками полотнища палатки у нас как-то не получалось, всё равно где-то чуток перекашивало, провисало. Тренировались, конечно, но немного, и конкурса этого не выиграли. А кострище у нас было «по науке», проверяющие хвалили, как и походную стряпню наших девчонок. Правда, спортивная составляющая нашего выступления была так себе… Но 5-е место среди 43-х школ области – это было здорово! Конечно, Марк Зиновьевич нам помогал и подсказывал, а главное – привил нам на всю жизнь навыки бережного отношения к природе, к лесу. Срезанный заранее для костра дёрн укладывали на место, предварительно это место полив. И за это ему большое спасибо.
Однако особенным этот слёт был не только поэтому. Много лет спустя, когда у меня появились близкие друзья-студенты с разных факультетов пединститута, мы как-то разговорились о своих школьных годах, и вдруг выяснилось, что почти все они – и юноши, и девушки – в то лето тоже там были, выступали каждый за свою школу. У меня сохранилась фотография с того слёта – на ней кто-то узнал ребят из своей команды, кто-то – учителей из своей школы, а кто-то – того, с кем не был знаком, но кто почему-либо на этом слёте запомнился.
Вот так мы и разминулись тогда, чтобы встретиться через много лет и по-настоящему подружиться – и Лена Алексеева, и Женя Смирнов, и Серёжа Шадрин, и, наконец, девушка, ставшая моей мечтой….
А сейчас подрос наш старший внук, Олег, и, как ни странно, тоже ходит в походы – с ребятами из своей секции скалолазания и своим любимым наставником. Жизнь продолжается!
Глава 8
Завтра, скорей наступай!..
Я жил в Слободке – микрорайоне Пустошь-Бора, состоявшем из пяти параллельных небольших Слободских улиц. Моя была 3-ей, Третьей Слободской, дом 4. А 5-я Слободская заканчивалась четырёхрядной берёзовой рощей, за которой проходила железная дорога Иваново – Ленинград. Сразу за железной дорогой находился небольшой продуктовый магазинчик, получивший у местных жителей имя Железка, а справа от Железки располагался госпиталь ветеранов войны.
Сама железная дорога уходила на Кинешму, имея на станции Строкино ответвление на Ленинград. Но Кинешма для нас была ближе и понятнее: в ту сторону мы часто ездили по грибы обычными зайцами – кто на подножке, кто в вагоне, а кто и на крышах вагонов. В Кинешме был тупик, так как ветка упиралась в Волгу, а моста не было. «Чай, когда-нито построят!» – рассуждали кинешемцы. Но, пока суд да дело, они там сами построили паром и для людей, и для машин. Ведь на другом берегу Волги Ивановская область тогда имела Заволжский, часть Кинешемского и Сокольский районы. К тому же по Волге тогда ходило довольно много речного транспорта, как грузового, так и пассажирского.
Вернусь к Пустошь-Бору. Процентов на восемьдесят он был застроен одноэтажными деревянными домами с разномастными крышами: соломенных крыш уже не было, но были дома, крытые дранкой, толем, черепицей и даже железом. В Пустошь-Боре жили в основном выходцы из окрестных деревень. По деревенским привычкам многие держали коз, овец, свиней, кур, кроликов, домашнюю птицу. Отовсюду слышался зычный крик петухов – с утра до вечера. В садах-огородах преобладали вишни, яблони и груша-дичок. Для овощных грядок во двориках места было маловато, но о кормилице-картошке никто здесь не забывал – в недавно отгремевшую войну она спасала от голода. Тополей и осин здесь почти не было, зато росли клёны, берёзы, ясени, липы, кусты «китайской смородины» и, конечно, повсюду красовалась сирень. Наверное, поэтому, Пустошь-Бор мне всегда казался уютным, как родной дом. Таким он, собственно, и был.
Улицы чаще называли на советский лад, но были и милые сердцу названия: Солнечная, Прохладная, Хвойная…. Кстати, Спортивная улица вела к стадиону «Локомотив», к Интердому и Куваевскому лесу с его мачтовыми соснами и укрывшейся за ними рекой Талкой. Туда мы любили ходить купаться, катя перед собой большие надувные резиновые камеры. Одна такая камера могла удержать на воде до пяти детей!
Северный аэродром был главным для нас «поставщиком» этих камер. Мы с мальчишками любили ходить на аэродромную свалку: там можно было найти много интересного: катушки с медной проволокой, куски плексигласа («самолётное стекло»), различные конденсаторы, индикаторы, сопротивления, разноцветные обрезки проводов. Из этих тонких проводов многие делали оплётки буквально для всего – от ручки ножа до заборных досок. Девчонки оплетали стальные и пластмассовые кольца для волос и ремешки для платьев, а их отцы и дедушки с помощью таких проводков чинили им порванные сандалии, и это заодно было как бы украшение.
Для мальчишек главными трофеями были здесь кусочки магния, иногда довольно большие. Магний – металл достаточно мягкий, удобный для распиливания ножовкой. Из полученного порошка или мелких кусочков можно было устраивать огненные «спецэффекты», что мы и делали под восторженный визг девчонок!
А детей-то тогда в каждой семье было от двух до четырёх-пяти человек. В конце 1-й Слободской жила, например, семья Сивенковых, где детей было аж 12 человек, а глава семьи работал настоящим извозчиком! Он свою лошадь в небольшой конюшне держал, во дворе своего дома, и иногда катал желающих на телеге, а мы орали и визжали от восторга! В общем, скучно нам не бывало. Тем более, вечерами то там, то сям собирались взрослые компании, пили вино и громко пели песни, главными «хитами» из которых были «Вот кто-то с горочки спустился» и «Каким ты был, таким остался…». Компании эти собирались как «по поводу», так и без. Да и нам иногда с этих столов что-нибудь вкусненькое перепадало! Заодно и песни запоминались.
К сожалению, многие в Пустошь-Боре страдали болезнями почек и частой зубной болью, и эта боль в поликлинике №8 лечилась «кардинально» – удалением одного-двух зубов. Врачи говорили: «Не пейте воду из ваших колодцев, в ней железа много, скоро беззубыми останетесь». Позже стали делать скважины, забирая воду с двадцати и даже сорока метров глубины, но большинство обходилось колодцами ещё довольно долго…
Вот так и жила наша Слободка с её солнечными, пушистыми, уютными улицами, какими я их и запомнил на всю жизнь.
Я не видел, чтобы в Пустошь-Боре где-нибудь враждовали и дрались «улица на улицу», как это было в некоторых других местах города, судя по многочисленным рассказам «очевидцев». Вот возле танцплощадок разборки нередко случались, но подобное, говорят, бывало всегда, ещё «до исторического материализма». А в целом город был мирный и спокойный, несмотря на слабую освещённость улиц.
Дом №20\17 на Индустриальной улице я хочу выделить особо. Ведь главным развлечением моего школьного возраста было гуляние в «компаниях», и прежде всего, во дворе этого дома. Банщиковым недавно дали там квартиру, поэтому мы стали называть этот дом «банщиковским».
Большой, но уютный и зелёный двор их нового дома имел квадратную форму. Там была, например, площадка, где мы гоняли в футбол, то есть в мини-футбол, конечно. Играли и в волейбол в кругу, в «картошку», и в городки. Повсюду тогда популярны были массовые уличные игры: в ловички, в чижика, в сыщики-разбойники, в прятки… Вечерние игры были в подъездах – в жмурки или в колечко, например. А можно было поучаствовать и в чём-то менее массовом, выбрав какую-то группу людей, с которыми особенно интересно общаться тебе, и ты интересен им – фильмы до хрипоты обсуждали, тихо пели под гитару и т.д. С мая начинал работать наш кинотеатр-балаган, каких по городу было тогда немало. Вход – 1 рубль (с 1961-го года – 10 копеек). Клуба и общественной бани в Пустошь-Боре не было – ходили в Хуторовскую или в Посадскую баню, где были огромные очереди. Зато там продавали газировку, с сиропом и без.
Другим излюбленным местом моего гуляния была обширная изумрудная лужайка на 1-й Слободской улице перед домом моей тётки – тёти Шуры Октаевой, сестры моего отца. У них с мужем, дядей Ваней, было четверо детей – Галя, Люся, Толик и Таня. Дети из соседних домов любили собираться здесь и играть. В паре десятков метров от этого дома начинался Куваевский лес, а ещё чуть дальше находился Интердом.
К тёте Шуре часто приезжала на весь день её сестра (и моя тётя) – Мария Михайловна Сметанина. Она уже была на пенсии. Имея больное сердце, она много времени проводила в прогулках по Куваевскому лесу. Как она великолепно пела, чисто и сильно! Дама она была представительная, с высшим образованием, и потому её все звали по имени-отчеству – Мария Михайловна, фамилию Сметанина она при замужестве на более звучную – Кременецкая – менять не стала, говорила: «Братья мои, к сожалению, умерли, а дочки – обе Кременецкие, по отцу. А фамилия наша должна жить. Надеюсь, Катеринины сыновья, Володя и Коля, меня поддержат, как-то украсят наш род Сметаниных – ведь в нашей деревне Иванцево, за Северным аэродромом, чуть не полдеревни – Сметанины, а наша семья там была всегда самая певучая!» Из двоих её дочерей – старшей Ларисы и младшей Любы – к тёте Шуре часто приезжала Люба. Она была нашей сверстницей, и гулять с нами ей было интересно и весело, как и нам с ней.
Всё же во дворе у Банщиковых мне гулять казалось немного веселее, да и детей там была тьма-тьмущая! Там я бывал всё чаще и чаще. Как говорил Лёня Банщиков, «здесь и пацаны веселее, и девчонки красивЕе!» Я же с детства дружил с двоюродными братьями и сестрой, потому тоже обосновался по их новому месту жительства, метрах в трёхстах от нашего дома.
Особой моей любовью пользовался Универмаг в этом самом доме, ведь там продавали перочинные ножички в немалом ассортименте. А что такое хороший перочинный ножик для мальчишки – это просто нечто особенное! Он даже ночами мне снился: тут и два лезвия, и шило, и штопор (а что? а вдруг?..), и маленькие ножницы, и отвёртка!
Во дворе, среди вишнёвых деревьев, располагался столик, где мужчины сражались в домино, в основном, «козла забивали», тогда это было повальное увлечение. А в сторонке стояли простые лавочки без спинок, где шла тихая, но не менее азартная игра – в шахматы. (Шашки были почему-то непопулярны, разве что «в Чапаева»). Игроки-шахматисты – одна или две пары – садились верхом на лавочку, раскладывали между собой шахматную доску и погружались в битву. Сначала я только смотрел на доску, ничего не понимая. Потом кто-то из Банщиковых, по-моему, Гера, показал мне, как ходят разные фигуры и даже поиграл со мной немножко. У Банщиковых все четверо детей умели играть в шахматы, их научил отец, дядя Тима.
Ему выдали, как ветерану и инвалиду войны, сначала трёхколёсную, а затем и четырёхколёсную инвалидную коляску-автомобиль с открытым верхом. Иногда он предлагал детям, своим и чужим, прошвырнуться по Пустошь-Бору. Ну, а кто же откажется! Детей набивалось человек десять-двенадцать, восторгу нашему не было предела – визг, хохот, пыль… Правда, тётя Валя ругала мужа за это: а вдруг кто вывалится – греха не оберёшься! Но Тимофей, алтайский казак, только смеялся белозубым ртом: пусть, мол, крепче держатся!
Дядя Тима, самый главный наш шахматный ас, имел большой опыт. Он был самоучкой, не знал никаких теорий, но играл очень изобретательно, придумывал нестандартные ходы, какие-то «левые» выпады. Теперь я стал следить за игрой более осмысленно, старался понять логику их ходов, опять пробовал играть сам с Герой или с другими ребятами. Шахматами тогда увлекались многие – и дети, и взрослые мужчины, простые работяги, и не только в нашем дворе. Я помню, например, что были специальные столы в парке имени Степанова, мы даже ходили туда играть блиц-партии на деньги. Договорился ты, скажем, по рублю за выигрыш – деньги кладёшь под доску, соперник тоже. Кто выигрывал, забирал из-под доски два рубля. Святое дело! Но это было много позже, а тогда я еще только приглядывался, наблюдал.
У Банщиковых же мне дали почитать замечательный «Учебник шахматной игры» Эмануила Ласкера, немецкого математика и шахматиста, в течение 27-ми лет сохранявшего титул чемпиона мира по шахматам. Я не поленился почитать ее, позаниматься по ней, познакомился с теорией дебютов, далее рассматривалась середина игры, и потом шли задачи. Великолепная была книга с иллюстрациями.
Уже учась в институте, я увлекся шахматами более серьёзно, даже ходил в кружок для студентов, где преподавал мастер спорта Н.Овечкин, рекомендовавший этот учебник Ласкера всем кружковцам. Тогда я обратился опять к Банщиковым, но Гера сказал:
– Кто-то его у нас взял и не отдал, заиграл. Не знаю, кто. Не ты?
– Я?! Нет. Я его уже лет пять не видел. Как жалко!
В их семье все играли в шахматы, причем Лида играла посильней, скажем, чем Витька, а Лёня и Гера – примерно на одном уровне, чуть-чуть посильнее сестры, думаю. Там же, во дворе у Банщиковых, я начал играть в шахматы с сильными соперниками, например, с Вовкой Дунаевским со второго этажа, у него было чему поучиться.
В общем, этот двор был для нас, по сути, клубом по интересам: в его большом подвале-бомбоубежище домоуправление установило бильярд и настольный теннис! Была там и небольшая сцена для драмкружка и проведения новогодних ёлок с гостинцами от того же домоуправления. Вечерами тут крутили на патефоне пластинки, и под патефон мы понемногу учились танцевать – девчонки с удовольствием тоже здесь собирались. Никто не стеснялся, чужих-то почти никогда здесь не было, всё было уютно и привычно. Следили за порядком здесь взрослые мужчины – особенно дядя Саша Ребёнков, умелый и добрый человек, который мог быть и строгим. Кстати, с первых тёплых дней мая и всё лето он нас водил в велопоходы на Уводь-строй, а при надобности помогал быстренько починить велосипед. Мы его очень уважали и любили. Некоторые даже не хотели больше ездить в пионерлагеря – здесь и так весело было!
Впоследствии, когда подросли мы сами и наши старшие братья, которые брали проведение походов на себя, мы уже сами могли собраться и уйти в поход на два-три дня, в Красносельское или на тот же Уводь-строй, или на Харинку. Профкомы близлежащих заводов нам материально помогали, снабжая нас пачками какао «Золотой ярлык», сгущённым молоком, банками тушёнки, покупая новые футбольные и волейбольные мячи, гамаки и даже пластиковые ласты для купания. Немудрено, что к нам старались примкнуть и другие девчонки и мальчишки Пустошь-Бора. Приходилось проводить некий не очень строгий отбор: ведь далеко не всех родители отпускали без собственного присмотра, а нам, «старожилам», это совсем не нравилось…
PS: Как ни странно, но в те годы я жил как бы двойной жизнью, до поры – до времени даже не осознавая этого.
Год совместных мучений с гитарой очень сблизил нас с братом и даже сдружил. К тому же Вова доверял мне, отличнику (на 4 года младше его!), проверять свои школьные сочинения, чтобы я исправлял его грамматические ошибки. И тут я с удивлением заметил, что не просто проверяю, но с увлечением читаю его сочинения. Писал он просто здорово!
Теперь брат старался таскать меня с собой повсюду, в том числе и в свою компанию. Мне было с ними интересно: они любили ходить в походы, брали с собой гитару. И там, у костра, выученные песни приобретали для меня какую-то новую, не известную мне жизнь. Но это вечерами. А днём, как и заведено в походах, Вова и вся компания загорали, купались и играли в волейбол…
Надо сказать, что по натуре Вова всегда был большим фантазёром и выдумщиком. Будучи ещё старшеклассником, он придумал и организовал ни много, ни мало – тайное общество! Называлось оно «ОСА» (Общество Семи Апостолов), имело свой Устав, насквозь романтический, состоящий из семи «Заповедей». Помнится только одна из них: «Ненавижу всяческую мертвечину, обожаю всяческую жизнь!» Как вы можете заметить, Маяковского Вова хорошо знал и любил.
В этом обществе мне отводилась скромная роль «писарчука»: я должен был красиво написать эти семь Заповедей для каждого члена «ОСЫ». И внутренне я этим гордился!
Тогда я ещё не понимал, что эта сторона моей жизни плавно переводит меня из детства в юность…
Глава 9
В синем небе я вижу зарницы золотых пионерских костров…
Каждое лето я ездил в пионерские лагеря, начиная с 1-го класса, а после 7-го класса последний раз отдыхал в качестве воспитанника. Мать у меня работала на фабрике имени Крупской, от этого предприятия был один лагерь – это в Малинках, справа от дороги на Родники. Лагерь у нас был маленький, всего два отряда, расположенный на опушке леса, можно сказать, вписан в лес. Там же, но слева от дороги, располагался лагерь от фабрики Балашова, где отдыхала Ира Фёдорова, моя будущая судьба, но тогда я ещё не знал этого. Помнится, мы ходили в тот лагерь, наша сборная по футболу играла с балашовцами. Там отрядов было гораздо больше, и пацаны взрослее, они наших обыгрывали, но и наши ребята были крепкие, оказывали сопротивление-то.
Я тоже в каких-то играх участвовал, не помню, в каких именно, но точно – не в футбол. Я, конечно, хотел бы бегать и гонять мяч, но… Дело в том, что у меня ноги особенно подвержены травмам, любой удар по ноге – и она болит дня три, если не больше, это – следствие ревматизма, папина наследственность. Впоследствии я предпочитал баскетбол или волейбол, где хотя бы по ногам не били, уже хорошо. В волейбол я очень любил играть, но поскольку у меня рост небольшой, предпочитал, играть без сетки, просто в кругу. Была еще игра, которая называлась, кажется, «Картошка»: сначала играют в кругу в волейбол, тот, кто уронил мяч, садится на корточки в центр круга. По тем, кто в центре, можно было лупить мячом, но если кто-то из сидящих поймает твой мяч, то он встает в круг, а ты садишься в середину и получаешь изрядные удары мячом от друзей. Это тоже было любимое занятие, вид волейбола, в общем-то, хотя и без сетки, совсем неспортивная игра, но весёлая. Однако более других игр я предпочитал настольный теннис, это была моя любимая игра и в студенческие годы, да и позже.
А еще мне нравились пионерские песни, они создавали бодрое настроение и не только.
У нас в лагере был вожатый с хорошим музыкальным слухом, студент педагогического института, вот с ним мы пели без всякого сопровождения «Ах, картошка-тошка-тошка, пионеров идеал-ал-ал…», «С утра сидит на озере любитель-рыболов». Мы тогда ходили в поход, пусть недалеко, километра за полтора, разводили там костёр, сидя вокруг него, пели эти песни и чувствовали себя пионерами. И неважно, что потом мы возвращались опять в павильоны, в свои палаты, всё равно в этом ощущалась романтика, мы были причастны к чему-то такому хорошему.
Очень хорошие и красивые песни писала А.Н. Пахмутова на стихи Н.Н. Добронравова, например, о пионерском лагере «Орлёнок»: «На небосклоне привычных квартир пусть загорится звезда Альтаир…» Романтика вошла в нашу жизнь с того момента, когда мы стали пионерами, а вместе с ней – какие-то новые песни, новые мечты. В пионерском лагере мы вставали в строй по отрядам и пели «Взвейтесь кострами, синие ночи…» или «Вот и стали мы на год взрослей…», «На прививку, третий класс!», «Мы шли под грохот канонады…» и другие отличные песни.
Я иногда помогал музыкальному работнику, но выяснилось, что я играю лучше его и подбираю сразу же песни в любой тональности, а он пыкает-мыкает и не те аккорды играет, фальшиво получается. Я кому-то, пионервожатому что ли, сказал об том, что наш баянист неправильно играет. Тогда мне предложили: «Ну, так сыграй ты!». Баянист дал мне свой инструмент, я сыграл несколько песен. «Да, здорово!» – сказали и на следующий год меня пригласили туда «за харчи», то есть просто дали мне бесплатную путёвку – житьё, кормёжка, природа, но и играть на баяне. При подъеме флага я играл пионерский гимн – «Взвейтесь кострами, синие ночи…». Ну, и с самодеятельностью, конечно, занимался, как положено: «Паровоз по рельсам мчится, на пути котёнок спит…» или «У дороги чибис» и тому подобное. Для меня эти детские песни были уже, как семечки. Правда, кто-то пытался петь непростые песни, «Школьные годы», например, это сложная песня, И.О. Дунаевский всё-таки!
Самое главное – подготовить и провести смотр художественной самодеятельности, это была моя основная задача на очередь. А в день посещения непременно должен был состояться концерт, который готовили пионервожатые. Они отбирали тех, кто поёт или танцует, всё организовывали, а я только репетировал музыкальные номера, потом аккомпанировал в концерте. В общем, с этой работой справился нормально.
После восьмого класса я уже поехал в лагерь музыкальным работником официально.
Пригласил меня как-то и наш обком комсомола в лагерь комсомольского актива, что устроили на реке Ухтохме, у деревни Маслово. Там был разбит палаточный городок, где проводили семинары. Туда завозили дней на пять комсомольских активистов, проводили с ними занятия, они уезжали, и приезжала другая смена. Я там был массовиком-затейником, то есть проводил какие-нибудь конкурсы. Мне дали книжку, где было множество разнообразных конкурсов и игр для школьников, я это освоил. И потом, там не было радио, просили поиграть иногда на баяне, например, вечером танцы устраивали. Танцы? Пожалуйста! А что я играл? Песни опять же. «У тебя глаза, у тебя глаза \ Синие,\ Как в степи гроза, как в степи гроза, \ Сильные…», как сейчас помню, эта песня оказалась самой популярной в то лето вместе с песней «А ты люби её, свою девчонку!»
Много лет спустя, помню, возникла у меня идея сделать прикольную (но и полусерьёзную) программу для нашего трио «Меридиан» под условным названием «Песни тоталитарного времени». Идея всем понравилась, а практически осуществить её нам помог Александр Краснов, один из журналистов и ведущих Ивтелерадио. Был 2002-й год, близилось 80-летие пионерской организации, и Саша предложил перейти от идей к делу – снять в студии телепередачу «Пионерские песни». Далее могли последовать, например, и «Комсомольские песни». Для съёмок я написал на бумаге названия песен, слова куплетов и тональности, петь решили по одному куплету. Прорепетировав разок в Сашином кабинете, мы двинулись в телестудию, где для съёмок уже было всё готово – и палатка, и "костёр", и «брёвнышки». Уселись поудобнее и, помолясь, начали. Сняли всё с одного дубля! Затем была незримая для нас работа телевизионной группы, и передача вышла в эфир 19 мая, в День 80-летия пионерской организации.
Это была программа о нашем детстве, его чистоте и неповторимости. В ней не было никакой политики, прославления компартии, а слово Родина никто не отменял и не отменит. На том стоим. Песни нашего детства свободны и независимы от чьих-либо пристрастий, они парят в недосягаемой синеве неба, солнца и дождя, далеко-далеко… Они неуловимы и бесплотны, им наплевать на то, что о них думают и к чему хотят пристегнуть, как бы кому этого ни хотелось. Их дом – наша память и наше сердце, если, конечно, они есть.
Глава 10
Дом восходящего Солнца
Сама по себе пионерская и комсомольская жизнь в школе меня занимала мало, я никогда не был в Совете пионерской дружины или своего отряда. В старших классах было предложение выбрать меня комсоргом – по той простой причине, что я отличник и, вообще, веду активную школьную жизнь, участвую во всех делах. А потом кто-то правильно сказал:
– Ну, он же единоличник, а ему придется организовывать нас, разве он будет этим заниматься? Вот ты будешь этим заниматься, скажи?
Я поднялся:
– Нет, честно, не буду, – говорю. – Не потому, что у нас ребята и девчонки плохие, нет, все хорошие, но у меня друзей по всем классам полно, очень много, я просто не смогу ограничиться одним классом. И потом, у меня столько интересов! Одни олимпиады по предметам чего стОят. А ещё у меня нет организаторского таланта, ну, просто нет его!
Я не стал говорить всем, что я общешкольный, вообще, космополит какой-то. Ко всем девчонкам и пацанам, в общем-то, хорошо отношусь, но организовывать…
– Ну, предложи кого-нибудь!
Я предложил. В общем, нашли человека. Так я не стал комсоргом.
Однако моя школьная общественная жизнь била ключом, и самые яркие впечатления связаны у меня, конечно, со сценой. У нас, в 37-й школе, был хороший, большой и удобный актовый зал, мест на 250, я думаю.
Впервые я вышел на эту сцену еще в 4-м классе, как чтец. Надо сказать, что в школьные годы я был очень застенчивым ребёнком, меня еле уговорили прочитать стихотворение «Бородино» М.Ю. Лермонтова: «Скажи-ка, дядя, ведь недаром…» Я был единственным в классе, кто мог прочитать достаточно громко и целиком такое большое стихотворение в таком большом зале, как наш. Девчонки могли выучить и прочитать, но голоса у них слишком тихие были, поэтому они сразу наотрез отказались, никто из них читать не хотел. Всё, что я помню об этом выступлении, – ни разу не забыл слова, хотя и жутко волновался. Уж как я рассказал, не знаю, похлопали, и ладно, но главное – я нигде не сбился. Это был единственный раз, когда я со школьной сцены читал стихи.
Очень мы любили тогда ставить «сценки» – и там без меня не обходилось…
В 6-м классе я дебютировал уже как музыкант, на баяне играл в ансамбле и подыгрывал солистам. Все учителя и ребята знали, что я учусь в музыкальной школе, играю на баяне, значит, я должен помогать классу и школе с художественной самодеятельностью. Я очень рано начал сам подбирать песни, естественно, на свое усмотрение и собственный слух, всем они нравились, всё подходило. Но надо же аккомпанировать, а не солировать, и я научился этому именно в 37-й школе. К старшим классам я практически всей школьной самодеятельности подыгрывал и в танцах, и в песнях, но сам пел только в хоре вместе со всеми. А выйти и спеть что-то самому, сольно? Нет, ни за что! Я стеснялся, очень стеснялся.
Именно в самодеятельности у меня появился еще один друг – Коля Власов, симпатичный, улыбчивый парень из параллельного класса. У него был великолепный, красивый от природы и сильный голос, он исполнял песни из репертуара Муслима Магомаева, а я играл ему на баяне, подбирая уже сложные вещи, глубокие, настоящие эстрадные. Он пел много песен популярного тогда композитора Арно Бабаджаняна – «Королеву красоты», «Не спеши», «Чёртово колесо», «Голубая тайга», «Лучший город земли» и другие. Здорово удавались ему и ранние песни Давида Тухманова. С ним я выучил все эти песни, они и мне пришлись по душе.
Коля был еще совсем молодой парень, лет четырнадцати – пятнадцати, но все признавали его лучшим певцом у нас в школе.
Наши шефы – механический завод – стали привлекать нас в свои концерты, в том числе и по области. Не скажу, что тембр Колиного голоса был очень похож на тембр Муслима Магомаева, но и хорошо, что не похож. Зачем? Он пел своим голосом, красивым, сильным и чистым – мне нравилось, не говоря уже о зрителях.
Однажды, когда профком механического завода (наши всегдашние шефы) организовал выезд кружка своей самодеятельности в подшефный для них Сокольский район, им пришла в голову мысль взять Колю Власова и меня с собой. При этом – лететь на самолёте! Мы с радостью согласились, даже не догадываясь, какие нас ждут там испытания…
Ещё перед концертом в селе Гари к нам подошёл подвыпивший местный парень и «душевно» предупредил, что после концерта они устроят нам нехилую ответную драку «за прошлый раз». Мы не знали, что там было в прошлый раз, но сразу догадались. Председатель профкома сказал нам, чтобы после концерта мы с Колей на улицу не выходили. И мы могли лишь слышать, как яростно дерутся и матюгаются на тёмной улице шефы с подшефными. До аэропорта нас провожала вся местная милиция на мотоциклах. В общем, еле ноги унесли оттуда – кто с фингалами, а кто и без оных… Вот такая смычка города и деревни!
Мы с Колей подружились, я ходил к нему в гости много раз. Его мама меня всячески привечала, она же видела, что мальчик-то я правильный, отличник и всё такое, то есть матом не ругаюсь, не пью, не курю… Но в конце 9-го или 10-го класса Коля… женился! Жену себе выбрал из своего класса. Доучивался он уже в какой-то школе рабочей молодежи.
К тому времени мой брат Вовка привлёк меня в школьный ансамбль. Его друг, Сергей Кочетков (среди друзей – Петрович), окончил музыкальную школу по классу контрабаса, у него свой контрабас был. Другой друг, Женя Поляков, играл на пианино, а мой брат – на гитаре. Сергей предложил:
– Вовка, давай ансамбль сделаем! Женька Поляков играет на пианино, ты, значит, на гитаре, твой брат – на баяне, я – на контрабасе…
А я их младше на четыре года: я был в шестом классе, а они в десятом, у них был ещё впереди 11-й класс. Целых два года у нас существовал инструментальный ансамбль: без единого микрофона, без усилителей, зато всё живьем, всё живое. Мы аккомпанировали певцам и пьесы еще играли. К примеру, играли «Русский сувенир» Андрея Петрова, такая эффектная вещь. Эту пьесу исполнял оркестр под управлением В.Людвиковского, мы её содрали приблизительно, как могли, потому что там-то целый оркестр, а у нас гораздо меньшие возможности. Особенно хорошо у нас получались пьесы А.Петрова из фильма «Человек-амфибия»: «Уходит рыбак» и «Эй, моряк!». Подбирали сами, без нот. Это всегда шло на «ура».
Коля Власов, которому сначала я на баяне играл, потом пел под наш ансамбль песню «Лучший город земли» из репертуара Муслима Магомаева. Кто-то из старшеклассников пел песни из репертуара Жана Татляна, например, «Фонари», «Осенний свет», «Воскресение». Девчонки замечательно пели песни из репертуара Ларисы Мондрус, Эдиты Пьехи и Майи Кристалинской – «Гололёд», «Иду я к солнцу» и другие модные эстрадные песни, а мы всё подбирали, что они пели, и даже такие сложные вещи, как «Танцующие Эвридики»! Последнюю песню я обожаю до сих пор! Это был мой первый опыт игры в ансамбле.
При этом игру на баяне для всей школьной художественной самодеятельности никто не отменял. Было лестно, что ко мне обращаются с просьбами старшеклассники, приглашают меня. Благодаря музыке, я стал человеком вне своего класса, общешкольным музыкантом, хотя со всеми одноклассниками старался держаться ровно, дружелюбно, ссор и раздоров ни с кем не бывало. Впрочем, некоторые девчонки считали, что я зазнаюсь – и оценки у меня отличные, и по всей школе зовут выступать. Но я не чувствовал, что чем-то хвалюсь, зазнаюсь, просто помогаю всем, кто меня зовёт, просит подыграть.
Естественно, я и своему классу играл, но особо талантливых певцов и певиц, а тем более тёплых и постоянных компаний среди одноклассников, у меня не было. Могу здесь добавить, что был капитаном команды КВН своего класса и участником школьной команды КВН. Но и это не всё! Володя Таланов, мой одноклассник, позвал меня в кружок бальных танцев во Дворце пионеров, и я почти полгода туда ходил, но это у меня не очень-то получалось, как я ни старался – всё партнёрше на ноги наступал и не в ту сторону поворачивался. Мой прогресс шёл слишком медленно, и я ушёл оттуда – облом…
Теперь-то эта неудача вызывает лишь ностальгическую улыбку, а тогда меня этот случай расстроил, но и научил кое-чему.
PS. Семья Поляковых жила в трехкомнатной квартире на втором этаже дома, где на первом этаже жила сестра моей матери с семьей. Отец Жени, Александр Николаевич, участник Великой Отечественной войны, полковник запаса, работал директором завода «Ивтекмаш». Мать, Нина Ивановна, подполковник медицинской службы, была главным врачом психиатрической больницы в Богородском. В то время они жили, по нашим понятиям, весьма обеспеченно – большая трёхкомнатная квартира с хорошей обстановкой, основательный гараж, машина «Москвич-407». И книги! У них было очень много книг, что тогда редко встречалось в нашем рабочем местечке Пустошь-Бор.
Женя часто по-соседски приходил к моей родне, там-то мы с ним и познакомились. Он был старше меня всего на три года, но относился ко мне даже, я бы сказал, заботливо, как старший брат. Несмотря на разницу в возрасте, постепенно мы стали близкими друзьями. Он везде таскал меня с собой, просто говорил: «Коль, пошли-пошли со мной!» И я знал, что будет интересно и весело, что узнаю что-то новое и удивительное, что на любой мой вопрос у Жени есть готовый ответ. Если ему надоедало втолковывать мне очевидные для него вещи, он очень смешно отшучивался, у него было отличное чувство юмора. Однако никогда он меня не использовал, мол, сбегай туда-то, принеси то-то, никогда не кичился тем, что у него что-то есть, а у нас, в более бедной семье, этого нет.
Женя знал, что я хорошо учусь, читаю книжки – возможно, ему это во мне и нравилось, потому что он и сам любил читать. По своей природе Женя был очень аккуратный человек. Когда он давал мне книгу почитать, то всегда обложит ее газетой или другой бумагой, скажет: «Только ты не снимай эту обложку, так в ней и читай», – чтобы не закапал.
Особая статья – это общение Жени с младшими детьми. Он здорово умел разговаривать с ребятами любого возраста, быстро находил с ними общий язык. Если он кого-то ругал, то объяснял, за что же именно, но никому даже шлепка не давал, ничего подобного. Умел убедить детей – видно, внутренне он как-то любил и уважал их – такая натура была, педагогическая. И его признавали за авторитет, слушались. Кроме того, он был заводилой в спортивных играх – это у него получалось лучше всех, он и меня старался приобщить. Ещё он учился играть на пианино, у него был инструмент и приходящий педагог, три года с ним занимавшаяся.
Нина Ивановна, мама Жени, держала хозяйство в образцовом порядке. Почти всё свободное от работы и домашних хлопот время Нина Ивановна отдавала чтению книг. Любила играть в карты – и меня приучила. А Женя этого занятия не признавал, он во всём был какой-то особенный. Пока мы дружно играли в Кинга или Покер, он куда-то исчезал часа на три-четыре. Нина Ивановна к этому давно привыкла. А я обычно спрашивал: «Жень, а где ты был?» «На Лысую гору ходил», – отшучивался друг. «А где она?» – не унимался я. «Как-нибудь сходим, она совсем рядом». Однако к этой теме больше не возвращался. Видя, что я обиделся, он улыбался: «Вот станешь взрослым – сам туда дорогу найдёшь, увидишь. Не торопись туда, всему своё время». Вечно у него были какие-то секреты – при его-то открытости, лёгкости характера. Если вдуматься, тайна его личности так и осталась для меня до конца неразгаданной. Знаю одно: на формирование моей личности Женя оказал влияние, которое трудно переоценить.
Наша дружба продолжалась и в институтские годы, только я учился на матфаке, а Женя – на филфаке. Несмотря на свой общительный характер, он был из тех людей, которые не любят массовых сборищ, предпочитают побыть в одиночестве. В нашу компанию, в основном, матфаковскую и очень музыкальную, он иногда заглядывал, какое-то время общался с нами, но вскоре незаметно исчезал – думаю, хаотичный шум его утомлял. А вот петь он любил – это, возможно, его и держало около нас. Женился он на студентке математического факультета, Наде. У них родились два сына.
Окончив институт и отслужив в армии, Женя начал преподавать русский язык и литературу в школе. Вначале у него были 6-е и 7-е классы. Доверяя моей грамотности в русском языке, он иногда просил меня помочь ему при проверке диктантов, изложений и сочинений, особенно, если эти работы проводились в нескольких классах в один день. Честно скажу: проверить огромное количество сочинений 6-х или 7-х классов – работа долгая и утомительная, и Женя очень ценил мою помощь. В качестве отдыха и разрядки мы читали друг другу «перлы» из этих работ, которые специально выписывали в отдельные тетрадки. Например, встречались такие предложения: «Летя на юг, птицы долго летели над морскими волнами, но затем скрылись за углом». Или: «Птичка так усердно трудилась над постройкой гнезда, что даже вспотела». Хохотали мы с Женей так весело и громко, что Нина Ивановна не выдерживала и заглядывала к нам из кухни узнать, не случилось ли чего, а потом смеялась вместе с нами.
Женю интересовали многие спортивные игры: волейбол, баскетбол, настольный теннис, мини-футбол и т.д. Больше всего он любил баскетбол, у него там многое получалось. Движения его были гармоничны, ловки и непредсказуемы для соперников, его координация меня восхищала. Хорошо был поставлен бросок с любой дистанции, он отлично знал не просто правила игры, но и их нюансы. Вот поэтому Женю часто приглашали не только играть, но и судить матчи в нашем городе и области.
В школе, где он преподавал, Женя не отказывался заменять заболевших учителей физкультуры. Он имел прочный авторитет среди учителей, а дети просто ходили за ним по пятам. Скольких ребят он приобщил к занятиям спортом, играя часами с ними после уроков то в баскетбол, то в волейбол, то в теннис!
В середине 80-х Женю и его жену Надю пригласили на Мадагаскар преподавать на французском языке школьную программу. Там он купил себе отличную фотоаппаратуру, много снимал в этой африканской стране. По возвращении в Иваново он серьёзно увлёкся фотографией, читал о ней, ходил на выставки, пробовал себя в различных жанрах съёмок. Особенно хорошо получались у него фотопортреты. Прошла одна выставка с его участием, затем другая – и на обеих он оказался в центре внимания.
К сожалению, в трудные 90-е годы работа учителя порой оценивалась не по его квалификации, не по творческому подходу к преподаванию и даже не по тому, как он научил детей своему предмету. Важно было, сколько учитель собрал денег на ремонт школы, причем эти деньги нигде не фиксировались. Евгений Александрович ушел из школы, потому что не мог собирать деньги на ремонт, не мог их требовать с родителей учеников, которые сами едва выживали. На этой почве возник конфликт с руководством. Женя заявил, что больше ни часа не будет работать здесь, и перешел в Школу Национальных культур.
Спустя три года мой друг решился открыть собственную фотолабораторию, что позволяло ему и творчеством заниматься, и денег подзаработать. Будучи свободным фотографом и имея высокую репутацию, Женя был в городе просто нарасхват – тут и массовые фото выпускников школ, и родительские заказы во время детских конкурсов, и свадьбы, и юбилеи. Во многих семьях хранятся фотоснимки, сделанные Евгением Александровичем Поляковым. Искусству фотографии Женя обучил своего младшего сына Сергея, передал и знания, и секреты, и аппаратуру.
В те годы мы с Женей виделись всё реже и реже, но при встречах по-прежнему чувствовали себя старыми друзьями – и так оно и было, вплоть до его внезапной кончины. У него было больное сердце, и врачи категорически запретили ему сильно волноваться и – что самое для Жени неприятное – заниматься спортом. Вот этот запрет Женя принять не смог. Помню, уговаривал его послушаться врачей, но куда там! «Я ведь понемножку, и только в волейбол…» При каждой возможности он заглядывал в спортзал химико-технологического университета и включался в игру.
Как-то я увидел его в городе, на площади Ленина. Он сидел на лавочке, очень бледный, бисеринки пота покрывали его лицо. Он мне слабо улыбнулся: «Ну, как дела?» Я ему: «Женя, да у тебя же приступ! Давай, я вызову «скорую»!» «Не надо, – говорит, – сейчас отдышусь и поеду домой…» А жили они тогда уже не в Пустошь-Боре, а в районе кинотеатра «Лодзь», он так и прожил всю жизнь в Иванове, за исключением нескольких лет работы на Мадагаскаре.
…Через несколько дней Жени не стало: у него случился очередной сердечный приступ прямо в физкультурном зале химуниверситета. Конечно, вызвали «скорую», но на сей раз врачи помочь ему не успели. Меня не было рядом в те его последние мгновения, но надо же случиться такому – вместе со своим другом там оказался Рома, мой сын. Вот они – причуды Судьбы.
В городе Женю знали и любили, очень многие люди пришли проводить его в последний путь – те самые, кому он сделал в жизни немало добра и кому он раздаривал своё неугомонное сердце, пока оно не остановилось.
Думаю, ивановцы будут его помнить долго. А я… Я не забуду своего друга Женю Полякова уже никогда.
Глава 11
Свой ясный огонь, моя радость, найдёшь без труда
Школьная успеваемость по всем предметам у меня была примерно одинаковая, проще говоря, – отличная. Мне были интересны почти все предметы, поэтому к десятому классу, когда пришло время решать, кем быть, выбор у меня был очень широкий. Педагоги советовали мне самые разные пути.
Например, учителя химии и биологии говорили: «Только медицинский, только медицинский!» И медицинский институт одно время, действительно, стоял у меня на первом месте. Наш класс водили в анатомический театр, чтобы мы знали, с чем имеют дело медики. Это была познавательная экскурсия, и в отличие от одноклассниц, меня вид и запах трупов не шокировал, и вид крови меня тоже никогда не пугает. На раны я и теперь могу смотреть, так сказать, без лишних эмоций. Возможно, у меня и были склонности к медицине, может быть, даже к хирургической работе, однако это осталось непроверенным, потому что врачом я не стал.
Учительница химии считала меня сильным по своему предмету, даже посылала на олимпиады. Я стал победителем на районном и занял второе место на городском туре олимпиады по химии. Но интересна для меня была только неорганическая химия. Поэтому и заниматься этой наукой в полном её объёме мне в голову не приходило.
Учительница русского языка и литературы утверждала, что моё будущее должно быть связано с литературой.
– Это однозначно! У тебя такие сочинения, что преподаватели-филологи, которым я их показывала, сочли, что это написал студент 3-го курса филологического факультета. Работы и безошибочные, и интересные по мысли, особенно на свободные темы.
Да, сочинения типа «Образ Базарова из романа И.С. Тургенева “Отцы и дети”» мне были просто не интересны. Другое дело – написать об Андрее Болконском или Пьере Безухове – вот это занимало меня, это я мог написать. Особенно предпочитал свободные темы. Ну, например, я писал в девятом классе о Первом концерте для фортепьяно с оркестром П.И. Чайковского, описывал свои ощущения от этой музыки, о том, что я могу себе вообразить, слушая её. Музыка многозначна, и человек вправе представлять себе всё, что рисуют его фантазия и настроение.
Собственно, с музыкой был связан ещё один возможный вариант выбора профессии. Тем более что меня всегда тянуло к ней, я часто погружался в неё, слушая классические произведения по радио. А потом руки сами тянулись к баяну, я выходил в сени и, сидя на ступеньке, играл всё подряд – часа три-четыре. И не надоедало!
Мать давала свой житейский совет: поступай куда-нибудь, а музыка так при тебе и останется. И ведь как в воду глядела!
Правда, поступил я не «куда-нибудь», а, скорее, по мечте. Начитавшись научной фантастики, подцепил «богатое» слово программирование, которое магически на меня действовало. Я узнал, что на математическом факультете нашего педагогического института существует специальность «Математика и программирование», здесь и пришло решение, был найден ответ на вопрос «кем быть?». Тем более что математика была моим любимым учебным предметом,
Конечно, я не собирался быть учителем математики в школе, полагая, что это не моё, а вот стать программистом, за которыми будущее, – это моё!
Итак, окончив школу с серебряной медалью и сдав вступительный экзамен по математике на «5», я стал студентом ИГПИ.
Этот вуз славился не только тем, что в нём ранее преподавал будущий академик А.И. Мальцев. Была и ещё одна слава у этого института, причём народная. Ведь Иваново для нашей страны – не только родина 1-го Совета рабочих и крестьянских депутатов России, но ещё у него была одно немаловажное прозвание – ГОРОД НЕВЕСТ! Действительно, состав населения города был таков, что около 62% его жителей были представительницами хоть и слабого, но прекрасного пола, ибо Иваново было в стране центром текстильной промышленности. Мужчины же оказались волею судеб всего лишь «на подхвате». Тот, кто хочет лучше узнать, почему и как так получилось, может сделать это с помощью соответствующей исторической или справочной литературы, в том числе – в Интернете.
А я сразу обращусь к гендерному составу нашей учебной группы: только пятеро парней (впоследствии четверо), а остальные – девушки.
И всё-таки быть студентом – это здорово, это романтично! Преподаватели – кандидаты и доктора наук, даже и профессура небольшая была. И стипендия у студентов какая-никакая имеется – 28 рублей в месяц (позже – 45р.). Если ты ивановский и живёшь с родителями, жить можно. А у меня ведь ещё был кормилец-баян!
Моя «баянная привилегия» обнаружилась сразу же, в день нашего выезда «на картошку» в подшефный Сокольский район (ну, куда ж от него деться!). В день выезда нам во дворе вуза подали автобус «Кубань» до Кинешмы – а там, мол, на теплоходе до Сокольского. Эх, прокатиться весёлой компанией по Волге – да с гитарой – это ли не романтика!
Однако тут к двери нашего автобуса подошла незнакомая нам девушка и звонко крикнула:
– Эй, на барже! Есть тут Сметанин Николай? – с вещами на выход!
У меня сердце ёкнуло: неужели всё-таки не приняли?.. Но, оказывается, судьба приготовила мне не такой уж и страшный поворот.
– Меня зовут Нина, я из профкома института. Тебя, Коля, оставляют в агитбригаде: недельку порепетируете – и по нашему Сокольскому району ездить будете, концерты давать нашим студентам. Ты ведь на баяне и гитаре играешь – так в анкете сам написал. Это правда?
Я говорю: «Да, немного». А она: нам, мол, и немного сойдёт, у нас народ не капризный, не избалованный. Увидишь – здорово в агитбригаде будет, да и девчонкам на картошке-то веселей с агитбригадой. «Ну, девочки, попрощайтесь с Колей, только не рыдайте – скоро его в вашей деревне увидите».
Староста нашей группы, Лера Евстигнеева, притворно завыла: «Ой, Коленька, да на кого ж ты нас покидаешь! Кто норму-то нам делать будет?» Все захохотали…
Так и расстался я со своей учебной группой на целых два месяца. Сообщение об агитбригаде в Сокольском районе мне напомнило один жуткий вечерок в селе Гари год назад, но я эти воспоминания быстро отбросил: впереди была встреча и знакомство с девчонками и парнями из институтской агитбригады – это вам не механический завод. Но…Справлюсь ли? Там, говорят, из первокурсников-то пока нет никого, а вот баянист нужен позарез, да ещё с гитарой. Нина, сопровождавшая меня в профком, успокоила: «В агитбригаде баянист-то есть, Володя Комаров, второкурсник. Играет здорово, но у тебя же гитара! Целый оркестр будет! А сценки какие у нас! А танцы! А стихи! Всё Сокольское на уши поставим, а то ты чё-то приуныл – зря. Весь вуз тебя увидит!»
Но я был настроен скептически. Гитарист-то я пока никакой, полгода всего и играю на шестиструнке… До этого я три года подыгрывал старшему брату и его друзьям на семиструнке: модные тогда бардовские песни – Визбора, Высоцкого… Брат в агитбригаду свою гитару не даст, это само собой. А моя-то гитарка, купленная в универмаге за 7р. 50 коп. и переделанная на шестиструнку, строит неважно, правда, звучит громко, звонко. Для студента – в самый раз! В общем, сойдёт пока. Добавлю, что на шестиструнную гитару я перешел исключительно ради возможности играть песни «Битлз», и в первую очередь – мою любимую их песню «Can't Buy Me Love».
Скажу сразу, первую нашу агитбригаду в Сокольском я помню не очень хорошо. Вроде всё было неплохо, но я чересчур волновался и потому многих деталей сего похода не помню. Одно наверняка могу сказать: встречали нас везде отлично, кормили очень вкусно и обильно.
Костяк артистов агитбригады состоял из опытных, проверенных бойцов: это и Дима Введенский, и Володя Гришин, и Володя Комаров (математики, между прочим), и Володя Климов…
Ну, а я, только что явившийся «с корабля на бал», подыгрывал девчонкам и парням на баяне всё, что знал и, что самое ценное, перенимал опыт именно студенческих концертов (впереди их была целая тьма!). «Звёздами» этой программы я бы назвал дуэт сценических юмористов Володя Гришин – Дима Введенский. Представленные ими сценки и пантомимы шли под громовой хохот жизнерадостной студенческой публики! Великолепный наш тенор Володя Климов пел в красивом восточном, чувственном стиле, услаждая слух девушек-зрительниц: «…И всё же кто-то гонит коня – упрямо, ждать не хочет ни дня…». Аккомпанировал ему на баяне Володя Комаров (дуэт был спаянный, и я не осмеливался им мешать). Но зато и мы с Володькой Комаровым не ударили в грязь лицом: наш с ним дуэт «Прощай, любимый город» под два баяна трудящиеся студенты встретили на «ура»! А под гитару я пел только «По Смоленской дороге» Б. Окуджавы.
После концерта студенты (в основном, студентки, конечно) провожали нас скромными осенними цветочками, визгом и аплодисментами. Это был успех!..
В таком вот ключе прошли все наши 25 концертов, хотя случались и непредвиденные обстоятельства: в заключительном концерте у Володи Комарова в конце песни сорвался голос – но мы уже привыкли выручать друг друга – Володя Климов уверенно допел песню сольно. Красивая точка в концерте и в наших гастролях!
Родная вузовская газета «За педагогические кадры» отметила в своей заметке этот момент: «Торжество мастерства и взаимопомощи увенчало успех нашей агитбригады в Сокольском!»
PS. После школы мой брат Вова поступил на физический факультет пединститута. Он и там быстро оказался лидером, особенно по части студенческой самодеятельности. К сожалению, качество его игры на гитаре оказалось слабоватым для вузовского уровня. Естественно, он привлек к репетициям и выступлениям меня: и с гитарой, и с баяном. Так продолжалось три года, пока я не окончил школу и не поступил в тот же самый пединститут, но на факультет математики. Любопытно, что мой первый курс совпал с выпускным Вовиным курсом. И так получилось, что в том 1968-м году я выступал в «Студенческой весне» вместе и с математиками, и с физиками.
В те студенческие годы определилась и личная, а впоследствии и семейная жизнь Володи. Уже на первом курсе он познакомился с очаровательной девушкой с филфака, Светой Задоевой, и – влюбился. Прежде Вовина компания состояла исключительно из парней, теперь же в нее влились и девушки – Света и ее подруги, а также наша двоюродная сестра Лида. Вова по-прежнему держал меня к себе поближе, и мне их компания была очень интересна. Они по традиции ходили в походы, пели песни под гитару, но репертуар стал более лиричным…
Подозреваю, что именно тогда он и начал писать стихи…
Дважды мы встречали Новый год в лесу, недалеко от станции Строкино. В первый раз, накануне 31-го, выбрали подходящее место, утрамбовали ногами «танцплощадку», заготовили хворост и дрова для костра. Следующим вечером всей компанией мы отправились на приготовленное место праздновать Новый год. На санках везли провизию, ёлочные игрушки, патефон с пластинками, гитару и транзистор (слушать бой курантов). С погодой нам повезло: был лёгкий морозец, сияла луна. Первым делом зажгли костёр и стали дружно наряжать самую красивую, из окружающих нас, ёлку. Вова нарядился дедом Морозом (весьма символически). В общем, был настоящий новогодний праздник: дружный, шумный, с танцами, песнями и аттракционами. Вдохновившись таким удачно проведённым праздником, мы повторили его там же через год. Обретя, благодаря брату, такой бесценный опыт, я применил его позднее для своей институтской компании – с тем же восторгом, шумом и танцами. Жаль, патефона уже не было…
Но особенно часто я и вся Вовина компания любим вспоминать, как мы отмечали 50-летие Великого Октября. Вова заранее написал подробный сценарий, раздобыл настоящее ружье, к которому изолентой примотал «штык» – большой кухонный нож. Откуда-то раздобыли длинную шинель и старенькую, но настоящую папаху с красной лентой. Дело происходило в квартире Банщиковых. У входной двери стоял «часовой» (Вовка Куликов с нашей улицы). У остальных имелись заранее подготовленные «мандаты». Входя в квартиру, каждый из нас нанизывал на «штык» свой «мандат», и только после этого мог войти. Стол был сервирован на манер 17-ого года: в алюминиевых тарелках лежали крупно нарезанные куски чёрного хлеба, и стояли 3 или 4 бутылки водки, которые для натуральности были заранее откупорены и заткнуты свернутой газетой «Правда». На большой тарелке лежала гора отваренной картошки «в мундире», а в стакане была соль. Так как никого со сценарием заранее не знакомили, стали раздаваться удивлённые и даже недовольные реплики. Как потом оказалось, это была только первая часть вечера: «Разруха Гражданской войны».
Когда все расселись, Вова толкнул речь: «Товарищи, за нашу революцию!» Все встали и спели Интернационал. После чего началось застолье с песнями исключительно Гражданской войны («Вихри враждебные», «Смело, товарищи, в ногу» и т.д.). После этой части всем было предложено покинуть помещение на 15 минут. Через 15 минут все опять расселись по местам, и началась вторая часть: «Восстановление разрушенного хозяйства и НЭП». Стол был сервирован не в пример богаче, да и песни повеселее, про паровоз, например. Третья часть: «Великая Отечественная война» отличалась от первой части наличием на столе «американской» тушёнки и сгущёнки. Пели песни военного времени: «Катюша», «Тёмная ночь», «Смуглянка» и другие. В этой части заводили патефон и танцевали парами. Последние две части назывались «Восстановление разрушенного хозяйства» и «Наше время». Пели песни соответствующих времен, танцевали, в том числе твист. Не заметили, как пролетело 5 часов! Это было круто!!!
Летом, по окончании вуза в 1969-м году, Володя и Светлана поженились и уехали по распределению работать учителями в Красноярский край, в Елань. Там и родилась дочка Наташа. Мы переписывались все те годы, пока они работали в Сибири.
Глава
12
Vivat Akademia! Vivant Professores!
Как я уже писал, преподавательский состав нашего вуза был не только авторитетен, профессионален и уважаем, но и очень интересен нам, студентам, в чисто человеческом плане.
Начну с нашего декана, Евгения Александровича Халезова.
Как большинству из нас, студентов математического факультета, казалось, лучшего декана невозможно даже было придумать. Один мой вузовский друг, Игорь Ильинский, говорил про Евгения Александровича словами Лермонтова: «…слуга царю, отец солдатам». Это была высшая похвала в его устах, обычно скептических и даже саркастических.
Лекции и семинарские занятия Халезова по предмету «Высшая алгебра» я и до сих пор считаю образцом методики преподавания предмета: всё там было продумано, изложено, оформлено на доске идеальным образом. Будучи сам элегантным, аккуратным, подтянутым мужчиной (бывшим фронтовиком!), он в том же духе подавал и свой предмет. Не понять что-либо в его лекциях было, по-моему, просто невозможно: всё доходчиво, в среднем темпе, логично, наглядно, очень аккуратно и просто красиво. Он любил свой предмет и заражал этой любовью студентов. Редкий педагог, лекции которого наши студенты не «закалывали» – и не просто из-за того, что лекцию ведёт глава факультета -, а по причине красоты и понятности изложения материала, по симпатии к педагогу, по глубокому уважению к его личности и высокому профессионализму. У него был очень приятный для моего слуха вариант «волжского акцента»: небольшое, и не нарочитое выделение безударных гласных, особенно звука «о». В наших местах, как известно, этот диалект очень распространён, хотя уже тогда многие ивановцы старались искоренить фирменное «оканье», заменяя его московским диалектом, на котором вещало радио и телевидение Москвы.
Если у кого-то из нас возникали проблемы с учёбой, от внимания Евгения Александровича это не ускользало. Он никогда никого не «распекал», он вызывал студента к себе в деканат на приватную беседу, что-то подсказывал – и всё это не обидно, мудро, по-отечески. А вот насчёт крупных проблем разговор шёл уже более суровый, прямой, хотя и корректный. Неделикатности в общении со студентами он себе не позволял никогда. Мы все его любили и часто вспоминаем в разговорах между собой.
Что для меня особенно дорого, так это почти полное совпадение характеров и методов преподавания и воспитания у моей первой учительницы Веры Васильевны Галкиной в 37-й школе и у нашего декана в ИГПИ, Евгения Александровича Халезова. Мне очень повезло в этом. Огромное им спасибо.
Совершенно противоположной Халезову личностью и абсолютно иной манерой преподавания обладал наш не менее любимый преподаватель математического анализа – Григорий Наумович Золотарёв, колоритнейшая личность. Он глубоко знал свой предмет, но чересчур им увлекался на лекциях. Помнится, перед первым занятием по матанализу наши самые старательные студентки – Ира Яблокова, Лера Евстигнеева и другие наши
потенциальные отличницы – уселись в первом ряду, подобно буратинам, чтобы, не дай Бог, что-то упустить или не расслышать. Наиболее же спокойные и любящие поболтать на лекциях студентки сели ближе к центру аудитории. Мужская часть группы – все пятеро – по привычке расположились на последнем ряду, чтобы в случае скуки сыграть в «балду», «морской бой» (только на бесконечном пространстве – на плоскости, на развёртке цилиндра или тора – «математической баранки»). Ну, сейчас что-то начнётся…
Минут через пять после звонка на вторую пару занятий, когда студиозусы начали понемногу томиться, расслабляться и шуметь, в аудиторию буквально влетел легендарный, но пока ещё не знакомый нам Григорий Наумович Золотарёв – доцент кафедры математического анализа! Один академический час в вузе длится 50 минут. Отдаю должное деликатности, воспитанности и любви к науке нашим девушкам с первого ряда столов. А главное, они проявили самоотречение и удивительную увёртливость во время этого часа. Григорий Наумович обладал буквально бешеной энергетикой, неудержимым темпераментом и явным намерением сказать всё и сразу, причём обращался он даже не ко всей аудитории, а проявлял, так сказать, «индивидуальный подход к личности студента». Это я сейчас поясню отдельно.
Шокировал публику он на первых же секундах той незабываемой нашей первой с ним «очной ставки». Ураганно влетев в помещение, наш доцент скинул с себя пиджак и бросил его в направлении собственного стула. И хотя в целом он промахнулся, но краем своего новенького пиджака всё же зацепился за спинку стула, и пиджак этот, как дрессированный, чудом повис на самом его краю, провисев таким образом всю лекцию. Это был настоящий цирковой трюк – куда там товарищу Саахову с его фуражкой и самому Шурику с его иголкой! После этого с Золотарёва просто глаз не сводили. Вот как надо привлекать внимание к себе и к своему предмету в начале лекции!
Не обращая внимания на небольшой беспорядок в собственном туалете, Григорий Наумович одним прыжком подскочил к доске и наискось начертал там неразборчивыми буквами пару слов, причём пропуски он делал не только между словами, но и между буквами этих слов – просто по наитию. Чтобы мы не очень сомневались, в чём тут суть (а может, и фокус), он громогласно прочитал начертанное им на видавшей виды доске: «Математический анализ»!!!
«Ааааа! – вслух радостно и облегчённо отреагировала на эту «увертюру» наша самая продвинутая и не перегруженная излишней сдержанностью Ира Яблокова. – Так это же матанализ!»
Но Ира рано радовалась своей догадливости: к ней буквально метнулся доцент Г.Н.Золотарёв. Домчавшись до неё почти вплотную (жаль, стол их разделил-таки), он радостно возопил прямо ей в лицо: «Именно! Матанализ, и ничто иное!!! Так себе и запишите!». Мы записали нормальными буквами: повторить золотарёвскую клинопись было просто невозможно – для этого понадобился бы отдельный учебный предмет. Впрочем, «дешифровке» его надписей на доске мы научились на удивление быстро!
Кстати, о первой лекции. После перемены, на начало второго академического часа, в аудитории произошли существенные изменения в расположении студентов по столам: на первом ряду вообще никого не осталось, а геометрический рисунок оставшегося нашего поголовья при виде сверху изображал параболу с вершиной у дальней стенки. Внезапно (как говорила Лера Евстигнеева, «прыжком кенгуру») Григорий Наумович подскочить от доски уже ни к кому не мог – далековато прыгать. Тогда он подключил другой свой излюбленный метод донесения учебного материала непосредственно конкретному зазевавшемуся студенту. Григорий Наумович тихо-мирно шёл вдоль стены, солидно излагая свои мысли – и вдруг, после какой-то выкладки, он резко подскакивал к ближайшему студенту и, наклонившись к нему, громко вскрикивал: « Ведь так?? Ведь правильно??!!» Ошарашенный студент преданно смотрел Золотарёву в лицо, на котором в бешеном темпе вращались чёрные глаза-маслины, и истово поддакивал. Этого преподавателю было пока достаточно: все опять убедились, что спокойно поспать на лекции никому не удастся. Нам же, сидящим на последнем ряду, было относительно спокойно. Постепенно всё утряслось, каждый уже знал свой манёвр. «Привычка свыше нам дана…», как сказал великий русский поэт.
Года через два мы оказались вместе с Г.Н.Золотаревым на Рубском озере.
Там была у нашего института прекрасная база отдыха студентов и преподавателей. Григорий Наумович не раз и не два беседовал там со мной о моём будущем: «Коля, вот вы много уделяете времени художественной самодеятельности, у вас там всё прекрасно получается, я и сам всегда хожу на эти ваши выступления. Но ведь это не профессия, понимаете? Скажу прямо: я хотел бы видеть вас аспирантом на кафедре матанализа. Этот предмет – ваш, я вижу. Но и вы должны больше уделять ему внимания, изучать его шире и глубже. Вашим научным руководителем могу быть я. Вы немного запустили занятия, я знаю, но это не критично. Ещё два года учёбы в вузе, а за это время мы вам поможем как следует подготовиться к поступлению в аспирантуру. Как видите, программистов мы не имеем возможности готовить, но научная база у нас сильная. Ваша склонность к матанализу для меня очевидна, способности тоже. Вам не хватает только времени на то, чтобы им заниматься в полной мере. Подумайте об этом – это очень серьёзный момент в вашей жизни».
Те разговоры на идиллическом бережку Рубского озера прохладным летом 1971-го года я никогда не забывал. Спасибо вам, Григорий Наумович, и низкий поклон в небеса. Но сама судьба не дала мне тогда выбора…
Яркие воспоминания остались и о доценте кафедры аналитической геометрии – Ие Серегеевне Евстигнеевой – одного из немногих наших преподавателей, кого наряду с Е.А. Халезовым можно отнести к тем педагогам, какими мы их представляли при поступлении в вуз: компетентность, спокойствие, концентрация, методичность и серьёзность, доступность материала при всей его сложности.
Эти качества Ии Сергеевны соседствовали с незаурядным чувством юмора, которое, как известно, способно сгладить возникающие в ходе работы небольшие трения между педагогом и студентами. Впрочем, и просто пошутить к месту она тоже любила и умела. Поэтому студенты не только глубоко уважали Ию Сергеевну, но прислушивались к каждому её слову.
Почти у каждого из наших преподавателей была своя особенность, «фишка». В аналитической геометрии часто употребляются вспомогательные символы. Так вот, слово «штрих» она произносила по-немецки: «штрихь». Лично мне, изучавшему в школе немецкий язык, это казалось вполне нормальным и даже обычным. Прочие же студенты, не изучавшие немецкий, не могли к этому долго привыкнуть. Только через месяц никто уже на этот пустяк не обращал внимания – мол, «фишка» такая у педагога. Но вот – не забывается. Лично мне это казалось симпатичным.
Её дочь, Лера Евстигнеева, была нашей старостой – её все уважали и любили. Ну и, конечно, слушались, потому что она всегда говорила «по делу», пропуская всякие мелочи, и умела, как и её мама, подключить юмор в нужный момент. Похвастаюсь тем, что мы были с Лерой в настоящих дружеских отношениях – это, возможно, оттого, что я и она – мы читали почти одни и те же книги, оба были весёлыми и любили пошутить. А вот по части дисциплины наши взгляды не всегда совпадали. Тогда она отводила меня на перемене в сторонку и спокойно объясняла, над чем мне стоит подумать в своём поведении, особенно по части регулярных пропусков первой пары занятий. Я, действительно, ложился спать поздно: ночью самые интересные радиопередачи. К тому же я оказался 100%-ной «совой», а с природой бороться вдвойне трудно. Кое в чём Лера со мной согласилась и пошла на роскошный компромисс: 2\3 моих пропусков она не отмечает, а остальные – отмечает, если речь идёт о важных, сугубо математических предметах. Я же, со своей стороны, обязался изо всех сил помогать нашей группе в художественной самодеятельности и КВН. Обе стороны это устроило на все сто. И ещё я пообещал ей, как родной маме, учиться без троек, чтобы ей за меня лишний раз не заступаться. Это требовало от меня иногда нешуточных усилий, особенно по физкультуре.
А сейчас речь пойдёт о Галине Александровне Горевой. С виду спокойная и даже чуточку как бы стеснительная, но при этом по-честному строгая, она отлично преподавала тот же матанализ – он шёл у нас 3 курса, и потому преподаватели менялись. Галина Александровна была из той небольшой когорты преподавателей, кто в учебном семестре спрашивал и давал «на всю катушку», а на экзамене становился гораздо мягче. Здесь она уже не «строжничала», была справедлива и снисходительна к мелким ошибкам. На экзаменах Галины Александровны троечники часто получали четвёрки, а четвёрочники – пятёрки, причём заслуженные! Она была «наш Суворов»: тяжело в учении – легко в бою. Для молодого педагога такой метод – исключительная редкость! Мы очень уважали её и любили.
И опять же похвастаюсь: я и моя жена Ирина (учившаяся у неё же курсом позже) до сих пор поддерживаем с нею дружеские отношения. Пока два года назад Галина Александровна не уехала к дочери и внукам в США, она неизменно приходила на концерты «Меридиана». Для меня это было дорого. Теперь мы можем общаться только в социальных сетях.
Много было у нас интересных преподавателей – пожилых и молодых, сильных и не очень. Обо всех не напишешь, но и забыть никого из них невозможно. Спасибо вам, дорогие наши преподаватели – и живые, и ушедшие. Мы помним о вас, мы благодарны вам!
Глава 13
Хорошо всего хотеть!
Напомню, что, поступая в пединститут на отделение программирования, я собирался получить перспективную профессию программиста. На оргсобрании студентов и преподавателей в начале 1-ого курса нам было обещано, что вскоре наш вуз будет оснащён техникой, необходимой для обучения этой профессии. В течение 1-ого курса наряду с общематематической подготовкой мы изучали предметы, непосредственно относящиеся к программированию. Однако в начале 2-ого курса стало ясно, что никакой обещанной техники нет и не ожидается, поэтому на повестке дня оставалась только вторая заявленная специальность – учитель математики средней школы. Поскольку всё лето между 1 и 2-м курсом я работал с детьми в пионерском лагере на Рубском озере, и мне это нравилось, то теперь профессия учителя меня не пугала. Но и не особенно привлекала.
А между тем в вузе только что был создан факультет общественных профессий (ФОП). Здесь были кружки по интересам. Это и хор, и танцевальный коллектив, и шахматный кружок, и даже поэтический студенческий театр. И центр тяжести моих интересов естественным образом переместился в сторону ФОПа. Мне захотелось участвовать сразу везде. Разумеется, я не забывал и об учёбе, поскольку от её результатов зависела стипендия.
Теперь по порядку. Хор привлекал меня не только возможностью многоголосного пения, но и общением с многочисленными новыми друзьями. Именно здесь укрепилась моя дружба с Володей Комаровым, а через год произошло знакомство с Надей Финкель, в будущем – женой Володи. Я даже был шафером на их свадьбе. С тех пор Надя и Володя – мои ближайшие друзья и друзья моей семьи, думаю, до конца дней. О нашей дружбе можно написать роман. Но я приведу здесь один только случай.
Я уже был в «Меридиане», собирался на очередные гастроли – и тут позорнейшим образом забыл в продуктовом магазине концертную гитару, а вспомнил об этом только на другой день. Гитара бесследно пропала. По причине тогдашнего тотального дефицита купить другую гитару было просто невозможно. Что делать???
Случайно об этом стало известно Комаровым. Незадолго до этого они вернулись из Алжира после 4-летней работы и привезли оттуда фирменную профессиональную гитару. Через час Володя привёз её к нам домой и без лишних слов и эффектов просто подарил мне: «Тебе она нужнее…» Стоит ли говорить о том, что Володя и Надя наотрез отказались взять за эту потрясающую гитару какие-либо деньги.
Согласитесь, немного найдётся людей, способных на такой поступок, тем более в тогдашних условиях. К тому же, Володя сам – прекрасный гитарист. Кстати, где-то через полгода мне повезло купить в ГУМе немецкую шестиструнную гитару «Музима», чтобы подарить ее Володе. Обе гитары и сейчас в рабочем состоянии, мы с Володей играем на них, когда всей нашей дружеской компанией собираемся вместе.
Но вернемся рассказу о ФОПе. Хором руководила выпускница Ленинградского института культуры Марина Сергеевна Савченко. В заидеалогизированной стране она взяла за основу нашего репертуара мировую хоровую классику, сложную и невероятно красивую: И.С.Бах, С.Танеев, итальянские классические песни… Находясь внутри хора, мы получали неведомые ранее ощущения полёта и неземной красоты. Я помню, при исполнении «Miserere» итальянского композитора ХVII века Ф.Лотти у меня на глаза наворачивались слёзы – вот такую величественную и красивую музыку мы пели, не понимая по-латыни почти ничего… Это был большой и полный хор (от сопрано до басов). Слитность голосов была удивительной! Не случайно наш хор в те годы неизменно занимал в городской «Студенческой весне» первые места среди хоров.
Марина Сергеевна, зная, что у меня баритон, (а баритонов и без меня было достаточно) просила меня в хоре петь басовые партии, басов явно не хватало. Главный наш бас (кажется, его звали Володя С.), к сожалению, часто «съезжал» на основную мелодию. И по заданию дирижёра я пел, пусть и негромко, в самое Володино ухо, его басовую партию – а уж он выдавал её на все 100. И хор звучал насыщенно, музыкально и проникновенно. Да разве из такого коллектива уйдёшь!
Добавлю, что при хоре существовал мужской вокальный ансамбль. В нём пел и я. Руководила ансамблем сама Марина Сергеевна, а потому всё там было выстроено музыкально грамотно, но несколько консервативно: пелось под рояль – словом, всё – как положено по науке. Мне лично это было малоинтересно, хотелось большей оригинальности и свободы. Этот ансамбль просуществовал недолго, хотя он и принёс вузу лауреатские лавры.
В те годы всем в городе был хорошо известен поэтический театр под руководством Регины Гринберг. Вот и в нашем институте было решено создать свой поэтический театр. Режиссёра нашли в Москве. Вячеслав Коляда был молод, талантлив, амбициозен и сразу принялся за работу. В театр принимались только студенты, отвечающие его достаточно высоким требованиям. Первый спектакль, который он выбрал для постановки, назывался «Братская ГЭС» (по поэме Е. Евтушенко).
Сам я не считал себя способным участвовать в этом спектакле, но неожиданно мне предложили поработать осветителем сцены, так что и я оказался причастен к работе в этом театре. Роль моя была скромна, но необходима: следуя партитуре, в нужный момент включить или выключить тот или иной свет. Около семи месяцев длились репетиции. Коляда сразу набрал актёрский состав настолько профессионально, что впоследствии не пришлось заменять ни одного участника.
Премьера прошла на «ура»! В актовый зал набилось столько зрителей (с билетами и даже без оных), что они стояли и сидели везде, где только можно, даже на краю сцены. На следующий день несколько самых ярких исполнителей проснулись поистине знаменитыми: А.Савельев, С.Родина, Т.Абрамова, А.Часов, Н.Яковлева…Отныне в институте их узнавал чуть ли не каждый. Я не был в их числе, но был горд самим своим участием в этом, ставшем легендарным, спектакле. Зато через год в новом спектакле (по поэме С.Кирсанова) у меня была уже небольшая роль, как говорится, «со словами».
Вспоминаю сейчас те времена и испытываю искреннюю благодарность и к Марине Савченко, и к Вячеславу Коляде: ведь ни до, ни после мне не довелось ни петь в хоре, ни работать в театре.
В одной группе со мной учился Юра Охапкин из города Родники нашей области. Комнату он снимал недалеко от моего дома, в Пустошь-Боре. Поэтому из вуза мы часто возвращались вместе. Одним из его неоценимых качеств было то, что он всегда всё знал и помнил. В сущности, он стал мне не только другом, но и моим добровольным секретарём. Он-то и сообщил мне, что на ФОПе открывается шахматный кружок, и что руководить им будет Н. Овечкин, единственный в области настоящий мастер спорта по шахматам. И, конечно, мы с Юрой быстренько записались в этот кружок. Два раза в неделю по вечерам проходили занятия кружка. В шахматы я играл с детства, но исключительно на интуитивном уровне, а потому никакого разряда иметь не мог. Зато Юра в своих Родниках поучаствовал в нескольких турнирах и имел 3-ий разряд. Н.Овечкин систематизировал и развил наши шахматные познания, начиная от дебюта и кончая эндшпилем. На миттельшпиль времени просто не хватало: слишком необъятным был этот раздел. Но основные принципы разыгрывания миттельшпиля он нам все-таки втолковал. Постепенно я начал обыгрывать наших дворовых шахматистов, а потом и почти всех, кто подвернется под руку. Меня даже включили в состав сборной
Однажды на чемпионате по шахматам среди вузов наш капитан команды, перворазрядник Володя Чичерин, поставил меня, безразрядника, играть на первой доске против кандидата в мастера из энергоинститута. Секрет фокуса был в том, что мною пожертвовали ради блага команды: этому игроку любой из нашей команды всё равно проиграл бы, а я был наименее «ценной фигурой». По правилам, играть с сильнейшим игроком соперников должен был сильнейший игрок нашей команды, то есть Вова Чичерин. Так как я на чемпионате был дебютантом и «тёмной лошадкой», Володя объявил меня сильнейшим игроком сборной ИГПИ. Сам же он имел теперь право играть на любой доске и спокойно выигрывать.
Мой соперник напрягся и, когда на 11-ом ходу я неожиданно пожертвовал слона за пешку, он задумался минут на сорок. Дело в том, что этого хода нет ни в одном шахматном учебнике. Последствия моего хода были непредсказуемы как для него, так и для меня: скорее всего, я с треском должен был проиграть, но были там и некоторые «подводные камни» Просчитать позицию адекватно моему сопернику мешала моя объявленная репутация «сильнейшего игрока команды ИГПИ» – сопернику померещились какие-то страшные варианты, в которых я мог выиграть… На его часах оставалось всего минут пять, и он предложил мне ничью. С минуту подумав, я «милостиво» согласился. Друзья, это был классический блеф!
В этом чемпионате я сыграл еще несколько партий, но уже на четвёртой доске. В итоге, набрав приличное количество очков, я выполнил норматив 2-ого разряда.
В дальнейшем со мной не гнушались играть самые сильные игроки нашего вуза, среди которых были и аспиранты, и преподаватели. Это здорово подняло мою самооценку. А однажды, в декабре 1972 года, я стал чемпионом вуза по игре в блиц, обогнав пятерых перворазрядников, среди которых был даже Чичерин. С тех пор я больше не играл в турнирах: весной подошли выпускные экзамены…
Хотя чемпионом мира я не стал, шахматы и по сей день остались моей любовью. И мои дети, и внуки любят играть в шахматы. Я же стараюсь делать это при каждом удобном случае. Припоминаю такой курьёзный эпизод из моей жизни. На очередной Пленум Союза композиторов СССР трио «Меридиан» летело на самолете, и моим соседом оказался композитор В.Я. Шаинский. Он достал из саквояжа свои походные шахматы и предложил мне сыграть. Во время игры Владимир Яковлевич уронил на пол фигурку. Я предложил заменить её кусочком газеты, а в аэропорту купить новые шахматы. Однако он упорно продолжал ползать под ногами у пассажиров, пытаясь вернуть своё имущество. Смеялась половина самолета, в основном его коллеги – маститые композиторы. Мы с Володей Ситановым купили точно такие шахматы в аэропорту Владивостока и подарили их В.Я.Шаинскому. А стоили они, как сейчас помню, 80 копеек!
А вот о танцевальном кружке разговор особый.
Танцующих девушек в нашем институте всегда было много. А с юношами в преимущественно девичьем вузе была проблема, и это естественно. И только на факультете физвоспитания можно было найти двух–трёх парней с неплохой танцевальной подготовкой. Репетиции проводились на сцене актового зала. С 1969-го по 1973-й год руководил танцевальным кружком Евгений Тарасов. В те годы наиболее популярными были танцы народов мира. Хореография этих танцев была очень красива и сложна, содержала в себе довольно трудные, иногда просто профессиональные элементы, с которыми многие наши девушки знакомились впервые в жизни, но упорно тренировали их и на репетициях, и дома. Я во все глаза, играя на баяне, следил за нашими танцующими девушками: когда у них начинало получаться то, что раньше никак не выходило, – каким искренним счастьем загорались их глаза! Как-то так получилось, что основу коллектива составляли студентки математического факультета.
Надо сказать, что в вузах города танцевальных кружков такого уровня больше не было. Профком адекватно отнесся к этому обстоятельству и внёс свою лепту в развитие коллектива: к каждому новому танцу шились красивые костюмы.











