Читать онлайн Кино Ларса фон Триера. Пророческий голос
- Автор: Ребекка Вер Стратен-МакСпарран
- Жанр: Кинематограф, Театр, Биографии и мемуары, Зарубежная литература о культуре и искусстве, Зарубежная публицистика, Искусствоведение
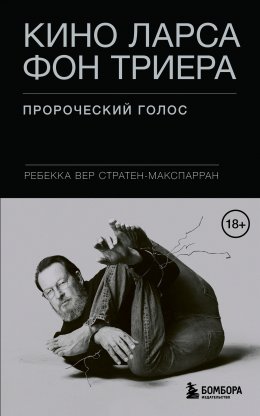
Lars von Trier’s Cinema
Excess, Evil, and the Prophetic Voice
Rebecca Ver Straten-McSparran
© 2022 Rebecca Ver Straten-McSparran
All Rights Reserved
Authorised translation from the English language edition published by Routledge, a member of the Taylor & Francis Group LLC
© Рытвин А., перевод на русский язык, 2025
© Оформление. ООО «Издательство «Эксмо», 2025
Посвящается Ларсу фон Триеру
E quant’ io l’abbia in grado, mentre io vivo convien che nella mia lingua si scerna[1].
Данте. «Божественная комедия. Ад». Песня XV. 86-87
В память о моем отце,
преподобном докторе Чарльзе А. Вер Стратене, святом человеке. Наставнике для многих и наставнике для меня
Кинематограф Ларса фон Триера
В этой книге представлен смелый и динамичный анализ кинематографа Ларса фон Триера, который через стиль и повествование сплетает философию и теологию, уделяя при этом пристальное внимание эстетике. Автор исследует пророческий голос фильмов фон Триера, сопоставляя их с пророчеством Иезекииля и символами зла, мифами и герменевтикой откровения Рикера[2].
Фильмы Ларса фон Триера относят к категории экстремального кино. Мало что сравнится с ними в способности вызвать травму и эмоциональный перелом, но в то же время – совершенно новый отклик у зрителя.
В этой книге утверждается, что ключом к пониманию эксцессивного творчества фон Триера является духовное, библейское содержание его фильмов. Духовный конфликт – это механизм, с помощью которого эксцесс в его картинах со взрывной силой вырывается наружу.
Фильмы фон Триера ставят зрителя лицом к лицу со злом, и порожденный таким образом духовный конфликт правдиво и пророчески разоблачает его, зрителя, соучастие как в личном, так и в структурном зле. Кинематограф фон Триера заставляет людей взглянуть на себя сквозь призму теологических мотивов подобно тому, как это делал своим голосом и формой подачи трансгрессивный еврейский пророк Иезекииль. Данный труд, помещенный в контекст пророческих голосов Данте, Мильтона, Достоевского, О’Коннор и Тарковского, предлагает теоретическую основу, выходящую за рамки только фон Триера. Он представляет большой интерес для киноведов и исследователей кино и философии, кино и теологии.
Ребекка Вер Стратен-Макспарран имеет докторскую степень по теологической эстетике Лондонского Королевского колледжа и является бывшим директором Центра изучения кино в Лос-Анджелесе. Она получила степень магистра богословия в теологической семинарии Фуллера и является рукоположенным священником. В качестве исполнительного продюсера Ребекка работала над отмеченными наградами фильмами. В настоящее время она консультирует программы высшего образования в области кино, продюсерские компании и независимых кинематографистов.
Благодарности
Большое спасибо моему рецензенту Джо Кикасоле, который без моего ведома порекомендовал диссертацию о Ларсе фон Триере и пророческом голосе Роберту К. Джонстону, редактору этой серии Routledge. Сочетание строгости Джо и его сомнений в отношении Ларса фон Триера (особенно в части искренности его пророческого голоса) дало мне замечательную пищу для размышления и возможность выстроить свою аргументацию. И я рада, что моей диссертации удалось изменить его мнение о фон Триере! Безмерная благодарность Роберту К. Джонстону, который хоть и не читал мою диссертацию, но поддерживал меня на протяжении многих лет, пригласив стать одним из авторов своей книги «Переосмысление теологии и кино: новый фокус для формирующейся дисциплины» (2007) и членом его редакторской команды для переиздания книги «Духовность на пленке» (2006), за написание рекомендаций, но в первую очередь за то, что был отличным собеседником и несравненным генератором идей. Спасибо также моему научному руководителю Бену Куашу, чья критическая проницательность, теологические и эстетические знания, доброта и чуткость к моим затруднениям сыграли решающую роль в создании этой книги. И хотя он не настаивал на использовании своей книги «Обретенная теология: история, воображение и Святой дух», она стала решающим и неотъемлемым источником моей аргументации. Выражаю также благодарность моему второму руководителю, Кэтрин Уитли, которая оставила отличные комментарии и была моим проводником по актуальным дискуссиям в киноведении и источникам, и Хью Пипера за чуткие замечания и вопросы.
Спасибо вам, моему кругу любимых друзей, молившимся за меня в трудные дни во время написания диссертации: Энн Баумгартнер, Беатрис Блан, Томас Буш, Бобетт Бастер, Карен Ковелл, Дайан Кокс, Мелисса Крото (глубокая благодарность за часы, потраченные тобой на анализ, редактирование и выслушивание). Спасибо моей прекрасной дочери, Жаклин Типтон, и моей матери, Жаклин Вер Стратен, несущей свет. Ваша постоянная любовь и поддержка в самые мрачные моменты была удивительна. Я глубоко благодарна целому ряду любимых душевных друзей и наставников, проявивших огромную заботу и милость, помогая мне выполнить эту титаническую задачу: Ребекке Дункан, моей небесной болельщице, доктору Кену Буссеме, бывшему вице-президенту, который инициировал и поддерживал процесс написания диссертации, доктору Ричу Гатро, бывшему исполнительному вице-президенту, моему наставнику за кулисами, и моим сильным, мудрым сестрам, Дебби Андерсон, Кэтрин Макгенри и Синди Боутрайт. Особая благодарность Стиву Тернеру, с чьей книги «Представьте. Видение для христиан в искусстве» началось мое восхищение художником как пророком.
Ларс фон Триер, кинокомпания Zentropa и Киноконцерн «Мосфильм» проявили отзывчивость и любезность, предоставив разрешение на использование кадров из фильмов Ларса фон Триера и Андрея Тарковского. Спасибо вам.
Мои дети, Нолан, Жаклин и Симона, их любимые супруги и мои внуки были как моей величайшей помехой, так и величайшей подмогой при написании книги. Я выражаю глубочайшую благодарность моему любимому мужу и самому близкому другу Дэйву Макспаррану, он же Дэвид Рэйвен, который привносит музыку в нашу жизнь, любит готовить для меня, но прежде всего, знает, что значит любить меня.
Введение. Механизм, вскрывающий эксцесс в кинематографе фон Триера. Духовный конфликт
Фильмы Ларса фон Триера неизменно описываются как эксцессивные. В последнее время их начали относить к категории экстремального кино (Frey, 2016, с. 1). Будучи насыщенными метафорами и мифами, они деконструируют персонажей, темы и символы, одновременно создавая сложные, многослойные миры, полные красоты, глубинных смыслов и насилия. Все аспекты формы и повествования в них доведены до крайности, усиливая конфликт и силу воздействия. Критики громко выражают свое отвращение. Зрители падают в обморок во время просмотра «Антихриста» (2010) (см. статью «Антиприз для “мизогинного” фильма Ларса фон Триера», 2009) и массово покидают показы «Дома, который построил Джек» (Mumford, 2018). Хотя порой эксцесс в фильмах фон Триера принимает сексуализированную или насильственную форму, это не всегда так. Эпизоды секса и насилия бывают мрачны, но они не будоражат зрителя. Несмотря на все эксцессы (как в кино, так и в жизни фон Триера), его фильмы интригуют исследователей из самых разных дисциплин. Они по-разному описывают слои эксцессивности фильмов и их воздействие на зрителя в соответствующих своему направлению терминах: травма, выражение лакановского Реального, постмодернистское возвышенное, женоненавистничество, садомазохизм и так далее.
Реакция на фильмы фон Триера шире стилистических излишеств, описанных в работе Кристин Томпсон о кинематографическом эксцессе (Thompson, 2004), и эксцессов телесного жанра, о которых пишет Линда Уильямс (Williams, 2004). Редкое кинематографическое произведение может сравниться с работами фон Триера в способности вызвать травму и эмоциональный перелом посредством сочетания стилистических и физических эксцессов в рамках сложного повествования. Все его фильмы завершаются смертью и не имеют очевидной сюжетной развязки. Порожденный доведенными до крайности жанром, стилем, эмоциями или сюжетом эмоциональный перелом наносит продолжительную травму (Bainbridge, 2004), какими бы словами не описывалось ее воздействие на зрителя: «терапевтический шок для мышления» (Sinnerbrink, 2011, с. 176) или «аффективное возвышенное» (French and Shacklock, 2014, с. 339). Хотя юмор присутствует во многих работах фон Триера, таких как «Эпидемия» (1987), «Королевство» (1994, мини-сериал), «Рассекая волны» (1996), «Идиоты» (1998), «Самый главный босс» (2006) и «Дом, который построил Джек» (2018), по мнению большинства исследователей, его творчество выходит за рамки простого заигрывания с трансгрессией. Линда Бэдли[3] полагает, что фон Триер «изобрел форму психодрамы, которая травмирует зрителей и в то же время заставляет их по-новому реагировать на кино» (Badley, 2011, с. 4).
Хотя многие исследователи упоминают духовные и библейские элементы фильмов фон Триера, они редко говорят об их пророческой природе. За исключением картин «Рассекая волны» (1996) и «Догвилль» (2003), эти нюансы редко удостаиваются глубокого анализа. Я же готова утверждать, что именно духовное/библейское содержание фильмов является ключом к пониманию эксцесса в творчестве фон Триера и источником его пророческого голоса. С этой точки зрения духовный конфликт – то есть конфликт, выходящий за рамки противостояния между людьми, – и является механизмом, раскрывающим эксцесс, которым так славятся фильмы фон Триера. Я считаю, что весь эксцесс в фильмах фон Триера можно критически рассматривать в свете интерпретативной категории духовного конфликта, с силой рвущегося наружу. Он не просто травмирует зрителя, но оставляет неизгладимый след в его парадигме понимания зла. Таким образом, фильм лишает зрителя любой возможности отрицать свое соучастие в том зле, которое демонстрируется в рамках изображенного духовного конфликта.
Ироничный стиль фон Триера скрывает центральную роль зла в его фильмах. Убийственная серьезность, с которой его фильмы исследуют зло, также теряется из виду из-за того, что взгляд режиссера вступает в противоречие с широко распространенными представлениями в современной культуре, склонными минимизировать значение зла или даже отказаться от концепции зла в целом. Скептицизм в отношении зла усугубляется распространением идеологий материализма, светского гуманизма, агностицизма, атеизма и некоторых направлений нейронауки. Британский профессор психопатологии Саймон Барон-Коэн утверждает: «Моя главная цель – понять человеческую жестокость, заменив ненаучный термин “зло” научным термином “эмпатия”» (Baron-Cohen, 2011, с. 12).
Те, кто скептически относится к злу (не следует путать их с моральными нигилистами, отвергающими моральный дискурс в целом), приводят три основные причины для отказа от концепции зла:
1. Концепция зла подразумевает необоснованные метафизические обязательства, подразумевающие веру в существование темных сил, сверхъестественных явлений или дьявола.
2. Концепция зла бесполезна, потому что ей не хватает объяснительной силы.
3. Концепция зла может быть вредной или опасной в моральном, политическом и правовом контекстах, поэтому следует отказаться от ее использования в них или даже избегать в целом.
(Calder, 2018)
Эти взгляды оказывают глубокое влияние на массовую культуру, в которой они материализуются, в сочетании с пониманием необходимости толерантности в многообразном мире. Как считает раввин Эрик Х. Йоффи, почетный президент Союза реформистского иудаизма, некоторые аспекты культуры способствуют уклонению от принятия ответственности за собственные поступки, то есть отрицанию греха. Он выделяет пять таких аспектов: мы живем в терапевтической культуре, культуре виктимности, всеобщей медикализации, бесконечного объяснения и безжалостного реализма. Эти реалисты видят мир таким, каков он есть, но, лишенные иллюзий, они реагируют на него фатализмом и апатией вместо ответственного поведения. Нужно признать, что к распространению такого взгляда причастна и либеральная религия, будь она иудейской, христианской или любой другой. Йоффи убедительно заявляет: «Если нет греха, то нет и ответственности… Если нет греха – не может быть и прощения» (Yoffie, 2011).
Фильмы фон Триера всегда конфронтационны. Они разоблачают не только внешнее зло, но и соучастие зрителя в зле, причем как в собственном, так и в структурном. Зрителя сталкивают с обнаженной правдой, заставляют декодировать ее, используя для этого все возможные средства: провокационные сюжеты, сексуальность, насилие, противопоставление визуального ряда содержанию, а звука – визуальному ряду, полифонический диалогический дискурс, указание вместо обрамления, переключающиеся ручные камеры Phantom[4], монтаж с джамп-катами[5]. Хотя я придерживаюсь прежде всего теологического подхода, он является еще и политическим по своей форме и содержанию, поскольку теология должна бросать вызов нашему самодовольному взгляду на мир, нашим ценностям и порождаемому ими греху – тому реальному злу, что мы совершаем друг против друга. Я утверждаю, что задача теологии – делать мир менее понятным. Она должна влиять на политику, а не позволять политике влиять на себя. Во всех этих отношениях фильмы и методы фон Триера похожи на эксцессивный, трансгрессивный, провидческий голос еврейского пророка Иезекииля, поэтому мы можем интерпретировать их, опираясь и на откровения, почерпнутые из его пророчеств, и на форму, в которой были переданы нам его послания.
Я утверждаю, что фильмы Ларса фон Триера правдиво и пророчески раскрывают важные теологические проблемы наших дней. И, выявляя их, они заставляют обратить внимание на тот отклик, что находят эти теологические темы у зрителя. Многим критикам и исследователям это утверждение может показаться вздорным, учитывая не только проблемную публичную репутацию фон Триера, но и женоненавистничество, насилие, сексуальность порнографического уровня и при этом комедийные элементы и иронию, которыми насыщены его фильмы на поверхностном уровне. Целью данной работы не является опровержение этих тезисов, даже если они могут или должны быть опровергнуты для доказательства пророческой природы фильмов. Вместо этого данная работа фокусируется на пророческом голосе, звучащем из фильмов, ставя его в один ряд с пророчеством Иезекииля и пророческими деяниями. Пока мы не обладаем достаточными свидетельствами, способными подтвердить статус фон Триера как художника-пророка, а наше понимание личности Иезекииля ограничено тем, что дошло до нас из глубины истории, пройдя через редактуру и интерпретации. Хотя фильмы фон Триера могут скрывать в себе нечто большее, чем видно на первый взгляд, в настоящий момент мы можем лишь гадать об этом, блуждая в темноте.
Учитывая существующие сомнения в природе пророческого голоса, звучащего из экстремальных фильмов фон Триера, и его неоднозначный характер, будет полезно начать с ключевых замечаний критиков в его адрес. Более подробно они рассматриваются на протяжение всей этой книги.
Во-первых, возмущенные критики и исследователи оспаривают этичность жестокого и откровенно сексуального содержания экстремального кино. Маттиас Фрей начинает свою книгу «Экстремальное кино: трансгрессивная риторика современной культуры артхаусного кино» с комментария о том, как была встречена на фестивалях «Нимфоманка», и, помимо Ларса фон Триера, приводит в пример Михаэля Ханеке, Катрин Брейя и Гаспара Ноэ. Заявленная Фреем цель – предложить макроанализ индустрии экстремального кино, ее систем производства, регулирования и восприятия и противопоставить его «микроскопическим интерпретациям отдельных фильмов» исследователей экстремального кинематографа, которые «стремятся показать, как “экстремальность” отражает национальную культуру или демонстрирует психоаналитическое подсознание» (Frey, 2016, с. 36). Он цитирует составленный Дэвидом Эндрю список тем, фигурирующих в подобном кино:
…психологическая жестокость и абьюзивные отношения; женоненавистничество и изнасилования; насилие и пытки; злоупотребление психоактивными веществами и сексуальная зависимость; кровавые убийства и «расчлененка»; расизм или «экзотизация»; гомофобия; ненормативная лексика; педофилия, инцест и зоофилия; употребление наркотиков; экзистенциальное отчаяние.
(Frey, 2016, с. 17)
Эндрюс утверждает, что использование этих тем оправдывает статус экстремального кино как серьезного высокого искусства и, как добавляет Фрей, заявляет о его этической легитимности, используя трансгрессивный реализм и возмутительные образы для педагогического побуждения к саморефлексии (Frey, 2016, с. 24).
К сожалению, в своем макроанализе Фрей по необходимости обобщает, поскольку стремится подчеркнуть прямой конфликт между целью создателей артхаусного кино показать эстетическую и этическую ценность своих фильмов и тем, как дистрибьюторы продают и рекламируют эти фильмы. Хотя Фрей признает, что создатели экстремального кино преследуют целый спектр различных целей, он не разделяет их, не предлагая никаких научно обоснованных причин, почему следует избегать экстремальных материалов или почему использование провокационных образов неэффективно в педагогических целях. На самом деле, зрителям предлагается прятать свою причастность к злу, выставляемую напоказ в экстремальном кино, за пассивными удовольствиями типичного кинематографического продукта (Frey, 2016, с. 189). Но эту причастность нельзя оставлять без внимания, и цель педагогического побуждения к саморефлексии следует воспринимать со всей серьезностью. Стэнли Кэвелл проницательно указывает на более серьезную этическую проблему, лежащую в основе таких пассивных удовольствий:
…фильмы воспроизводят мир волшебным образом… позволяя нам видеть его, но самим оставаться невидимыми. Это не желание обладать властью над творением (как у Пигмалиона), а желание не нуждаться во власти, не нести ее бремя.
(Cavell, 2004, с. 353)
Кэтрин Уитли в своем этическом анализе экстремальных фильмов Михаэля Ханеке расширяет концепцию пассивного удовольствия, прибегая к этической структуре Кэвелла. В отличие от кантовской этики, которая требует однозначного суждения о правильных и неправильных, хороших и дурных поступках, Кэвелл хочет, чтобы мы посвятили себя процессу размышления об этике и пришли к пониманию, что абсолюта не существует, а стремиться нужно к выработке индивидуальной реакции в каждом отдельном случае. Точно так и Ханеке, по утверждению Уитли, старается внушить зрителю моральные мысли или убеждения. Он хочет заставить нас достигнуть этического осознания, но не наших моральных действий (в кинотеатре действия зрителя ограничены пространством его мыслей), а наших желаний (Wheatley, 2009, с. 176–177).
Хотя в главе 4 я продолжаю исследование зрительской этики, я тоже не рассматриваю ее в категориях моральных/аморальных действий. Помимо принуждения к этическому осознанию наших желаний, о котором пишет Кэвелл на примере Ханеке, я также демонстрирую, как фильмы фон Триера заставляют нас сталкиваться с этикой в форме честности и искренности, рассматривая их через призму работы Мишель Аарон о зрительской этике и философии Эммануэля Левинаса. На мой взгляд, этика начинается с побуждения сердца, поскольку стремление к власти в словах и действиях может быть легко замаскировано под моральный поступок (Nemo and Levinas, 1998, с. 86–87). Это прослеживается во всей истории политической власти, которой оправдывается пренебрежение к страданиям угнетенных, и именно это освещают фильмы фон Триера. Никто не спорит с тем, что моральное поведение и действия играют решающую роль, но я утверждаю, что первостепенное значение имеют честность и искренность. У этой позиции есть свои духовные корни. Теологически такая честность выражает истинные намерения сердца. Для более раннего датского мыслителя Серена Кьеркегора это в еще большей степени отражает наше отношение к Богу. В работе «Чистота сердца – это желать лишь одного» он пишет:
Даже в отношениях, которые мы, люди, так красиво называем самыми близкими из всех, помните ли вы, что у вас есть еще более близкие отношения, а именно те, что связывают вас как личность с самим собой перед Богом?
(Kierkegaard, 1956, с. 187)
Французский философ Поль Рикер, чьи теории играют ключевую роль в моей аргументации, аналогичным образом рассматривает первичные взаимоотношения в Ветхом Завете как взаимоотношения между Богом и евреем. Фактически взаимный обмен между ними, согласно Рикеру, определяет весь опыт греха:
На первом месте стоит не сущность, а присутствие, и эта заповедь есть модальность присутствия, а именно выражение Святой воли. Отсюда выходит, что грех является религиозной величиной, прежде чем (курсив мой) стать этической. Это не нарушение абстрактного правила или ценности, а покушение на личные узы. Вот почему углубление чувства греха будет связано со значением изначального отношения Духа и Слова. Таким образом, от начала и до конца грех – это религиозная величина, а не моральная.
(Ricoeur, 1967, с. 52)
Анализ фильмов фон Триера в этой работе исходит из того, что, хотя моральные действия и поведение имеют решающее значение, искренность сердца предшествует им по той причине, что она начинается с личной связи между Богом и человеком. Все человеческие действия проистекают из этой связи, независимо от того, слепы люди к ней или нет, и сохранение ее является основной причиной духовного конфликта в человеческом сердце. Нарушение этой связи – грех, впускающий в нее зло, что, в свою очередь, высвобождает избыток зла, которое ослепляет нас и не дает увидеть его источник. И теперь мы приближаемся к рассмотрению пророческого голоса, связанного не только с моральной, но и с духовной свободой воли. Хотя пророческий голос – это не то же самое, что и пророк, полезно будет начать с общего определения последнего: «Самые разнообразные люди, представляющие различные сообщества, именовались пророками, потому что каждый из них каким-то образом утверждал, что передает божественное послание» (Smith, 1986, с. 986).
Фланнери О’Коннор, писательница-католичка и grande dame[6] литературы американского юга, чьи мрачные и жестокие истории полны эксцентричных персонажей, обладающих как телесными, так и духовными деформациями, как-то заметила, что экстремальное искусство необходимо для того, чтобы заставить нас признать собственную духовную нищету. Ее комментарий особо удачно смотрится в рамках данного труда, посвященного экстремальному кинематографу фон Триера, эксцессы которого проистекают из духовного конфликта:
Мне лично кажется, что в наше время писатели, которые смотрят на мир через призму своей христианской веры, острее прочих способны воспринимать гротескное, извращенное, неприемлемое… Романист, озабоченный христианскими проблемами, найдет в современной жизни омерзительные для себя искажения, и его цель в том, чтобы эти искажения увидел и читатель, привыкший считать их естественными. Писатель вполне может быть вынужден прибегнуть и к более жестоким средствам, чтобы донести свое видение до враждебно настроенной аудитории… Вы должны открыть им глаза на свое видение мира с помощью шока: для слабослышащих вы кричите, а для слабовидящих рисуете большие и поразительные фигуры.
(O’Connor, 1969, с. 34)
Объяснение О’Коннор перекликается с причудливыми деяниями библейских пророков Исаии и Иезекииля: она прибегает к крайним мерам, чтобы побудить людей прислушаться к жаждущему их Богу.
Откровенная брутальная сексуальность в картинах фон Триера служит теме каждого фильма. Секс, ужасающий в одних фильмах и ироничный в других, редко выглядит возбуждающим или романтичным (более подробно об этом в главе 3). Аналогичным образом история ветхозаветного пророка Иезекииля «славится» своими откровенными, шокирующими описаниями сексуальности. Для описания Иерусалима Иезекииль использует метафору невесты-нимфоманки в главе 16 и проститутки Оголивы в главе 23, приводившую в ужас первых слушателей, свято чтивших писание, своими откровенными сексуальными образами:
[Когда блудила в земле Египетской] и пристрастилась к любовникам своим, у которых плоть ослиная и похоть, как у жеребцов. Так ты вспомнила распутство молодости твоей, когда Египтяне жали сосцы твои из-за девственных грудей твоих.
(Книга пророка Иезекииля 23:20–21)[7]
Тем не менее пророк Иезекииль считается образцом высокоморальных устоев, а его пророчество остается священным текстом. Второй важный объект критики, обвинение в женоненавистничестве, является, пожалуй, самым серьезным обвинением в адрес фон Триера, ipso facto[8] не дающим многим современным критикам и исследователям признать его фильмы пророческими. Трудно оспаривать женоненавистничество, очевидное в фильме «Рассекая волны» (1996), в котором Бесс жертвует жизнью ради своего мужчины. Однако многие исследователи творчества фон Триера склоняются к мнению, что в более поздних его работах, последовавших за трилогией «Золотое сердце», представлены сильные женщины, которые борются с глубоко патриархальной системой. Бонни Хониг и Лори Марсо отстаивают феминистскую позицию фон Триера, так как его фильмы способны пройти тест Бекдел, для которого требуется, чтобы: (1) в фильме было минимум две женщины, (2) вступающие в беседу, и (3) о чем-то другом, кроме мужчин (Honig and Marso, 2016, с. 10). «Меланхолия» фокусируется на отношениях между сестрами Жюстин и Клэр, чьи разговоры не ограничиваются сферой мужчин. Хотя Джо из «Нимфоманки» и ее подруга Би связаны друг с другом соревнованием, целью которого являются мужчины, сами эти мужчины не играют первостепенной роли. Бонни Хониг пишет:
Что подчеркивает его провокация, так это стремление показать, как клишированное изображение мужчины и женщины, Его и Ее, маскулинного и фемининного, выходят за рамки фундаментальных основ бинарности гендера, которым фон Триер в любом случае скорее бросает вызов, чем дает одобрение. Примечательно, что его фильмы призывают женщин упиваться неподобающей женственностью.
(Honig and Marso, 2016, с. 11)
В-третьих, показное женоненавистничество и откровенные сексуальные сцены в фильмах фон Триера временами явно ироничны и носят комедийный характер, скрывая за этим серьезность намерений режиссера. Это можно увидеть в одной из сцен «Нимфоманки», в которой двое африканских мужчин спорят о сексе с Джо, а она молча наблюдает за ними, комично обрамленная их пенисами. Тем не менее цель, которую фон Триер преследует своей иронией, – провокация. Розалинд Галт[9] отмечает, что фон Триер с помощью иронии создает двойной эффект, дестабилизирующий зрителя. Говорящий лис в «Антихристе» одновременно ужасает и смешит – сопоставление столь разных эффектов вызывает неловкий смущенный смех, в то же время усиливая провокационность (Galt, 2016, с. 85). Рассказчик из «Догвилля» иронически соглашается с противоречивым заявлением о том, что Грейс уничтожила целый городок «во имя человечества». Ангелос Куцуракис[10] комментирует это следующим образом:
Голос за кадром становится ироничным и показывает, как апелляции к морали и «общечеловеческим ценностям» могут служить определенным социальным интересам. Самоотречение и безоговорочная отдача выставляются симулякрами, за которыми скрываются более глубокие политические процессы и конфликты.
(Koutsourakis, 2015, с. 181)
Провокация зрителей с помощью иронии, в деталях исследованная Розалинд Галт, является неотъемлемой частью пророческих деяний. Хотя не любая ирония в фильмах фон Триера может считаться пророческой, некоторые ее примеры сами собой попадают под это определение, потому как ирония является частью инструментария библейского пророка. Как пишет Майкл Фишбейн:
Пророчества Иезекииля с поразительной ясностью раскрывают, что ироническая риторическая стратегия всех израильских пророков – это привести неверующих и невежественных людей к верности завету и осознанию божественного Господства.
(Fishbane, 1984, с. 131)
Ирония в книге Иезекииля порой доводится до абсурда, превращаясь почти в насмешку, чтобы шокировать людей и заставить их задуматься. Пророк искажает и выворачивает наизнанку ожидания, давая своим слушателям понять, что в этот момент происходит нечто совершенно невиданное, порожденное непостижимым Богом, которого, как им казалось, они так хорошо знали.
Четвертое направление критики, исходящее из христианской традиции, ставит под сомнение достоверность пророческого голоса или пророчества, не имеющего чистого, непогрешимого, безгрешного посредника или источника. Еврейская традиция, очевидно, считает Моисея величайшим из когда-либо живших пророков, однако он в гневе убивает египтянина и вынужден спасаться бегством. Когда Бог, то есть Яхве, приказывает Моисею ударить по скале, чтобы высечь из нее воду для скитающихся израильтян, тот бьет по ней в гневе. За этот проступок Яхве запрещает Моисею входить в Землю Обетованную. Пророк Осия женится на проститутке, что обычно считается греховным деянием, однако в данном случае это повеление Яхве. Папа Бенедикт XVI заявляет: «Папа Римский – не оракул. Как мы знаем, его очень редко можно назвать непогрешимым» (ZENIT, 2011), и только когда речь идет о заявлениях ex cathedra[11], касающихся доктрины. История Священного Писания от Моисея, царя Давида, пророка Валаама до апостолов Петра и Павла показывает, что Бог действует через человеческую слабость, чтобы нести свет и исцеление другим (2 Кор. 4:7). Павел заявляет: «Потому что все согрешили и лишены славы Божией, получая оправдание даром, по благодати Его, искуплением во Христе Иисусе» (Рим. 3:23–24). Наконец, Святой Бог по большей части отсутствует в сюжетах фильмов Триера, и это могло бы опровергнуть утверждения, что духовный конфликт занимает в них центральное место. Хотя Господь предлагается только как своего рода via negativa, Бог раскрывается в этом аргументе как незримое мерило, с которым сопоставляется все вокруг. Из-за этого Триера часто считают пуристом, придерживающимся необъяснимого стандарта, не поддающегося легкой категоризации, но который называют «аутентичным» (Бейнбридж), «этическим» (Бэдли, Аарон, Куцуракис, Хониг и Марсо и др.), «жестким» и «трактующим истину… как честность и праведность» (Aaron, 2007, с. 108). Но если фильмы обращены к зрителю, который не верит в зло, не говоря уже о трансцендентном и триедином Боге, они мешают собственному посланию, когда демонстрируют очевидного Бога, очевидное покаяние и очевидную благодать. Произведения Фланнери О’Коннор, например, приобретают дополнительную силу благодаря тому, что она находит более тонкий способ изобразить в них Бога.
Я исследую пророческий голос в фильмах фон Триера, интерпретируя их через призму библейской пророческой литературы и сопоставляя их с пророчеством Иезекииля. Как говорилось ранее, сюжеты Иезекииля и фон Триера проникают в их читателей и зрителей, критикуют и разоблачают их, вызывая тревогу. Оба имеют репутацию дестабилизирующих критиков своих культур: фон Триер – провокатора экстремального художественного кино, а Иезекииль – возмутительного пророка, который действует и выражает невыразимое во имя Бога. Однако в этой книге я рассматриваю не Триера как пророка, а пророческий голос, исходящий из самих его фильмов.
Центральное место эксцесса в творчестве фон Триера, которое можно наблюдать в сюжетах, монтаже, операторской работе, музыке, звуке (DeWolfe, 2009), оммаже и смешении жанров (Bainbridge, 2007) (например, порнографии и хоррора), мешает восприятию его работ как глубоко проницательных и интеллектуально последовательных. Эти элементы доведены до крайности, отчего с выходом каждого нового фильма приводятся аргументы в пользу того, что эксцесс в его фильмах высмеивает предлагаемые или предполагаемые смыслы (Moore, 2019). Если в кинематографе фон Триера присутствует пророческое озарение или предвидение, то его необходимо ввести в диалог с эксцессом, пронизывающим фильмы на всех уровнях, как диегетических[12], так и недиегетических.
Независимо от того, превозносятся ли произведения фон Триера, оправдываются или критикуются, в его творчестве есть глубина, которая заставляет задуматься о психологических, политических, философских, этических и теологических аспектах. И эта рефлексия усиливается с годами в разных дисциплинах. Его фильмам посвящен широкий спектр исследований, но среди них можно выделить пять основных подходов, пересекающихся в некоторых аспектах: теологический, психоаналитический, когнитивный, философский и политический.
Раньше всего интерес к творчеству фон Триера проявился со стороны теологии и религиоведческих исследований, несмотря на эксцессы в его фильмах, которые шокируют, травмируют и содержат сексуальное насилие. Фильм «Рассекая волны» немедленно вызвал интерес теологов благодаря Бесс – возможно, из-за сходства персонажа и ее самопожертвования с Христом.
Уподобленные святым страдающие женщины из трилогии «Золотое сердце» и развитие теологических тем в «Догвилле» сделали эти фильмы особо интригующей темой для теологов-феминисток и тех, кто занимается выявлением связи между насилием, сексуальностью и патриархатом с муками и жертвой Христа. Возможно, наиболее часто цитируемая работа на эту тему – это «Выход за пределы доброты в “Рассекая волны”» Ирены Макарушки (1998). В ней подвергаются критике роли «девственницы» и «шлюхи», которые искусственные парадигмы, существующие в культуре, навязывают женщинам через патриархальные системы. Героиня не является святой мученицей – в конце концов, она «самая обычная женщина» и «приводится немного свидетельств ее веры в загробную жизнь», в которой ее желания будут исполнены, поскольку они связаны с «материальностью жизни и сексуальной близостью» (Makarushka, 1998). По-разному расставляя акценты, Стивен Хит (1998), Кайл Кифер и Тод Линафельт (1999), Линда Меркаданте (2001), Жанетт Риди Солано (2004) и другие считают, что Бесс сохраняет «доброту» в своих трансгрессиях, что по меньшей мере уподобляет ее Христу. В свою очередь Алида Фабер (2003) пишет об этом с осуждением и, напротив, рассматривает ее «доброту» как мазохистскую слабость, оправдывающую сексуальное насилие с целью искупления. Хью Пипер (2010) исследует «Догвилль» и «Мандерлей», чтобы пролить свет на «суровое правосудие» пророка Амоса. Тем не менее после «Догвилля» теологический отклик на работы фон Триера встречается значительно реже. Несколько авторов, включая Фабер, Гилберта Йео и Карлин Мандольфо, посвятили теологические работы «Танцующей в темноте». Мандольфо (2010) включает Бесс, Сельму и Грейс в описание более сложной христианской реакции через апокалипсис, ссылаясь на Аллана Бусака и апартеид в Южной Африке. Но даже в 2016 году Стивен С. Буш предпочел написать теологическую статью для книги Хониг и Марсо о «Рассекая волны», а не об одном из более поздних фильмов фон Триера. У меня вызывает глубокое сожаление, что, хотя все больше исследователей начинает интересоваться поздними фильмами фон Триера, теологические исследования о них, какую бы точку зрения они ни отстаивали, фактически перестали появляться.
Для критического и нетеологического анализа фильмов фон Триера используются самые разные подходы, такие как фрейдистский психоаналитический подход, направленный на исследование травмы и феминистских представлений об этике; психоаналитическая теория Лакана[13]; когнитивная теория кино; философия Делёза[14] и политический формальный анализ. Я привожу ссылки на эти работы на протяжении всей книги в поддержку моей позиции. Политика идентичности особенно важна для аргументации этой книги, так как религия, подобно полу, расе и социальному классу, является источником социальной и культурной власти.
В своей диссертации и позднее книге «Политика как форма: постбрехтианское прочтение» (2015) Ангелос Куцуракис исследует форму или формальные структуры как центральное средство, с помощью которого можно понять политику фильмов фон Триера. Он утверждает, что смысл фильмов фон Триера заключается в их форме, предназначенной бросить нам вызов и изменить нас политически (Koutsourakis, 2015, с. 16). Если показать мир непривычным, обнажив его искусственность, можно политизировать репрезентацию и переменчивость общества, поставив зрителя в неловкое положение. Куцуракис интерпретирует творчество фон Триера с помощью диалектического метода Брехта[15], который, по сути, тесно связан с герменевтикой интерпретации Рикера (противопоставление двух противоположных идей и придание им новой интерпретации) – что способствует, например, пониманию Ницше как подарка для христианских апологетов в мышлении «по-новому». Диалогическая оппозиция Достоевского, также называемая дуэльной структурой дискурса, и полифония (многоголосие) выполняют аналогичную функцию. Это означает, что все политико-диалектико-герменевтические интерпретации фон Триера находят критические, намеренные очаги напряженности в фильмах, требующие отклика и уничтожающие пассивное созерцание, но Куцуракис находит нечто новое в фон Триере своим сложным анализом формы. О значимости фон Триера он пишет следующее:
Я до сих пор помню свое замешательство, когда впервые посмотрел «Идиотов» (1998), и свою неспособность разграничить внутреннее и внешнее – во многом из-за склонности фон Триера испытывать на прочность безопасную границу между фильмом и реальностью, постоянно возвращая пристальный взгляд и вопросы зрительному залу. Его фильмы вызывали бесконечные дебаты и бурные отклики в фойе кинотеатров и на киносеминарах. Но самое главное, я не могу забыть, как эти дебаты породили романтическое чувство, как будто мы внезапно вернулись в 1960-е и 1970-е годы, когда существовала определенная вера в способность кинематографа бросить вызов политике восприятия и превратиться в радикальное искусство, а не в потребительское… продвигая революционную метакритику конформистских тенденций в кинематографе.
(Koutsourakis, 2015, с. 9)
Изучение политической функции фильмов фон Триера как пространств эстетического разрушения, параллельных политике и кинематографу, в настоящее время, на мой взгляд, является наиболее продуктивным способом теоретического исследования его творчества. В книге «Политика, теории и кино: критические встречи с Ларсом фон Триером» редакторы Бонни Хониг и Лори Марсо утверждают, что в основе содержания и целей фильмов лежит увлечение фон Триера клише, поскольку его кинематографические провокации бросают вызов идеологическому климату нашего времени. Они заявляют, что «Фон Триер повсюду видит затаившееся зло и удушающую хватку усыпляющих бдительность жизнерадостных клише (которые отрицают или затушевывают скрывающееся за ними зло)». За этим в книге следует цитата из интервью самого фон Триера: «Я в страхе ожидаю будущего… это все равно что смотреть за волком, расплывающимся в улыбке» (Honig and Marso, 2016, с. 3).
Хониг и Марсо утверждают, что с помощью иронии и гиперболизации существующих клише о власти, гендере и политике возможно направить демократическую и феминистскую теории по новому пути. Это потенциально способно освободить теоретиков из плена их собственной апатии и предоставить им возможность мыслить в новых направлениях. Они не только считают фон Триера «зорким свидетелем эпохи и кинематографическим мыслителем», как утверждает Томас Эльзессер в этой главе, но «из-за удивительного открытия, что этот так называемый “режиссер-женоненавистник” снимает радикально феминистские фильмы; что его мрачное видение является частью восстановительного проекта всемирной заботы; что его предположительно человеконенавистнические фильмы глубоко гуманистичны» (Honig and Marso, 2016, с. 2). Это некоторым образом перекликается с темой данной работы, что видно из стремления Хониг и Марсо прислушаться к голосам религиозной традиции (глава Стивена С. Буша), однако в очередной раз обескураживает, что в их книге рассматривается только откровенно религиозный фильм «Рассекая волны», причем сразу в двух главах.
Должно быть совершенно ясно, почему я считаю, что фильмы фон Триера достойны изучения. Хотя вызывает разочарование тот факт, что в последнее время теологи не уделяют его творчеству должного внимания, этот подход открывает путь для осмысления его творчества в новом ключе: через понимание того, что оно несет с теологической точки зрения, и того, что воздействие, которое оно оказывает на зрителя, имеет теологическое значение. Я убеждена не только в том, что в корпусе исследований кинематографа фон Триера не хватает подобной перспективы, но и в том, что в ней есть срочная потребность. Чтобы эта точка зрения служила не противовесом для иных мнений, а свидетельством того, что фон Триер и те, кто говорит о творчестве с позиций теологии, выполняют действительно важную работу в рамках христианской традиции. С теологической точки зрения я намерена подтвердить и расширить убеждение Бонни Хониг и Лори Марсо, что фон Триер разрушает усыпляющие бдительность клише, «которые отрицают или затушевывают скрывающееся за ними зло» (Honig and Marso, 2016, с. 3), и что это по аналогии связывает его с пророческими деяниями ветхозаветного пророка Иезекииля.
Хорошо известно, что для своих фильмов Ларс фон Триер черпал вдохновение из многих источников – Августа Стриндберга, Бертольта Брехта, Фридриха Ницше, Рихарда Вагнера, Пьера Паоло Пазолини, Дэвида Боуи и множества других. Поскольку каждым фильмом он намеренно бросает себе новый вызов, этот список пополняется. Фон Триер объясняет: «Я считаю, что искусство кино должно быть похоже на супермаркет, по которому вы ходите со своей маленькой тележкой и складываете в нее все необходимое» (Schwander, 1983, с. 16). Тем не менее есть три режиссера-автора, которые больше, чем кто-либо, могут считаться постоянным источником вдохновения фон Триера: датчанин Карл Теодор Дрейер (1889–1968), швед Ингмар Бергман (1918–2007) и русский Андрей Тарковский (1932–1986). Каждый из них обладает особой духовной значимостью, порожденной христианской традицией: Карл Теодор Дрейер, чьи произведения исследуют напряженные отношения между добром и злом, верой, религией и Богом; Ингмар Бергман, чьи фильмы пронизывает его борьба с Богом; и Андрей Тарковский, кинокартины которого, несмотря на советские ограничения, показывают Божью любовь среди человеческих тягот.
Хотя фон Триер упоминает о большом влиянии каждого из них и их великого искусства на свое творчество, он не указывает конкретную связь. Однако каждый из этих источников вдохновения несет в себе духовный, теологический вес. Можно сказать, что перспектива их фильмов – ориентация постановки, композиции, изображения и звука – основана на духовной необходимости. Каждый из этих кинематографистов, включая Ларса фон Триера, строил свое художественное произведение вокруг присутствия Бога, вопросов о Боге, мире, который игнорирует Бога, и присутствия зла, передавая это ощущение духовной реальности на экране. Слово «трансцендентность» в общепринятом понимании здесь не годится, поскольку оно подразумевает запредельное, иное царство священного. Хотя в некоторых фильмах это просвечивает [например, в таких картинах, как «Андрей Рублев» (1966), «Зеркало» (1975), «Сталкер» (1979), «Ностальгия» (1983) Тарковского; «Страсти Жанны д’Арк» (1928), «Слово» (1955) Дрейера; и «Рассекая волны» (1996) фон Триера]. Некоторые также демонстрируют имманентное, невидимое, не от мира сего ощущение присутствия Божественного: подобно свету Тарковского, отражающемуся в грязных лужах, ветру на лугу, левитирующим женщинам или колышущейся траве Дрейера в «Слове», а в случае фон Триера – в моменте, когда Бесс благодарит Бога за секс, или в ее лице, когда она ощущает присутствие Бога в ветре на катере, который несет ее навстречу смерти. Но некоторые фильмы изображают и невидимое царство нечестивого, зла, детрансцендентности: «Страницы из книги Сатаны» (1920), «Вампир: Сон Алена Грея» (1932), «День гнева» (1943) Дрейера; «Седьмая печать» (1957), «Час волка» (1968) Бергмана; «Королевство» (1994, 1997), «Антихрист» (2009) и «Дом, который построил Джек» (2018).
Подобный диапазон трансцендентности, имманентности и детрансцендентности в фильмографиях Дрейера, Тарковского, Бергмана и фон Триера иллюстрирует недостатки подхода Пола Шредера[16], описанного им в труде «Трансцендентальный стиль в кино: Одзу, Брессон, Дрейер».
По сути, трансцендентальный стиль Шредера – это духовная разгрузка движимого эмоциями естественного мира, который Шредер описывает как «изобилие», в постепенном движении к «аскезе» духовного стазиса воскрешения, вне зависимости от того, наступит смерть [как в «Дневнике сельского священника» (1951) Робера Брессона] или нет [как в его же «Карманнике» (1959) или «Вкусе сайры» (1962) Ясудзиро Одзу].
«Повседневность» первого этапа отражает бесплодное, невыразительное существование, в то время как второй этап, «разлад», представлен приливом человеческих эмоций, настолько захватывающих, что ничто не способно их сдержать. Это разрыв, который в момент решающего действия прорывается наружу, вызывая у зрителя то, что Шредер называет «духовной шизофренией – острым ощущением двух противоположных миров» (Schrader, 1988, с. 43). Естественный мир эмоций сталкивается лицом к лицу с умиротворенной вселенной за его пределами: «стазисом». Хотя повседневность и разлад основаны на чувственном опыте, третий этап (стазис) – формален, объединяя эмоции и чувственный опыт в широкую форму, которая выражает более глубокое, чем она сама, вечное, трансцендентное, как считает Шредер, «единение всех вещей» (Schrader, 1988, с. 51).
На мой взгляд, выражение трансцендентности кинематографа через стиль Шредера в итоге оказывается не таким уж и универсальным, а скорее, суженным подходом к мировым интеллектуальным традициям, источником которых являются кальвинизм (Шредер), католицизм с примесью янсенизма[17] (Брессон) и дзен-буддизм (Одзу). Стазис, заключительный этап подхода Шредера, где человек попадает в «спокойную область, не затронутую капризами эмоций или личности» – это ограниченная модель, не способная охватить разнообразие культурных перспектив и переживаний трансцендентного. Теологи кино и эстетики Терри Линдвалл, Арти Терри и Уолли О. Уильямс отражают опасения Михаила Бахтина[18] в своем анализе «Долгого пути домой», утверждая, что трансцендентность достигается не путем аскезы, а путем изобилия, выражаемом через тело как общинная сущность (Lindvall, Terry and Williams, 1996). Отрицая трансцендентное, выраженное только как «инаковость», Джо Кикасола утверждает, что способность Бога прикоснуться к людям и их присутствие в творении являются основополагающими для теологии:
Великий парадокс Божественного заключается в Трансцендентном как Источнике и Опоре имманентного. Божественная трансцендентность и имманентность не могут быть полностью отделены друг от друга. Многие теологии… построены на этом парадоксе Трансцендентного/Имманентного, формируя парадигму для понимания проявлений трансцендентного в искусстве.
(Kickasola, 2004, с. 59)
Помимо внутренней, неприкрытой потребности говорить о вопросах и взаимосвязи между духовной реальностью и борьбой за человеческое существование, глубочайшей точкой соприкосновения между Дрейером, Бергманом и Тарковским, и являющейся также центральной для фон Триера, становится создание кинематографа, в котором форма и стиль превалируют над содержанием. Для них форма и стиль и есть выражение содержания. В отличие от традиционного повествования, где форма и стиль выступают в качестве вспомогательных средств, их кинематографический сюжет рассказывается в первую очередь с помощью формы и стиля, а повествование играет вспомогательную роль. Намеренные пробелы в повествовании вынуждают зрителей заполнять их визуальными и звуковыми средствами, а концовка не приводит сюжет к развязке.
Фон Триер не стесняется оммажей, и его фильмы демонстрируют интертекстуальность, можно даже сказать, зависимость от богатств формы и стиля Бергмана, Дрейера и Тарковского. Каждый фильм, снятый фон Триером, начинается как вызов самому себе: создать произведение в определенных, ранее не опробованных рамках. Он следует правилу «производить, а не воспроизводить», поэтому возможности черпать новое из сокровищницы наследия этих трех мастеров кажутся безграничными. И в данной работе невозможно оставить их без отдельного внимания, так как они образуют фундамент кинематографа фон Триера.
Субъективистский стиль Ингмара Бергмана изображает внутреннюю жизнь с помощью монтажа, ракурсов, детальных планов и перекрестных наплывов, символизируя ими переходы психических состояний (Scott, 1965, с. 264). «Антихрист» также использует все эти элементы, в частности, для изображения внутренней жизни героини Шарлотты Генсбур. Бергман выводит персонажей за пределы исторически сложившейся ситуации, чтобы подчеркнуть универсальные аспекты тревоги, разочарования и неуверенности – и это же мы видим в универсализированных главных героях («Он» и «Она») «Антихриста», размытых лицах всех остальных персонажей и вездесущем штате «Вашингтон, США», используемом во многих фильмах фон Триера. В «Девичьем источнике» Бергмана герои скатываются из цивилизованности к язычеству и варварству (Scott, 1965, с. 269), что затем воспроизводится в «Антихристе» и противопоставляется в «Доме, который построил Джек». Символ чумы в «Седьмой печати» (Scott, 1965, с. 267) также используется как символ в «Эпидемии». Вода у Бергмана является посредником между феноменальным и психическим мирами (Scott, 1965, с. 264), а у фон Триера – между физическим и духовным, что видно из интерлюдий между главами в «Рассекая волны» и перехода через ручей в Эдем в «Антихристе». Фон Триер часто называет Бергмана своим «отцом» в кино, например, совсем недавно в документальном фильме «Вторжение к Бергману» (2013), также заявив, что он смотрел все, что когда-либо снимал Бергман, включая рекламные ролики. Таким образом, упомянутое здесь интертекстуальное влияние на фильмы фон Триера может быть лишь верхушкой айсберга.
Пожалуй, самым почитаемым режиссером, оказавшим влияние на фон Триера, является его соотечественник Карл Теодор Дрейер. Фон Триер снял для телевидения фильм «Медея» по его сценарию и даже использовал в нем несколько актеров Дрейера. И хотя в фильмографии Дрейера не так много работ, он оказал значительное влияние на кинематограф в целом. Дрейер стремился к психическому реализму, «чтобы запечатлеть эфемерное под поверхностной реальностью», избавляясь почти от всего остального, создавая минималистскую, абстрактную эстетику. Фильм «Страсти Жанны д’Арк» был снят безжалостным крупным планом, чтобы показать глубину страданий святой (Barrett, 2018). В «Танцующей в темноте» реализована схожая эстетическая концепция, хоть и посредством иной техники. Лицо Сельмы находится так близко к ручной камере, что расплывается, как будто объектив пытается заглянуть ей под кожу и в душу. Дрейер непреклонно нарушал правила кинематографа. Нетерпимость была общей темой его фильмов, он выражал ее, делая акцент на характере, а не на повествовании, и перемещаясь от внешнего облика к внутренней драме человеческой души и духовной жизни, как в «Страстях Жанны д’Арк». Эти темы сильно перекликаются с творчеством фон Триера (Barrett, 2018). Кадры и монтажные склейки, как видно из «Страстей», намеренно разрушают ожидания зрителя, чтобы сделать фильмы Дрейера сложными для просмотра, и вместо установочных общих планов он подчеркивает противоречие восприятия и разрывы пространства и времени с помощью широкого использования крупных планов, нетипичных ракурсов съемки и фрейминга[19]. Его фигуры напоминают о страстях Христовых, а символы креста видны повсюду, от оконных стекол до теней (на которые наступает судья) (Wright, 2007, с. 42–43). Он достигает той же цели, используя совершенно иную технику в «Слове», драме, снятой длинными планами в одной комнате и с применением его собственного творения – подвижных дуговых панорамных планов. Каждый фильм Дрейера задумывался им как новый набор вызовов, и все они отличаются друг от друга эстетикой – личное правило, которое фон Триер взял на вооружение и для своего творчества, заботясь о визуальной неповторимости каждого фильма. В «Страстях Жанны д’Арк» и «Гертруде» Дрейер использовал гипноз для достижения желаемого эффекта, который и фон Триер включил в трилогию «Европа». Фон Триер также воспользовался услугами давнего оператора Дрейера Хеннинга Бендтсена для съемок «Эпидемии» и «Европы». Бендтсен подарил фон Триеру смокинг Дрейера, который тот затем надевал в Каннах и на съемку вступительного комментария в духе Хичкока перед «Королевством». Бендтсену, мягкому, религиозному человеку с большим чувством собственного достоинства, нравилось работать с обоими режиссерами. Он особенно восхищался мастерством фон Триера на съемочной площадке, тем, как точно тот знал, чего хочет, и его подробными рисунками раскадровки (CloserTV, 2019), помогавшими Бендтсену в работе. Присутствие Карла Теодора Дрейера неумолимо просвечивает в элементах стиля, формы и философии кинопроизводства фон Триера.
О весомом влиянии Андрея Тарковского на фильмы фон Триера широко известно. Однако здесь мы это опустим, так как часть главы 2 посвящена творчеству Тарковского как художника-пророка, а глава 5, где я подробно разбираю «Антихриста» (который фон Триер посвятил Тарковскому), детально описывает его влияние на этот фильм. Тем не менее каждый из этих мощных источников вдохновения фон Триера имеет духовный, теологический вес. Можно сказать, что перспектива их фильмов, определяющая мизансцену, композицию, изображение и звук, проистекает из духовной необходимости.
Основные подходы к теории кино во второй половине двадцатого века отвергают редукционистский взгляд на объективные факты и верифицируемую достоверность, сосредотачиваясь на взаимоотношениях человека с миром, которые придают значение этим фактам (Kearney, 1995, с. 1). Феноменология, в частности, подчеркивает интенциональное отношение сознания к смыслу. Разработанная Эдмундом Гуссерлем (1859–1938) феноменология – это философия перцептивного опыта, относящая происхождение идей к пережитому опыту (Erlebnisse) «самих вещей», то есть она исследует интуитивные свидетельства сознания и феномены непосредственного опыта, чтобы объяснить наше восприятие (перцепцию) мира. Субъект и объект не разделены, но определяются их интенциональным отношением к сознанию, ибо «сознание – это осознание чего-либо» (Husserl, 2013, с. 13). Мерло-Понти[20] вдохновлялся поздним Гуссерлем (уже после завершения периода трансцендентального идеализма ego), который утверждал:
что «живое тело» (Lieb) является «средством всякого восприятия; оно является органом восприятия и обязательно вовлечено во всякое восприятие» (Ideen, II, с. 18, 61; Hua 4:56). Abshattungen перцептивного опыта частично являются продуктом самого объекта, а частично – продуктом положения, двигательных способностей и т. д. моего тела.
(Moran, 2013, с. 212)
Своим влиянием на искусство и кино феноменология обязана работе «Феноменология восприятия» (1945) Мориса Мерло-Понти, в которой он развил взгляды Гуссерля на феноменологию тела. Он считал, что кино как феноменологическое искусство не имеет себе равных (Мерло-Понти, 1964) и обладает способностью описывать восприятие зрителя так, как если бы последний находился в мире фильма, потому что «этот мир всегда “уже существует” еще до того, как начинается рефлексия» (Merleau-Ponty, 2002, с. 18). Используемые им (а до этого Гуссерлем) термины «воплощение», «интенциональность» и «погруженность в мир» легли в основу литературы по феноменологии кино (Baracco, 2017, с. 39). Мерло-Понти понимает восприятие (перцепцию) как пространственную и временную целостность между воспринимающим и воспринимаемым, объясняя этот термин, как трость слепого, открывающую нам инаковость. Он утверждает, что «искать суть восприятия – значит заявлять, что восприятие не считается истиной само по себе, а определяется как доступ к истине» (Merleau-Ponty, 2002, с. 18). Не мысль, а именно тело, соединяющее внутреннее и внешнее, проводит нас во «внутреннем общении с миром. Во время просмотра кино технологическое посредничество становится невидимым, так что тело и мир фильма связываются напрямую» (Baracco, 2017, с. 51). Феноменологи кино Вивиан Собчак, Дженнифер Баркер и Лора Маркс описывают эту взаимосвязь как физическую, тактильную или осязательно-визуальную. Собчак описывает тактильные ощущения тела при просмотре фильма:
В кинотеатре (как и везде) мое живое тело находится в готовности, потенциально способное как воспринимать, так и создавать смыслы. Сосредоточенная на экране, моя «схема тела», или интенциональное поведение, обретает форму подражательного сочувствия к… тому, что я вижу и слышу. Если я увлечена тем, что вижу, моя интенциональность устремляется к миру на экране, проявляясь не только в моем осознанном внимании, но и в моем телесном напряжении. Иногда вопиющие, иногда незаметные, но всегда динамичные инвестиции… моего материального бытия… Поскольку я не могу в буквальном смысле потрогать, понюхать или попробовать на вкус конкретную фигуру на экране, которая возбуждает во мне чувственное желание, интенциональная траектория моего тела, ищущего подходящий объект для удовлетворения этого чувственного желания, изменяет направление и локализует свою отчасти разочарованную чувственную хватку на… моем собственном субъективно ощущаемом живом теле. Таким образом, «оторвавшись» от экрана – и без всякой рефлексивной мысли – я рефлекторно обращаюсь к собственной плотской, чувственной и чувствующей сущности, чтобы прикоснуться к своему прикосновению, услышать запах своего обоняния, попробовать на вкус себя вкушающего и в целом почувствовать собственную чувственность.
(Sobchack, 2004, с. 76–77)
Феноменология кино точно описывает философию взаимоотношений между зрителем и фильмом и потенциал фильма, воплощенный в прекогнитивной силе воздействия, что особенно важно для понимания глубокого воздействия фильмов фон Триера на зрителя. Я утверждаю, что между пророком или носителем пророческого голоса и его аудиторией существует схожая связь, в которой истина резонирует с той же прекогнитивной силой воздействия. Как и у Мерло-Понти, восприятие определяется как доступ к истине. Данная работа сочетает в себе изучение Библии с широким феноменологическим подходом к эстетике. Это означает, что мой подход характеризуют определенные общие допущения, свойственные феноменологии: в нем подчеркивается постижение через соприкосновение, необходимость непосредственной связи с осмысляемым для производства смыслов и общее понимание того, что смыслы могут быть переданы не только устным и письменным словом, но и, как в нашем случае, с помощью невербальных символических действий («зримых пророчеств»), театрализованных выступлений и эстетических средств, таких как искусство и кино. Хотя моя аргументация выстроена с позиций феноменологии, она скорее подразумевается, чем артикулируется, чтобы не отнимать место у исследования пророческой природы фильмов фон Триера.
Тем не менее феноменологическая герменевтика французского философа Поля Рикера (1913–2005) предлагает всеобъемлющую основу для пророческого голоса и зла, порождающих духовный конфликт в фильмах. Это крайне важно, поскольку я утверждаю, что духовный конфликт является механизмом, который создает и раскрывает крайние проявления эксцесса в фильмах фон Триера. Сама по себе феноменология игнорирует тот факт, что на восприятие и воспринимающего также влияет наше активное участие в историческом, культурном и языковом мире, уже наполненном сложившимися смыслами и интерпретациями. Объединяя феноменологию и герменевтику, Рикер показывает, что мы не можем начать с осознания чистой рефлексии. Долгий путь к рефлексивному сознанию лежит через исторические и культурные знаки, лежащие за пределами непосредственного сознания. Самость может быть истолкована только путем интерпретации знаков внешнего мира, поскольку человек – воплощенное существо, которое помещается в язык символов до того, как познает сознание. Он утверждает примат символа над сознанием, где значение возникает как косвенное, опосредованное, загадочное и многообразное (Kearney, 1995, с. 92), и утверждает, что «символ приглашает: не я устанавливаю смысл, символ дает его мне, но то, что он дает, необходимо обдумывать» (Kearney, 1995, с. 93). Ключевой феноменологический вопрос, касающийся бытия, заключается в смысле этого бытия, поиске смысла в символах, вытекающем из их исторической и культурной идентичности, с которыми сталкивается сознание. Таким образом, сознание привязывается к:
…отношению принадлежности к прошлым отложениям и будущим проектам смысла, «герменевтическому кругу», где каждая субъективность обнаруживает себя уже включенной в интерсубъективный мир, символы которого охватывают и ускользают со всех сторон. Следовательно, недостаточно просто описать смысл таким, каким он кажется, когда проявляет себя, – мы также обязаны интерпретировать его в ситуации, когда он скрывает себя. И это приводит к… феноменологической герменевтике интерпретации, которая признает, что смысл сам по себе никогда не стоит для меня на первом месте.
(Kearney, 1995, с. 94)
И тем не менее…
…феноменология остается непревзойденной предпосылкой герменевтики. И, с другой стороны, феноменология не может осуществить свою программу конституирования, не конституируясь в интерпретации опыта эго.
(Ricoeur, 1981, с. 114)
Устоявшийся феноменологический подход к кино сложился благодаря работам Вивиан Собчак (Sobchack, 1992) и тактильной феноменологии Дженнифер Баркер (Barker, 2009), работе Сары Ахмед об аффекте и эмоциях (Ahmed, 2014), анализу фильмов Кесьлёвского[21] Джо Кикасолой (Kickasola, 2004), «Фильмософией» Дэниела Фрэмптона (Frampton, 2006) и прочих. Все большее число философов кино признают, что одной феноменологии кино недостаточно, поэтому они смешивают ее с феноменологической герменевтикой Рикера. Действительно, приведенная выше цитата Собчак вытекает из обсуждения «Живой метафоры» Рикера (Sobchack, с. 73–84). Дадли Эндрю использует герменевтику Рикера, чтобы продемонстрировать, что фильмы являются исторической силой (Andrew, 1986), а теологический подход Дитте Фридман к методу Рикера объединяет его толкование понимания, символа, метафоры, повествования и воображения, чтобы продемонстрировать, как фильм передает информацию и конструирует смыслы (Friedman, 2010). Однако она упускает исследование Рикером мифа, которое играет важную роль в моей работе. Недавняя книга Альфредо Баракко «Герменевтика мира кино: Рикеровский метод интерпретации фильмов» содержит обзор киноведов, использующих герменевтику Рикера, включая Ноэля Кинга, Генри Бэкона и Адельмо Данжа (Baracco, 2017, с. 91–95). Подробно описывая взаимосвязь между феноменологией кино и киногерменевтикой, Баракко стремится разработать рикеровскую структуру для интерпретации/критики фильма, используя движение Рикера от наивного понимания к критической интерпретации и апроприации. Хотя такой подход эффективен при анализе фильмов, он тяготеет к интерпретации содержания, а не формы. В нем опущена работа Рикера об отношении мифа к символу и метафоре, и вместо этого представлено усеченное объяснение его концепции символа.
Данный труд в большей степени теологически сосредоточен на утверждении Рикера о высшей ценности выражения посредством мифопоэтических форм (например, кино), мифа, символа и зла, и в их центре внимания – забота о человеке в мире, для которого характерно как присутствие, так и отсутствие священного. На мой взгляд, это лежит в основе пророческого голоса фильмов. Смысл человеческого бытия, по Рикеру, погружен в миры историй и символов, которые противопоставляются знаниям, полученным от науки. Быть человеком означает быть отчужденным от самого себя, ибо все человеческие существа хотя и созданы для целостности, уже находятся в плену у «противника», более могущественного и превосходящего их самих. Он считает, что это наиболее ясно символизировано в мифе о грехопадении Адама. Превосходство мифа над философией проявляется в способности религиозных историй происхождения раскрывать «структурное несоответствие в человеческих существах между их раздробленной природой и их судьбами как целостных личностей». Такое несоответствие можно представить себе только косвенно, основываясь на мифических образах. Символы, имеющие решающее значение для такого взгляда, определяются Рикером как:
…многозначное выражение, характеризующееся скрытой логикой двойной отсылки. Символы подобны знакам, так как они подразумевают нечто за пределами самих себя. Но, в то время как знак обладает относительно очевидным и общепринятым набором обозначений, значения символа многозначны, их трудно различить, и их глубина практически неисчерпаема.
(Ricoeur and Wallace, 1995, с. 5)
Герменевтика откровения Рикера начинается с библейского откровения ветхозаветных пророков и пророческого дискурса. Но этих людей больше нет, и все, что осталось, – это текст Священного Писания. Рикер открывает нам мир Писания подобно тому, как это делает кинематограф. Разворачивающийся перед зрителем текст вводит его в свой мир. Его символы зла придают «палитре зла» фон Триера такой язык, который больше нигде не выражен. Таким образом, именно герменевтика откровения и символы зла Рикера обрамляют исследование аналогической связи между фильмами и пророчеством Иезекииля.
Теологически обоснованный подход к установлению (и исследованию) связи между фильмами Ларса фон Триера и пророчеством ветхозаветного пророка Иезекииля полагается на определенного рода пневматологию[22]: взгляд на результаты целенаправленной и продолжающейся работы Святого Духа на протяжении всей истории. В книге «Обретенная теология: История, воображение и Святой Дух» Бен Куаш выбирает центром своей теологической эстетики деяния Святого Духа сквозь века. Его труд особо ценен для нас, так как в основном говорит об искусстве.
Наконец, решающее значение имеет мой основной источник по Иезекиилю, Пол Джойс и его комментарии к Книге Пророка Иезекииля и другие работы о пророке. Джойс не только сам является ведущим экспертом по Иезекиилю, но и продвигает исследования Книги Пророка Иезекииля в целом, помогая новым подходам в книгах под своей редакцией. Однако отличительной чертой является фокус Джойса на исследованиях рецепции, основанных на работах Ханса-Георга Гадамера и Ханса Роберта Яусса (Joyce, 2017, с. 459). Джойс сочетает это с историко-критической наукой и другими формами научной деятельности, чтобы направлять исследования Книги Пророка Иезекииля в новые области. В главе 1 я объясню, почему внимание, которое выделяет Иезекииля среди всех ветхозаветных пророков в данной работе, уместно и ценно с точки зрения интерпретации.
Эммануэль Левинас (глава 4 «Эстетика изображения, звука и стиля» и глава 5 «Антихрист») вносит небольшой, но важный вклад в данное исследование. Его понимание инаковости и заботы о Другом заключает в себе то, что я считаю перспективой фильмов фон Триера. Хотя это, возможно, нелегко увидеть сразу, я считаю, что перспектива содержится в каждом фильме фон Триера, поэтому я буду ссылаться на Левинаса на протяжении всей книги. Заключительная глава небольшой книги Мишель Аарон о зрительской этике, рассмотренная в главе 4 в разделе «Зрительская этика», завершается анализом этики фон Триера и Левинаса. Левинаса и Рикера объединяет не только то, что их философии основаны на фундаменте феноменологии, – они также были друзьями и коллегами. Хотя, как говорит Рикер, они исходят из противоположных полюсов эго Гуссерля (Рикер – из ego, а Левинас – из alter), их образ мысли имеет много общего (Дуту и др.). В «Этике и бесконечном» Левинас настаивает на центральной роли свидетельства и свидетеля – что является критическим элементом взгляда Рикера на откровение – как определяющей «профетизм[23]», который «на самом деле является фундаментальным способом откровения» (Levinas and Nemo, 1985, с. 113). Левинас утверждает:
Для меня Священные Писания отражают все, что они пробуждали в своих читателях на протяжении веков, и все, чем они стали в результате их толкований и передачи. Они содержат в себе важность всех духовных переломов, в результате которых ставится под сомнение чистая сознательность здесь-бытия. В этом и заключается их святость, вне всякого сакраментального значения.
(Levinas and Nemo, 1985, с. 118)
В моем понимании, слова Левинаса, что Священные Писания «содержат в себе важность всех духовных переломов», отражают взгляд Бена Куаша на намеренные шероховатости и разрывы в Священном Писании, благодаря которым Святой Дух находит нас в мире на протяжении всех времен. Теоретики в этой книге сходятся по множеству вопросов, но самое главное, что, поскольку мир текста отчетливо раскрывается перед каждым из них (Рикер), они объединены пребыванием под бесконечным покровительственным небом Священного Писания.
Различия в терминологии могут сбивать с толку при проведении междисциплинарных исследований (в данном случае – на стыке кино и теологии). Чтобы внести ясность, поясню, что в данной работе духовное определяется как:
а) относящееся к [человеческому] духу, состоящее из него или влияющее на него: бестелесное;
б) относящееся к сверхъестественным существам или явлениям.
(Merriam-Webster)
Хотя слово «сверхъестественное» обычно используется для описания духовной реальности в киноведении, в теологии оно имеет иные коннотации и может быть проблематичным, поэтому я использую слова «духовный» или «духовная реальность», когда имею в виду область за пределами материальной и научно измеримой Вселенной. Слово «духовный» здесь также описывает отношения между живыми, воплощенными человеческими существами и духовными существами, будь то Бог или демон. Вместо «религии» я использую термин «религиозная традиция», чтобы отличать ее от психологических, политических и социологических перспектив и чисто мифологических традиций.
Я начинаю эту книгу с изложения в первой главе библейского и исторического контекста своего анализа «Контекст: пророки и пророчества, Иезекииль и художник-пророк».
Обсуждая контекст и духовный конфликт ветхозаветных пророков, я выделяю критерии, по которым их можно идентифицировать: для классических пророков в целом и для особого способа пророчествования Иезекииля в частности. Следуя контексту, установленному в главе 1, в главе 2 рассматривается «Художник как пророк: схожие черты Данте, Мильтона, Достоевского, Фланнери О’Коннор и Тарковского». Обе главы, 1-я и 2-я, подготавливают почву для определения пророческого статуса фильмов фон Триера. В целях анализа в главах 3 и 4 я отделяю сюжетные темы фильмов от изображения и звука, сводя их воедино в детальном разборе «Антихриста» в последней главе. Я предполагаю, что аналогическую связь между пророчеством Иезекииля и фильмами фон Триера можно представить в виде бинарной связи (иллюстрация 0.1).
Иллюстрация 0.1. Аналогическая связь между пророчествами и фильмами фон Триера, представленная в виде бинарной связи.
Первая пара бинарной связи, «Пророчество – Повествование» является темой главы 3 «Эстетика пророчества: повествовательные структуры и пророческие темы Иезекииля в фильмах Ларса фон Триера». Я сравниваю и противопоставляю нарративные (повествовательные) структуры и темы пророчества Иезекииля повествованиям фильмов фон Триера. К его творчеству применен подход герменевтики символов зла Рикера, через который можно выразить наш опыт столкновения со злом. Как в главе 3, так и в главе 4, вместо того чтобы анализировать фильмы фон Триера в хронологическом порядке, я группирую их по схожим темам, формам или стилю, чтобы лучше прояснить аналогическую связь между фильмами фон Триера и пророчеством Иезекииля.
В главе 4 «Эстетика изображения, звука и стиля: воплощение пророческого голоса» я рассматриваю вторую часть бинарной связи «Пророческий голос – Стиль».
Невербальные символические действия Иезекииля и его пророческий голос оцениваются через призму стиля, изображения и звука фильмов фон Триера, а также показывают, каким образом фильмы передают смысл невербальными средствами и символами. Теоретической основой главы является герменевтика мифа и символа Рикера.
Глава 5 представляет собой подробный разбор «Антихриста», в котором повествование соединяется со стилем, чтобы продемонстрировать убедительность аргументов из глав 3 и 4. За этим разбором следуют мои выводы относительно аналогической связи – теологического отголоска пророчеств Иезекииля в творчестве Ларса фон Триера.
Ни одна книга до этого не изучала фон Триера с эмпатической теологической точки зрения. Я считаю, что мы должны исследовать и проникать в сложные темы, говорить о них. Если ученые в области этики, психоанализа, политики, литературы и других дисциплин могут писать о фильмах фон Триера с должным уважением к их принципам и художественной ценности, разве не могут ученые христианской традиции также внести собственный вклад?
Надеюсь, данная работа положит начало этому движению.
Aaron, Michele. 2007. Spectatorship: The Power of Looking On. London: Wallflower Press.
Ahmed, Sara. 2014. Cultural Politics of Emotion. Edinburgh: Edinburgh University Press.
Andrew, Dudley. 1986. “Hermeneutics and Cinema: The Issue of History”. Studies in the Literary Imagination; Atlanta, Ga. 19 (1): 21–38.
“’Anti-Prize’ for Lars von Trier’s ‘Misogynist’ Movie”. France 24, May 24, 2009. https://www.france24.com/en/20090524-lars-von-trier-antichrist-misogynist-movie-prize-cannes-film-festival-ecumenical-jury.
Badley, Linda. 2011. Lars von Trier. Urbana: University of Illinois Press.
Bainbridge, Caroline. 2007. The Cinema of Lars von Trier: Authenticity and Artiface. London and New York: Wallflower Press.
____. 2004. “The Trauma Debate: Just Looking? Traumatic Affect Film Form and Spectatorship in the Work of Lars von Trier”. Screen. 45 (4): 391–400.
Baracco, Alberto. 2017. Hermeneutics of the Film World: A Ricœurian Method for Film Interpretation. New York: Springer.
Barker, Jennifer M. 2009. The Tactile Eye: Touch and the Cinematic Experience. Oakland: University of California Press.
Baron-Cohen, Simon. 2011. The Science of Evil: On Empathy and the Origins of Cruelty. New York: Basic Books.
Barrett, Alex. 2018. “Where to Begin with Carl Dreyer”, British Film Institute, June. www.bfi.org.uk/news-opinion/news-bfi/features/fast-track-fandom-where-begin-carl-dreyer.
Calder, Todd. 2018. “The Concept of Evil”. In The Stanford Encyclopedia of Philosophy, edited by Edward N. Zalta, Fall 2018. Stanford: Metaphysics Research Lab, Stanford University. https://plato.stanford.edu/archives/fall2018/entries/concept-evil/.
Cavell, Stanley. 2004. “From the World Viewed”. In Film Theory and Criticism: Introductory Readings, edited by Leo Braudy and Marshall Cohen, 344–354. 6th edition. New York: Oxford University Press.
CloserTV. 2019. A behind the Scenes Channel, Lars von Trier & Dreyer’s Cinematographer Henning Bendtsen – an Interview about Europa & Epidemic, www.youtube.com/watch?v=l63-oM3jgZo.
DeWolfe, Stacey. 2009. Sound Affects: Sado-Masochism and Sensation in Lars von Trier’s Breaking the Waves and Dancer in the Dark. Saarbrücken: VDM Verlag.
Duthu, Henri. n.d. “Ricoeur – Lévinas Une Même Interrogation Éthique”, Espacethics: Emmanuel Levinas. http://espacethique.free.fr/articles.php?lng=fr&pg=128.
Faber, Alyda. 2003. “Redeeming Sexual Violence? A Feminist Reading of Breaking the Waves”. Literature and Theology. 17 (1): 59–75.
Fishbane, Michael. 1984. “Sin and Judgment in the Prophecies of Ezekiel”. Union Seminary Review. 38 (2): 131–150.
Frampton, Daniel. 2006. Filmosophy. London: Wallflower Press.
French, Sarah, and Zoë Shacklock. 2014. “The Affective Sublime in Lars von Trier’s ‘Melancholia’ and Terrence Malick’s ‘The Tree of Life”. New Review of Film and Television Studies. 12 (4): 339–356.
Frey, Mattias. 2016. Extreme Cinema: The Transgressive Rhetoric of Today’s Art Film Culture. New Brunswick: Rutgers University Press.
Friedman, Ditte. 2010. Writing on Film as Art through Ricoeur’s Hermeneutics”. Journal of Writing in Creative Practice. Accessed October 3, 2019: www.academia.edu/2082404/Friedman._2010._Writing_on_Film_as_Art_through_Ricoeurs_Hermeneutics.
Galt, Rosalind. 2016. “The Suffering Spectator? Perversion and Complicity in Antichrist and Nymphomaniac”. In Politics, Theory, and Film: Critical Encounters with Lars von Trier, edited by Bonnie Honig and Lori J. Marso, 71–96. Oxford: Oxford University Press.
Heath, Stephen. 1998. “God, Faith, and Film: Breaking the Waves”. Literature and Theology. 12 (1): 93–107.
Honig, Bonnie, and Lori J. Marso. 2016. Politics, Theory, and Film: Critical Encounters with Lars von Trier. Oxford: Oxford University Press.
Husserl, Edmund. 2013. The Paris Lectures. New York: Springer.
Joyce, Paul M. 2017. “Reception and Interpretation in Ezekiel”. In Ezekiel: Current Debates and Future Directions, William A. Tooman and Penelope Barter eds. Tübingen: Mohr Siebeck. (Forschungen zum Alten Testament 112.)











