Читать онлайн Где начинаются и куда ведут следы Добрыни
- Автор: Павел Норвилло
- Жанр: Историческая литература
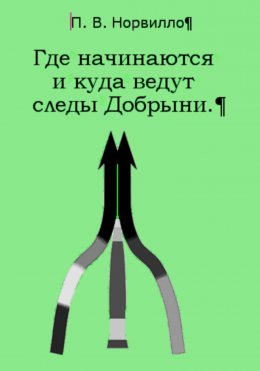
В качестве вступления и чтобы сразу отвести от нижеследующих заметок упрёки в анахронизмах, стоит, пожалуй, сказать несколько слов об их (заметок) статусе. Так вот главной особенностью настоящего исследования является то, что в нём, наряду с объективными, будут также рассматриваться и многие субъективные аспекты событий, в частности, Х века. Вместе с тем, поскольку вниманию читателя предлагается не художественная, а научно-теоретическая реконструкция, то, представляя логику размышлений и поступков исторических персонажей, мы не будем даже пытаться загримировать суждения и выводы наших героев под привычный им строй речи. Отдельные эпизоды и лежащие в их основе более глубокие исторические процессы будут разбираться с точки зрения принципов социально-экономического и политического развития, установленных в основном в Новое и Новейшее время. Поэтому планы и замыслы в том числе жителей совсем других эпох будут излагаться, как правило, привычным нам языком, лишь с минимальным привлечением терминов и образов того времени. И если кому-то начнёт казаться, что в излагаемой версии современники Мала и Добрыни рассуждают чересчур уж “по-нашему”, ему следует сделать скидку на то, что перед ним попытка восстановить не форму, а лишь общее содержание, политическую суть намерений и расчётов, которые старались воплотить в жизнь те или иные общественные слои и возглавлявшие их личности. Не больше и не меньше.
I
. К вопросу о субъективных предпосылкахКоростеньского мирного договора 946 года.
Едва ли нужно долго доказывать, что события 946 года занимали в жизни Добрыни исключительное место. Ведь даже когда в 977 году ему и Владимиру приходится покинуть страну, с ними остаётся армия, а главное, остаётся сама Русь, где большинство граждан будут ждать их скорейшего возвращения, горя желанием покончить с возрождённой варяжской диктатурой. Тогда как в 946 году семья древлянского князя теряет всё, включая свободу и возможность прямо влиять на происходящее. И хотя со временем положение пленников меняется к лучшему, совсем не очевидно, насколько реальными были надежды на это и были ли они вообще; всё-таки 10 лет немалый срок. Такие переломы в судьбе не проходят бесследно, а тем более в 10-12 лет, когда человек вообще всё воспринимает ярче и резче.
Поэтому, чтобы хотя бы попытаться понять, чем обернулись лично для Добрыни восстание, а затем капитуляция его родной земли, необходимо ещё раз обратиться к предыстории и всему многообразию ближайших итогов и более отдалённых отголосков вооружённого конфликта, развернувшегося в 945-946 годах между Киевом и Коростенем.
А для начала кратко напомню, как выглядит выступление древлян в свете заслуживающих доверия источников и разысканий А. М. Членова.
Итак, после разгрома варяжской дружины князя Русского Игоря и казни его самого древляне отправляют в Киев делегацию с поручением известить тамошних жителей о том, что их правителя больше нет, а также о принятом в Коростене решении присоединить владения и семью Игоря к владениям и семье князя-победителя Мала. Киевские власти, во главе которых на правах регентши становится Ольга, подобные претензии отвергают, однако, лишившись главных ударных сил, на первых порах предпочитают открыто не обнаруживать своей позиции. По видимости соглашаясь с частью требований древлян, мать юного Святослава отклоняет другие и выдвигает какие-то встречные условия, завязывая таким образом переговоры с Коростенем. Судить об их деталях на основании летописной версии нелегко, но точно можно сказать, что в Киеве побывало по меньшей мере ещё одно древлянское посольство и что параллельно с дипломатическими маневрами в Полянской земле шёл экстренный сбор местного ополчения. А когда в руках правительства Ольги-Свенельда-Асмуда оказывается достаточная вооружённая сила, игра в переговоры с Коростенем резко обрывается, уступая место открытому военному противостоянию*.
В ответ на интервенцию древляне на этот раз дают противнику полевое сражение, однако терпят поражение, после чего “затворяются в городах”, то есть переходят к стратегической обороне с опорой на сеть крепостей. Правда, судя по заявлению самой Ольги, сводной поляно-варяжской армии удаётся взять большинство этих опорных пунктов, но древлянская столица остаётся неприступной всё “лето”. И в конце концов стойкость защитников Коростеня вынуждает киевских находников пойти на переговоры и принять мирную капитуляцию Древлянской земли.
Ближайшие последствия этой капитуляции выглядят весьма сурово: Мал должен был отречься от княжения, все его владения отныне переходили под полный контроль Киева, а сам мятежный князь, его семья и высшая древлянская знать становились пленниками и, по нормам того времени, рабами Ольги и Святослава. (Что же касается уловки с огненосными птицами и кровавого разгрома в 946 году последнего оплота древлян, то эти “подробности” были вставлены в летопись почти сто лет спустя после завершения Второго древлянского восстания.) Но в более отдалённой перспективе понесённые потери в значительной мере компенсируются новым возвышением Древлянской земли и потомков Мала. Уже при Святославе, как это явствует из распределения княжеств между его сыновьями, Древлянская земля в почётной иерархии державы занимает место между Полянской (Русской) и Новгородской. Ещё больше укрепляется значение родины Мала при его внуке Владимире, когда тот становится великим князем всея Руси. А ещё через полвека Киев, оставаясь столицей славянской федерации, становится древлянским городом.
В связи с чем и возникает вопрос: с какими мыслями пошли на мир главные участники осады и обороны Коростеня в 946 году? Предвидел ли хоть кто-нибудь из них, что в итоге из этого получится? Или же эпохальное воздействие пленения Мала и его семьи на последующее развитие Руси (да и не только её) стало полной неожиданностью для всех, включая и тех, кто согласовывал условия капитуляции Древлянской земли и заверял соответствующий акт?
Конечно, следуя здоровому любопытству, подобными вопросами можно задаваться применительно к любому событию, начиная с всемирно-исторических и кончая сугубо частными и семейными. Вот только на достоверные ответы здесь не всегда можно рассчитывать, поскольку выявление замыслов физически уже не существующих людей, а тем более когда имеешь дело с представителями первобытных и раннеантичных культур, само по себе является достаточно сложной задачей. Ещё важнее то, что далеко не всегда это бывает действительно интересно. Ведь такие реконструкции, даже будучи безукоризненно верными, но не добавляя ничего принципиально нового к уже известной картине, могут оборачиваться по сути пустой тратой сил, лишь повышающей уровень бессодержательного информационного шума.
Например, раскрытие мотивов, побудивших того или иного человека отказаться от активного участия в жизни в пользу пассивного созерцания, может оказаться очень важным для его биографов, но в любом случае мало что даст исследователю исторических процессов, которые движутся стараниями прежде всего деятельных личностей. С другой стороны, деятели тоже бывают разные. И порой дошедшие до нас личные документы (письма, воспоминания) показывают лишь поразительную степень искажения, с которой люди, влиявшие на жизнь не только своего государства, но и многих соседей, представляли себе действительный смысл тех мероприятий, которые ими инициировались или одобрялись. В связи с чем их реальный вклад в историю оказывался сильно отличающимся от того, на который они рассчитывали, а то и вовсе прямо противоположным этим расчётам. В таких случаях определение субъективных предпосылок событий фактически сводится к уточнению характера иллюзий, стоявших за действиями тех или иных королей, министров, полководцев и проч.
Впрочем, последнее к нашему случаю точно не относится. Даже при том, что жизнь и деяния Ольги, а тем более Мала освещаются в летописи очень избирательно и, как правило, тенденциозно, сопоставление рукописной и фольклорной памяти об их времени убеждает, что мать Святослава и отец Добрыни и Малы были людьми целеустремлёнными, изобретательными и знавшими толк в политическом планировании. Так что, по крайней мере, в какой-то своей части текущая динамика и итоги вооружённого противостояния Древлянии и поляно-варяжского Киева в 945-946 годах были контролируемыми и совпадали с исходными намерениями главных ликвидаторов этого конфликта. И если бы удалось уточнить, что конкретно из предварительных намёток лидеров двух государств стало реальностью, а какие пункты их программ так и остались заоблачными надеждами, то это точно не пополнило бы склад пустопорожних умствований, поскольку Второе древлянское восстание стало исходным пунктом для целого ряда событий и процессов, заметно отразившихся на последующем развитии Руси и её соседей.
Что же до трудностей, то без них постижение неизвестного вообще редко обходится. Тем более это относится к исторической науке и к попыткам что-то узнать о временах вроде первых веков отечественного летописания, когда даже внешняя последовательность упоминаемых эпизодов вырисовывается лишь схематично, с большими пробелами и почти без деталей. Понятно, что при таких исходных данных любые гипотезы о подвижках во внутреннем мире жителей интересующей нас эпохи будут выглядеть заведомо спорными или прямо сомнительными.
Но и признавать вопрос не имеющим ответа на основании только первого знакомства с ним – это тоже мало похоже на научный подход. Чтобы предметно оценить степень решаемости той или иной задачи, для начала стоит хотя бы повнимательнее рассмотреть её условия и имеющиеся ресурсы. После чего, вполне вероятно, удастся наметить какие-то ходы, заслуживающие дополнительного изучения. И только если более детальная проверка всех доступных направлений поиска не даст результата, можно будет заключить, что с данным инструментарием и при текущем состоянии наших общих знаний о заявленной проблеме внести в неё ясность вряд ли получится. Так что сейчас самое время переходить к содержательному анализу субъективной стороны происходившего на Руси в середине Х века, а уже практические попытки покажут, куда и насколько здесь можно продвинуться.
Итак, на наш взгляд, является важным понять, стремился ли кто-нибудь к тому, чтобы состоявшийся после смерти Игоря поляно-варяжский поход в Древлянскую землю, будучи предприятием по форме и контексту откровенно карательным, оказался миротворческим по существу? Или то, чем всё закончилось, не отвечало исходным планам ни одной из сторон?
Начнём с Ольги, чья позиция вполне очевидна.
В самом деле, претендовать на какую бы то ни было политическую роль вдова Игоря могла только при живом сыне. И тем не менее она решается на присутствие Святослава в войске и на поле боя, хотя это при любых сколь угодно тщательных мерах безопасности было связано с риском для его жизни. Так что даже если не знать о взрывоопасном накале антиваряжских настроений по всей славянской федерации и сложной обстановке в самом Киеве, то и тогда одной лишь готовности Ольги поставить на карту жизнь Святослава было бы достаточно, чтобы констатировать сверхзначимость для неё исхода древлянской экспедиции. С учётом же всех дополнительных сведений можно с полной ответственностью утверждать, что политическую жизнь свою и своего сына Ольга связывала с прекращением восстания древлян. Тогда как провал ещё одного древлянского похода и продолжение (а тем более дальнейшее расширение) вооружённой борьбы против варяжского режима сулили ей и её сыну скорую политическую смерть, при которой сохранение или утрата жизни физической уже не имели бы большого значения.
Между тем сам Игорь считал древлян сильными противниками и готовился к вторжению в их землю со всей серьёзностью. А после того, как вторжение обернулось гибелью великокняжеской дружины, с такой оценкой поневоле были вынуждены согласиться даже те, кто никогда не видел древлян в бою и вообще ничего не понимал в военном деле. Разумеется, в Киеве всё равно начинают собирать новое войско, чтобы перед лицом притязаний Мала на федеральную власть быть в состоянии хотя бы защищаться. Но ни о каком пренебрежении нежданной угрозой, ни о каком шапкозакидательстве для преемников Игоря не могло быть и речи.
Так что у Ольги и её советников настрой на скорейшее завершение открытой конфронтации с древлянами по необходимости должен был соседствовать с сомнениями в способности доступных Киеву вооружённых сил одержать не то что быструю, а хотя бы просто уверенную победу. В таких условиях взвешенному политику подобает, как минимум, заколебаться между военным и дипломатическим путями выхода из кризиса, а то и вовсе начать отдавать предпочтение мирным способам урегулирования проблемы, оставляя войну на самый крайний случай. А значит, даже проявляя максимальную сдержанность в формулировках, можно сказать, что в 945-946 годах Ольга с самого начала не исключала в том числе возможность мирного соглашения с древлянами, но, конечно же, при непременном сохранении в Киеве позиций её и её сына.
Гораздо менее отчётливо проступает сквозь толщу веков отношение к собственной капитуляции древлянской стороны. “Повесть временных лет” не прочь представить дело так, будто никакого осознанного и сформулированного отношения вовсе не было, раз уж мятежников постиг полный и безоговорочный разгром. И тем не менее сама же признаёт, что защитники Коростеня сначала “ялись по дань”, то есть отказались от требования независимости и признали себя подданными Киева, а уже затем стали жертвами резни. Так что даже если бы упомянутая в летописи последняя месть Ольги действительно имела место, то, с формальной точки зрения, это всё равно был бы уже не этап войны двух суверенных стран, а силовая акция центрального правительства в одной из провинций державы. То есть чисто внутреннее дело, по отношению к которому термины “мирный договор”, “капитуляция” и т. д. уже не применяются.
Но если отбросить придуманный финал, то в остальном официальная версия не вызывала категорических возражений исследователей. Ведь, с какой стороны ни посмотри, а на поверхности мы видим, что выступление древлян, начавшись в 945 году свержением Игоря и попытками диктовать его семье и подданным свои условия, заканчивается тем, что Коростень всё-таки склоняется перед властью Киева в лице формально Святослава, а фактически Ольги. На фоне такой последовательности событий действительно трудно отделаться от ощущения, что зафиксированная летописью капитулянтская позиция древлян была, строго говоря, не их собственной, а навязанной им позицией победителей.
И всё же существуют хотя и менее очевидные, но не менее веские основания полагать, что по собственно военным показателям положение защитников Коростеня в 946 году вовсе не было безнадёжным, и до холодов они уж точно могли продержаться. А из того, что страна сохраняла технические ресурсы для продолжения войны, в свою очередь, следует, что древлянское руководство сохраняло также возможность для дипломатических маневров. Зная же Мала, не приходится сомневаться, что таковая возможность была использована в полной мере, и роль древлян на переговорах с Ольгой не была пассивной и чисто страдательной. А чтобы понять, в чём конкретно состояла главная идея древлянского сценария разворачивавшейся исторической драмы, рассмотрим приведённую логическую цепочку более подробно.
Итак, пункт первый: что можно сказать о соотношении сил древлян и их противников в 946 году? Если следовать только букве “Повести временных лет”, то ничего определённого. Хотя, по летописным меркам, история этой кампании прямо-таки изобилует подробностями. В то время как сообщения о многих других военных предприятиях даются поистине телеграфным стилем*, в 946 году упоминаются и сбор воинов для похода, и битва, которую открывает Святослав, и имена двух киевских воевод, Свенельда и Асмуда, и, наконец, последующая осада Коростеня с переговорами. И тем не менее во всём довольно пространном рассказе нет ни одной абсолютной цифры или хотя бы относительной оценки исходной численности или потерь противников. Поэтому все заключения о военных аспектах этой кампании поневоле вынуждены строиться на учёте и анализе разнообразных косвенных данных.
При этом, как уже отмечалось, для ныне господствующей точки зрения главной опорой является первый ответ осаждённых коростеньцев Ольге: “Ради ся быхом яли по дань, но хощеши мьщати мужа своего”. Иначе говоря, если бы не боязнь репрессий, то они уже давно и с радостью признали своё поражение. Отсюда сам по себе переход древлян от амбициозных заявлений 945 года к этой заискивающей фразе признаётся достаточным основанием для допущения, что переломным пунктом восстания стало поражение от киевской армии в первом и единственном открытом бою, а жёсткая осада окончательно поставила восставших на грань военной катастрофы и вынудила признать общую победу Киева. Ситуация, однако, предстанет в ином свете, стоит лишь чуть-чуть расширить круг принимаемых во внимание обстоятельств.
В самом деле, как показывает опыт, чтобы у одной из враждующих сторон воинственные настроения бесповоротно уступили место пораженческим, обычно требуется не просто поражение, но разгром, уничтожающий или по меньшей мере в корне подрывающий её боеготовность. Плюс к тому для одержавших победу она не должна быть Пирровой; чтобы поражение 946 года поставило древлян перед реальной перспективой разорения всей их земли, интервентам требовалось сохранить наступательный потенциал и после битвы иметь в строю никак не менее трёх четвертей личного состава. Таких результатов добиваются либо за счет превосходства в военной технике (например, когда обладатели огнестрельного оружия нападают на первобытные народы), либо неожиданными действиями с использованием засад и ловушек (как и поступил Мал с Ингваром Хрёрексоном), либо сокрушительными маневрами на уровне маневра Ганнибала при Каннах. Но применительно к рассматриваемому событию первый и второй варианты напрочь отпадают, а третий, то есть некая ошеломляющая тактическая находка киевских воевод, представляется крайне маловероятным.
То, что за полвека очного знакомства древляне хорошо изучили варягов как противников, исчерпывающе доказывается позорным крахом Игоря. И подавно никакими ударными новинками не могли удивить соседей поляне, чьи военные искания с момента покорения Олегом находились под полным контролем новых хозяев. А вот на тезисе о нереальности каких-либо рабочих тактических находок со стороны Свенельда и Асмуда, пожалуй, стоит остановиться подробнее.
Итак, что касается беззасадного характера действий агрессоров то дело здесь даже не в том, что летопись чётко говорит о ратях, сходящихся глаза в глаза. (Уж если в Киеве не стеснялись целыми разделами вымарывать из государевых анналов историческую память и заменять её откровенной ложью, то что стоило очередному редактору переделать внезапное нападение на неподготовленного противника на более красивую и почётную победу в открытом бою?) Куда важнее то, что для успешного применения заманивающего маневра, засады, западни и т. п., помимо желания, совершенно необходимо заранее и в деталях знать место предстоящего сражения. Но ведь в 946 году именно киевское войско вторглось в чужие пределы, а древляне были вынуждены защищаться. Так что заступить интервентам путь в том или другом месте – это целиком зависело от древлянского командования; всё, что могли Свенельд и Асмуд – это атаковать обнаруженную древлянскую армию или уклониться от столкновения.
Но это рассуждая теоретически. А на практике отсутствие активных действий в виду противника прежде всего собственным воинам даёт повод задуматься о своей готовности сражаться. Для участников мелкого набега, нежданно столкнувшихся с передовой заставой, такая сдержанность является обычной и естественной, а известие о подходе к обороняющимся резервов тем более означает, что пора убираться восвояси. Однако первый поход Святослава совершался не ради заурядного грабежа и даже не ради первичного завоевания соседей – официальным лозунгом киевской верхушки, включая и Ольгу, были месть за Игоря и возврат к покорности взбунтовавшихся данников!
Между тем если всякая интервенция мыслится как демонстрация силы, то интервенция, призванная подтвердить отношения подданства, может считаться провалившейся, если у “хозяина” не оказалось уничтожающего перевеса над вздумавшими проявлять независимость*. Так что для идейных завоевателей любая заминка перед лицом намеченных в жертву, любая пауза, выходящая за пределы абсолютно необходимого для подготовки атаки, начинает выглядеть как нерешительность. А это, в свою очередь, практически всегда расхолаживает собственный наступательный пыл и, напротив, укрепляет решимость защитников родной земли стоять до последнего. В связи с чем для армии вторжения любые проявления неуверенности и даже намёки на неуверенность в своих силах способны лишь осложнить, а то и полностью сорвать всю затею. Поэтому, имея дело с теми, кто мыслит себя покорителями и тем более карателями, следует ожидать, что они сами будут искать сражения и примут бой там, где противник его предложит, хотя бы даже позиция не сулила им особых выгод. Ровно из этого исходили в своей тактике М. И. Голенищев-Кутузов в 1812 году, П. А. Романов в 1709 году, Дмитрий Иванович в. к. Московский и Владимирский в 1378 и 1380 годах, Александр Ярославич кн. Переяславский и Новгородский в 1242 году. И, как показал опыт, оказались правы (хотя относительно настроя Бегича и Мамая сомнения всё-таки были).
Последних примеров Мал, само собой, знать не мог, но общий принцип и без них вполне очевиден: если обороняющиеся на своей территории в известных пределах могут выбирать место и время для боя, то вторгшиеся в чужую страну буквально обязываются атаковать силы национального сопротивления там и тогда, где и когда последние сочтут удобным себя обнаружить. В силу этого принципа предводители поляно-варяжского войска, официально объявив в 946 году целью похода покарание “древлянских бунтовщиков”, лишали себя пространства для маневра и оказывались поистине обречены, встретив неприятеля, действовать быстро и без колебаний до чьего-то окончательного поражения. Тем более что в конкретной обстановке любая отсрочка с усмирением древлян грозила, помимо всего прочего, дать дополнительный импульс выступлениям против власти Киева в других славянских землях. Вот и выходит, что если кто и мог – заблаговременно, с учётом особенностей местности – подготовить на выбранном поле боя какую-то ловушку или засаду, то это были сами древляне, а никак не киевские интервенты.
Есть что возразить и против допущения о некоем ударном экспромте, родившемся прямо на поле боя и принесшем киевлянам победу с небольшими потерями у себя и тяжелейшими у противника. Во-первых, сногсшибательные маневры удавались обычно в случаях, когда предводитель одной из сторон далеко превосходил своего соперника в тактическом мастерстве (признанный мастер маневра Наполеон, сколько ни пытался, так ни разу и не сумел поймать в тактическую ловушку полководца Кутузова). Но в 946 году во главе древлян стоял представитель династии Нискиничей, победитель Ингвара Хрёрексона, отец и учитель замечательного тактика и стратега Добрыни, нанесшего итоговое поражение Свенельду и руководимым им силам. Само по себе это, конечно, не доказывает, что Мал как воевода был на голову выше того же Свенельда, но и оснований для противоположного утверждения уж точно не даёт.
Во-вторых, в доогнестрельную эпоху главным творцом большинства сокрушительных маневров была конница. Тогда как главную боевую силу славян до конца Х века составляла пехота, и точно так же пехотинцами – пусть и морскими и высококвалифицированными – были варяги. Так что научиться боевому применению кавалерии друг у друга Свенельд и Асмуд не могли, а устойчивые мирные контакты и обмен ратным опытом с кочевниками начались только в пору зрелости Святослава, то есть заведомо позже 946 года. А значит, судьбу обсуждаемого боя предстояло решать именно “царице полей”, и застать древлян врасплох неким гипотетическим маневром киевские воеводы должны были, опираясь лишь на малоподвижные пешие отряды. Что вдвойне непросто.
И ещё один немаловажный момент: как уже отмечалось, о жертвах первого боя Святослава в “Повести временных лет” нет ни слова. Хотя всего несколькими строками выше гордо сообщается, что на тризне по Игорю киевской делегации удалось перебить 5000 древлян. На фоне подобного соседства невольно напрашивается предположение, что в 946 году с этой точки зрения и говорить-то было не о чем. А умолчав о том, сколько человек полегло на поле боя и досталось в плен победителям, летопись уже открытым текстом сообщает, что разбитые древляне “побѣгоша”, причём бежавших и “затворившихся”, в частности, в Коростене оказалось вполне достаточно, чтобы успешно обороняться “лѣто”. Иными словами, даже если принять, что Свенельд и Асмуд сумели так или иначе нейтрализовать все трудности и обратить ситуацию против древлян, то и тогда получается, что последние, со своей стороны, успели заметить опасность и выйти из сражения до того, как оно превратилось в одностороннее побоище. (Ну как тут не вспомнить, что по французским сводкам русская армия тоже бежала от Смоленска и Бородина, хотя сами участники войны отлично сознавали разницу между бегством и планомерным отступлением, при котором противнику не остаётся не то что брошенного оружия и боеприпасов, но даже разбитой повозки.)
Резюмирую: какими бы ни были личные впечатления участников от состоявшегося в 946 году боестолкновения, и сколь бы бодрые либо, наоборот, пессимистичные доклады ни слали они в свои столицы, все прямые и косвенные свидетельства убеждают, что фактические потери были сравнительно умеренными для обеих сторон, и к критическому подрыву военной силы древлян эта стычка точно не привела.
С полным правом то же самое можно сказать и о последующих событиях. Ведь если бы киевскому войску удалось спровоцировать осаждённых на неудачную вылазку или добиться какого-либо иного заметного успеха, то киевская хроника вряд ли упустила повод поиздеваться над очередным унижением древлян. Но о защитниках Коростеня говорится лишь, что они “боряхуся крѣпко изъ града”. А эта фраза и сама по себе, и в сравнении с другими летописными эпизодами, где фигурируют сходные оценки, заставляет думать, что борьба вокруг городских стен носила равный характер либо даже протекала с некоторым психологическим преимуществом осаждённых.
Правда, обращаясь к коростеньцам, Ольга упоминает ещё и голод. Каковой действительно способен без всякого кровопролития поставить на колени любую силу. Однако при ближайшем рассмотрении и эта угроза перестаёт выглядеть неотразимой. Начать с того, что жителям древлянской столицы было не впервой выдерживать осаду, так что они знали, как к ней надо готовиться, а приход киевской рати внезапным уж точно не был. С другой стороны, топография Коростеньского опорного узла такова, что для его полной блокады потребно войско, минимум в 3-4 раза превышающее мобилизационный потенциал Русско-Полянской земли образца Х века. Призвать же на внутреннюю операцию силы с Руси в широком смысле даже Игорь не имел права, почему и отправился на древлян с одной лишь великокняжеской дружиной. И разгром и смерть старого князя в этом плане ничего не меняли, если не считать дополнительного ограничения возможностей нового киевского правительства что-либо требовать от федеральных земель. Так что даже сводная поляно-варяжская группировка была заведомо не в состоянии хоть сколько-нибудь полно перекрыть осаждённым коростеньцам пути сообщения с внешним миром.
Да, но если ни в военном, ни в бытовом отношении древляне не были загнаны в угол, то откуда тогда взялась полная капитуляция? Если защитники Коростеня сохраняли способность сражаться, но не считали это лучшим вариантом, то почему они не выторговали себе мир на прежних либо даже более почётных, чем после смерти Олега, условиях? Так, может быть, интервенты всё-таки нашли уязвимое место в их позиции?
Умозрительно можно представить себе и такое (например, когда осаждающим по ходу в целом отбитого штурма удаётся захватить кого-то из членов княжеской семьи, и Мал, чтобы спасти его жизнь, соглашается сдаться). Но применительно к любому реальному достижению киевских сил сразу встаёт всё тот же вопрос: почему об этом молчит летопись? Ведь история Рюрика, Олега, Игоря, Свенельда, Ярополка и проч. безусловно убеждает, что для варягов все средства были хороши, лишь бы они приближали победу, и не было такой хитрости или подлости, которая могла бы показаться им чрезмерной по отношению к врагу. Так что даже если бы ворота Коростеня открыли подкуп и предательство, для варяжского Киева это всё равно был бы абсолютно полноценный успех, о котором не грех поведать потомкам.
Отсюда то, что выдуманный погром древлянской столицы объясняется выдуманной же уловкой, заставляет считать, что заключённый в 946 году мир и те открытые и секретные статьи, из которых состоял скрепивший его договор, были инициативой не столько нападающих, сколько обороняющихся. А проще говоря, древляне, сохраняя технические возможности для продолжения войны, решили сложить оружие, посчитав баланс выгод и издержек от прекращения боевых действий более предпочтительным, нежели от их затягивания.
Наверное, кому-то такая мысль покажется странной и даже парадоксальной. Какие уж тут выгоды, если древлянские старейшины и сам Мал отправляются в рабство?! Однако не будем забывать, что и после усмирения восстания Ольга не отказалась от курса на ограничение варяжского произвола и установление твёрдого порядка во всех подконтрольных Киеву землях, включая Древлянскую. Напротив, этот подход стал доминирующим, ибо нейтрализация последней славянской династии, достигнутая под общим руководством вдовствующей княгини-матери, капитально укрепила власть и влияние лично Ольги в противовес сплотившимся вокруг Свенельда варягам-традиционалистам.
Тогда как в случае, если бы Мал с теми или иными уступками удержал своё княжение, то совершенно очевидно, что многие в Киеве трактовали бы его только как недобитого и опасного врага, уже обнаружившего свои глобальные аппетиты. А стало быть, представляли собой очень даже благодарную аудиторию для рассуждающих о том, что, мол, дело не доделано, угроза не устранена, и потому надо сохранять бдительность, держать мечи наточенными, не давать никому послаблений и т. д. То есть, сохраняя за собой трон, страну и армию, Мал, помимо всего прочего, объективно расширял бы социальную базу и укреплял позиции при киевском великокняжеском дворе своих главных врагов. Конечным результатом чего просто не могли не стать новые провокации против Древлянской земли, причём ровно в тот момент, какой Свенельд и иже с ним сочли бы удобным для себя и наименее подходящим для противника.
А война суть дело обоюдоострое. И если на данном этапе Мал и его народ имеют возможность выбирать, то чем обернётся конфликт, пришедший, может, через 5, а может, через 15 лет, точно не скажет никто. Поручиться можно лишь за новые жертвы, а также за то, что в случае победы Киева она будет целиком занесена на счёт проявившей “твёрдость и принципиальность” партии войны и террора – она же варяжская партия, – понятное дело, в ущерб весу и влиянию “либералов”, опекаемых Ольгой. Если же древлянам и ещё раз удастся отбиться, то лозунги мести и реванша останутся в силе и всё пойдёт по новому кругу.
Собственно, как это уже и было с Игорем. Но о сдаче на милость достойного наследника Рюрика нечего было и думать. Потому что, положив конец открытым войнам, такая капитуляция одновременно стала бы началом планомерного административного уничтожения древлян как самобытного народа. У Ольги другая цель и другие методы, так что перспективы примирения с ней выглядят гораздо более благоприятными. Однако вдова Игоря далеко не Игорь ещё и по своей реальной власти, и киевская политика зависит не только от её воли. Зато как раз древляне в состоянии помочь ей резко повысить своё влияние вплоть до превращения в главную фигуру в киевской иерархии. Вот только сделать это они могут одним-единственным способом – капитулировав перед ней, причём непременно “с первой попытки” и никак иначе.
Как видим, вариантов здесь совсем не много, так что любой более-менее грамотный политик мог быстро в них разобраться. Что же касается Мала, то у него, при наличии отличной выучки, отсутствовала необходимость срочно что-то предпринимать, а напротив, имелось по меньшей мере несколько недель, чтобы сравнительно спокойно обдумать все вновь открывшиеся обстоятельства и решить, какой способ действий точнее других согласуется со стратегической задачей сохранения жизни и благосостояния соотечественников. В связи с чем предположение, что при заключении мира 946 года позиция древлянского руководства была ничуть не менее активной, чем у Ольги, перестаёт выглядеть таким уж абсурдным. Более того, общий контекст ситуации свидетельствует в пользу того, что курс на сворачивание кровопролития и принципиально мирный и договорный выход из конфликта древлянский князь взял не после, а задолго до упомянутой в летописи битвы. А затем пошёл ещё дальше и целенаправленно обменял свой высокий официальный статус на более спокойное будущее древлянского народа, а отчасти и всех других славян Киевской федерации, положение которых было облегчено политикой Ольги.
Да, трудно спорить с тем, что в подобной завязке есть что-то от сентиментально-романтической баллады. И всё-таки гораздо больше в ней от логики государственного строительства и связанной с этим политической борьбы. Причём для реализации указанного сценария требовалось совсем не так много, как может показаться на первый взгляд. Для того чтобы Мал, признав Ольгу своим фактическим союзником, счёл возможным уступить ей ведущую роль в деле защиты славянских интересов, а сам отошёл на второй план, минимально необходимым является следующий набор предпосылок:
1) Мал и Ольга имеют близкие политические взгляды и сходным образом видят основные задачи развития славянской федерации.
2) Мал получает доказательства искренности, а главное, способности Ольги претворить в жизнь их общие планы (какой смысл в партнёре хотя бы и доброжелательном, но не имеющем ресурсов выполнить свою часть договора?).
3) Мал является человеком, способным поступиться личной судьбой ради реализации своих политических планов.
4) Мал и Ольга получают возможность договориться о координации усилий.
И теперь остаётся лишь проверить, что было налицо, а чего явно не могло быть в интересующий нас период.
II
. К вопросу об объективных предпосылках Коростеньского мирного договора 946 года.
1. Предпосылка 1 или были ли Мал и Ольга политическими единомышленниками.
Исследователи, прямо скажем, редко берутся рассуждать о политических представлениях деятелей ранней русской истории. И главной причиной здесь зачастую служит даже не скудость материала, а полная убеждённость в том, что для подобных разысканий просто нет предмета, поскольку в Х веке на Руси ещё не доросли до хоть сколько-нибудь систематизированного видения политических аспектов общественной жизни.
Однако А. М. Членов показал, что к этому времени в славянских землях гражданские и государственно-правовые отношения не только фактически существовали, но и осознавались именно как таковые. Конечно, образно-аллегорическое изложение соответствующих концепций сближало их скорее с фольклорными притчами, чем со стройностью Аристотелевых схем. Но свободная от академической строгости форма ничуть не мешала опираться на эти теоретические построения в практической деятельности и получать – естественно, при условии использования верных посылок – точные политические выводы. Об этом свидетельствуют не только прямые указания источников (число таких указаний действительно невелико, а имеющиеся не всегда связываются с именами и взглядами лично Ольги и Мала). Очень многое о прикладных возможностях использовавшихся тогда политических теорий говорит сам общий ход событий, основные этапы и переломные моменты которого можно проследить с полной уверенностью и независимо от того, как воспринимали эти события их современники, о чём они были готовы сообщить, а о чём пытались умолчать.
Первым делом здесь хочется обратить внимание на предшествовавшие казни Игоря 60 с лишним лет, в течение которых древляне, став в 883 году данниками Олега, затем терпеливо и последовательно отбирали назад рубеж за рубежом вплоть до полного восстановления былой независимости. Да, в чистом виде свобода длилась недолго, но зато следующие за этим почти 30 лет не отмечены никакими открытыми внутренними конфликтами. И если бы не династические притязания Свенельда, внутренний мир и стабильность на Руси вполне могли продержаться и ещё дольше.
При этом в IX-X веках за 60 лет могли смениться не одно и даже не два поколения правителей. Из чего следует, что схватка с Игорем была для Мала не обычной самообороной или сведением личных счетов, но закономерным продолжением династической политики национального древлянского сопротивления. Равным образом сын и внук Мала в своём противостоянии с любителями безграничного произвола защищали не только себя и своих земляков. Принимая вызов, брошенный им верными последователями Олега и Игоря, Добрыня и Владимир в очередной раз подтверждали, что боевые заветы древлянской династии живы и готовы проверить на прочность любого врага.
Идём дальше: начавшееся в 980 году правление Владимира в Киеве даёт много иллюстраций активного и зачастую определяющего влияния князя и его дяди на самые разные стороны жизни страны и общества. Всё это факты, зафиксированные письменными и материальными памятниками той эпохи (хотя и не всегда “Повестью временных лет”). А поскольку в вопросах государственного администрирования древлянские лидеры тоже вряд ли отступали от заветов своей династии, то отсюда следует, что уважение к традициям и институтам патриархальной демократии не мешало древлянским князьям быть в Коростене столь же значимыми фигурами, как Добрыня в Новгороде и Владимир в Киеве. Так что хотя отредактированная Ольгой летопись, стараясь выгородить Мала, всячески акцентирует момент коллегиальности в принятии древлянами важнейших решений, наверняка и в 940-946 годах ведущую роль в анализе быстро меняющихся условий и выборе отвечающих им маневров играл лично князь.
А чтобы оценить сложность и качество проделанной им работы, опять-таки достаточно вспомнить трагическую эпопею 972-980 годов, потрясшую всю Русь и наглядно показавшую, какие силы стояли за продолжение жёсткого варяжского диктата и какие амбиции были скованы договором 946 года, а затем четверть века обуздывались Ольгой. И на одном этом основании можно смело утверждать, что Мал и Ольга были одними из самых подготовленных и свободно мыслящих политиков своих земель, а может, и всего своего времени.
С другой стороны, казнь Игоря, а через 35 лет его внука Ярополка показывают, что там, где это имело смысл, Нискиничи не стеснялись действовать предельно жёстко. Так что держаться взвешенного и в целом миролюбивого стиля правления древлянских политиков побуждали не чья-то личная сентиментальность или идеалы абстрактного гуманизма. Просто в те времена, на фоне сравнительно невысокой производительности труда и располагаемых частных и государственных доходов, гораздо заметнее было то, что внутренние конфликты, кто бы ни считал их результаты своей победой, для страны в целом несут одни потери, прямо пропорциональные размаху и активности протестов.
Что, впрочем, не для всех служило сдерживающим фактором, и не все венценосцы, вздумавшие править, как левая нога пожелает, сталкивались с прижизненным возмездием за свои фантазии. Как следствие, у большинства тогдашних народов имелись собственные воспоминания об “удачных” попытках переключить механизмы публичной власти на обслуживание личных прихотей, а также периодически появлялись желающие ещё раз испытать судьбу подобных “счастливчиков”.
Но древлянские князья и здравомыслящая часть варяжских командиров смотрели прежде всего вперёд, а не только под ноги, и создание надёжных основ для процветания или хотя бы уверенного выживания своих наследников интересовало их гораздо больше любых сиюминутных удобств. Поэтому, работая на перспективу, Мал и ставшая лидером умеренных варягов Ольга, во-первых, добивались от общих планов и текущих шагов руководимых ими государств доброкачественных практических последствий. А во-вторых, заботились также о подведении под свою политику идеологической базы, доступной для понимания возможно более широких слоёв подданных. Соответственно, мать Святослава для обоснования присутствия сына на киевском троне и собственного вклада в жизнь страны привлекала теорию династического права. Со своей стороны глава древлян, отвергая притязания Игоря и разъясняя устами направленных в Киев послов причины его ликвидации, ссылался на модель, уподобляющую недостойного правителя волку в стаде, а достойного – рачительному пастуху.
При таких вводных люди, живо интересующиеся концептуальными основами власти и права, едва ли могли пройти мимо важных теоретических следствий, не то что вытекающих, а яркой вспышкой высекающихся из столкновения лоб в лоб двух политических доктрин. Следствия же эти таковы:
1) Определяющей для национальности не только правителя, но и всякого гражданина является не кровная принадлежность к тому или иному народу, а действия по отношению к стране проживания.
2) Правитель и гражданин, распасающие страну проживания, суть аборигены независимо от происхождения.
3) Правитель и гражданин, расточающие страну проживания, суть варяги независимо от происхождения.
4) Варяги могут покорить аборигенов, но до тех пор, пока в последних сохраняется хоть капля гордости и мужества, перед первыми будет стоять перспектива восстания и новой освободительной войны против них.
Таким образом, будучи взяты в комплексе, доступные нам данные говорят за то, что будущие организаторы династии подлинно русских князей, опираясь на средства “тёмного” и “непросвещённого” Х века, действительно смогли заглянуть на эпохи вперёд, через XVII-XIX века и вплоть до кампании 1917-1920 годов. Потому что, разглядев в межэтническом по форме конфликте зарождающуюся внутринациональную классовую борьбу, представить себе её предельное выражение – взаимно беспощадную гражданскую войну славян-якобы-овец против славян-сущих-волков – было уже делом техники.
Сообразив всё это, ответственные государственные деятели должны были дополнительно укрепиться во мнении, что лучше не допускать критического обострения внутренних противоречий, нежели потом пытаться устранять последствия открытых столкновений между “своими”, начавшими воспринимать друг друга как совершенных “чужаков”, не подпадающих под нормы человеческого обращения. А как люди, смотревшие на жизнь с вершин административной иерархии, Ольга и Мал (на первых порах, скорее всего, независимо друг от друга) посчитали, что наилучшей гарантией от превращения внутренних дел государства во внутренние фронты является сильная централизованная власть, способная в том числе жёстко осаживать начинающих звереть бояр-наместников, не давая им задирать сверх меры подданных и тем провоцировать последних на ответные акции.
Вот она – формула “золотого века”, веками питавшая потом мечту социальных низов о мудром и заботливом правителе, готовом судить строго “по правде” и не взирая на личности! Но истоки этой мечты лежали не в избах, и соответствующие сказочные сюжеты питались не одной лишь народной фантазией. Формирование у соотечественников именно таких представлений о власти являлось одним из стратегических приоритетов как раз владельцев Коростеньского княжеского дворца.
А самое главное, что в этом деле древлянские князья не ограничивались одними благими пожеланиями, но внимательно следили за тем, какие элементы их повседневной административной практики давали желаемый результат, а какие тормозили движение к намеченной цели. После чего находки и приёмы, доказавшие свою эффективность, оттачивались до полного совершенства и разъяснялись отцом сыновьям как важнейшая нематериальная часть того наследия, которое им предстоит хранить и приумножать. И постепенно классификация и более общее осмысление превращают набор рекомендаций по решению конкретных управленческих задач в целостную политическую концепцию по сохранению и развитию страны, государства и его граждан. Что дополнительно способствовало распространению во всех слоях древлянского общества единых представлений о государственной дисциплине и о соотношении прав и обязанностей управляющих и управляемых, ещё больше укрепляя положение правящей династии.
Впрочем, последнее никогда не становилось для древлянских князей поводом почить на лаврах, прекратить поиски и в дальнейшем следовать лишь готовым шаблонам и рекомендациям. В теории, как и в практике, Нискиничи всегда шли от жизни и за жизнью, воспринимая заветы предков именно как общие принципы, конкретная форма реализации которых может варьироваться с учётом текущих задач и складывающейся обстановки. Вплоть до уточнения самих исходных посылок. Так что когда Х век в лице Мала и Ольги, восприняв базовые положения древлянской теории управления, в то же время внёс в неё ряд существенных обновлений, это ничуть не нарушило старинной традиции, а напротив, лишь подтвердило её актуальность. Хотя для воззрений, основанных преимущественно на патриархальном материале, вопросы, вставшие перед реформаторами Руси во второй половине Х века, были не дежурными тренировочными примерами, но предельно серьёзной проверкой на прочность.
Причём главной проблемой для сторонников либерализации внутренней политики русской державы было, пожалуй, даже не наличие в Киеве сильной придворной партии, настроенной против таких перемен. Ведь варяги сделались на Руси политическим явлением отнюдь не только из-за чьих-то личных пристрастий. В гораздо большей степени это было внешне своеобразным, но по сути абсолютно логичным проявлением общеисторических закономерностей. И те, кто желал направить жизнь страны в иное русло – в каких бы терминах эти пожелания ни формулировались, – должны были если не во всех деталях, то хотя бы в общем виде представлять себе доминирующие тенденции и, если угодно, запросы эпохи. Потому что пытающиеся действовать вопреки ходу истории в лучшем для себя случае ничего не добьются, а в худшем – будут просто перемолоты в её жерновах. Разобраться же в том, “откуду Руская земля” в её нынешнем виде “стала есть” и куда теперь эту махину можно сдвинуть, для участников обсуждаемых событий было задачей весьма и весьма заковыристой.
Не говоря уже о том, что разбираться надо было не в какой-то “седой старине”, а в протекающих буквально за окном процессах (и от точности получаемых выводов, помимо всего прочего, напрямую зависела личная судьба исследователей), сама эпоха создавала дополнительные трудности для своего понимания. В самом деле, если задаться целью как можно более кратко описать общественно-экономическое состояние восточнославянских земель в начале IX века, то окажется, что его обобщённую оценку можно уложить всего в одно слово, и этим словом будет – переходное. Ибо, с одной стороны, жизнь пока сохраняла многие черты патриархально-родового уклада. Однако, с другой стороны, социальные и политические элементы идущего на смену родовому строю феодализма уже не просто существовали, но существовали давно, успели достичь высокой степени зрелости и занять прочное место во взаимоотношениях самых разных групп людей. Что создавало почву для множества разных и порой весьма запутанных и потому любопытных коллизий, но по этой же причине анализировать периоды такого формационного междуцарствия всегда сложнее, чем уже развитые и устоявшиеся системы общественных отношений.
Что же касается существа вопроса, то и современникам происходившего, и их заинтересовавшимся историей потомкам для продуктивного анализа стоило в первоочередном порядке учитывать следующие моменты:
1а) Постоянная военная угроза от сменяющих друг друга кочевых народов уже давно превратила военную составляющую власти племенных вождей (князей) из периодически проявляющегося свойства в неотъемлемый атрибут.
1б) Массированный характер внешней угрозы побудил массировать и силы отпора. А взяв старт на юге, процесс создания племенных макросоюзов быстро захватил всю полосу расселения восточных славян от Причерноморья до Ладоги. Впрочем, распространяясь на значительные территории, княжеская власть пока ещё даже не приближалась к абсолютной, поскольку сосуществовала в центре и на местах с органами прямой демократии в виде веча и народных сходов, сохранявших за собой весьма широкие регулятивные полномочия.
2) Несомненное благоприятное влияние специализации на рост мастерства всё резче расщепляет население на потомственные сословия по профессиональному признаку. Так что разделение труда из эмпирического факта экономики за века постепенно превращается в определяющий фактор политической и идеологической жизни общества.
Причём безусловное признание славянами наследственных прав на управление страной за членами княжеской семьи было, возможно, не самым значительным явлением этого рода. Потому что едва ли не более важным по своим последствиям становится появление наряду с народным ополчением, формируемым по мере необходимости из способных носить оружие свободных граждан, слоя профессиональных военных в лице княжих дружинников.
В самом деле, дабы принять на себя главное бремя ратных забот и ощутимо сократить отвлечение землеробов и ремесленников от продуктивного труда, эта категория государевых людей должна была быть достаточно многочисленной. Но, задавая общий курс на специализацию, та же самая экономика задавала и объективные пропорции для численности различных специалистов. Поэтому князьям, которые, конечно же, ничуть не возражали против расширения групп людей, готовых подчиняться лично им, приходилось также соглашаться с тем, что реальное состояние казны позволяет вооружить и содержать на полном государственном обеспечении контингенты, измеряемые сотнями воинов. И это вплотную подводило носителей высшей публичной власти к идее о необходимости укрепления собственной финансовой базы и изыскания более стабильных доходов, нежели военная добыча. Однако в этом вопросе, помимо личных пожеланий, надо было учитывать, что для введения новых налогов, а тем более в денежной форме, одной лишь воли монарха пока ещё недостаточно.
3) Главная часть национального дохода производится свободными тружениками, но патриархальное временное рабство уже сменилось рабством постоянным. Сверх того, выясняется, что подневольную работу могут выполнять не только пленённые чужеземцы, но и, например, задолжавшие земляки. И таким образом, всё очевиднее (а для многих ещё и очень соблазнительной) становится возможность без какой-либо компенсации отчуждать в свою пользу труд не только иноплеменников, но также и сородичей.
4) Происхождение пока ещё не теряет своего значения, но постепенно при определении принадлежности человека всё большей становится роль основной территории проживания и подданства.
И кто знает, к чему привело бы саморазвитие территориально-племенных славянских сообществ*, если бы в IX веке их плавная эволюция в сторону феодализма не прервалась, а примерное равновесие между патриархально-родовыми и сословно-политическими элементами жизни не было резко нарушено в пользу последних. Речь, конечно же, идёт о варяжской узурпации.
Ведь даже после захвата новгородского престола классическое порабощение северных словен для варягов исключалось просто по численному соотношению между ними. Да и в принципе перспектива организовывать – подобно тем же древним грекам и римлянам – деятельность больших масс людей не особо увлекала вольных бродяг Балтики. Куда больше по душе им был незатейливый грабёж (лучше звонкой монетой, но можно и натурой) в духе больших морских дорог. Так что соратники Рюрика даже в мыслях не замахивались на какую-то перестройку традиционных славянских промыслов, нацеливая свои реформаторские аппетиты исключительно в сферу распределения.
А с этой точки зрения для удачливых заговорщиков открывалось два пути: то ли сразу “хапнуть куш” отступного и убраться восвояси; то ли попытать счастья в деле единовременно менее масштабного, но зато систематического и бессрочного ограбления новгородцев, заставив их, яко побеждённых, платить не дань-откуп за море, а увеличенную дань-контрибуцию на месте. Однако даже эту меру находники не могли провести только своими силами, не рискуя затеряться на просторах Новгородчины и раствориться в массе местного населения. Стать во главе славянского государства и заставить работать на себя административную вертикаль, служившую прежним князьям, пиратский атаман мог, только найдя достаточное число влиятельных, а значит, по нормам того времени, знатных “аборигенов”, изнутри знакомых с порядком управления Новгородской землёй и готовых за умеренную мзду поддержать новый режим.
И такие люди нашлись, как без особых сложностей находились они и при всех последующих узурпациях и оккупациях. Потому что традиции верности своему роду-племени, продолжая соблюдаться по внешности, в существе своём были уже в значительной степени подорваны и изжиты, и для многих бояр получаемые “кормы” давно стали ближе и милее, нежели какой-то там национальный суверенитет, если приверженность ему тормозит рост их личных доходов. Так что когда факт государственного переворота поставил местную знать перед выбором: либо собирать, как и прежде, традиционные князевы “уроки” плюс контрибуцию в пользу варягов или же поднимать народ на борьбу с узурпатором и пытаться с одним ополчением одолеть закалённую в боях варяжскую дружину, – то перед лицом такой перспективы лишь меньшая часть новгородского боярства безоговорочно отказалась подчиняться самозванцу.
Со своей стороны новоявленный Рюрик, стараясь создать дополнительные поводы для колебаний в рядах словен и тем укрепить собственные позиции, скорее всего, не скупился на всякого рода жесты и встречные шаги процедурно-идеологического свойства. В частности, добившись от новгородцев твёрдого – на уровне закона – признания особого статуса для себя, своих потомков и свиты, в остальном свежеиспечённый князь вполне мог подтвердить действие прежней системы правосудия и тех её вершителей на местах, кто признал переворот. А также, как нормальный грабитель, не желающий ни с кем делиться добычей, наверняка заверил подданных в своей готовности всеми имеющимися силами защищать страну от других врагов. Наконец, заключил с Хорсом Новгородским договор о взаимном признании и сотрудничестве и сохранил, а может, и усугубил привилегии служителей культа. (Но вряд ли принял местный религиозный обычай в полном объёме, так как сын Рюрика получает чисто варяжское имя.) И всё же главное, что обратило к захватчику сердца бояр, уже давно точивших зубы на крестьянский зажиток, так это требование увеличить поборы плюс разрешение – естественно, в известных пределах – при сборе на местах “ненавистной варяжской дани” выгадывать кое-что и в свой карман.
Что же до главной проигравшей стороны – крестьян, то неотъемлемой чертой жизни этого класса является территориальная рассеянность и вытекающие из неё местная ограниченность и глобальная разобщённость. Поэтому во все времена восстания работавших на земле начинали серьёзно угрожать режиму лишь тогда, когда за их организацию брались какие-либо сторонние и свободные от жёсткой местечковой привязки активисты*. Чисто же крестьянские протесты редко когда захватывали больше нескольких соседних селений и обычно пресекались властями одной лишь угрозой применения силы. Так что когда мятеж наёмников снёс столичную верхушку прежнего фискально-распорядительного аппарата Новгородской земли, а из представителей местных звеньев этого аппарата большинство отказалось стать в ряды антиваряжского сопротивления, это сразу лишило решавшихся на бой жителей глубинки – а такие, наверное, всё-таки находились, – самых призрачных шансов на успех.
С другой стороны, достигнутый к середине IX века уровень производства позволял новгородским смердам сравнительно безболезненно увеличить размер государственных поборов. Что опять-таки побуждало предпочесть откуп от пиратов кровопролитию в безнадёжной ситуации. И в конечном счёте все эти предпосылки и соображения привели к тому, что сторонники активного сопротивления оказались в трагическом меньшинстве и были частью уничтожены, частью бежали на юг, как о том говорится в некоторых летописях. А места бояр-патриотов заняли верные прихвостни новой власти, чем и завершилось варяжское приручение новгородского государства.
В целом ту же операцию – снос и замещение макушки при сохранении основания административной пирамиды – провели варяги и в Полянской земле. С той только разницей, что выяснение отношений и разграничение сфер влияния с полянскими боярством и жречеством совершилось ещё быстрее и прошло более гладко, чем в Новгороде.
Ибо 20-летний опыт не просто подтвердил жизнеспособность, но и позволил варягам доработать весь механизм мобилизации коллаборантов. Свою роль играло и то, что преемник Рюрика шёл к Киеву не безродным бродягой, а уже в ранге признанного князя богатой северной земли. Так что идея “украсть сто рублей и сбежать” у Олега вообще не возникала – он изначально нацеливался на расширение подвластной ему территории, а экономические выгоды играли роль скорее приятного бонуса к решению главной политической задачи. Поэтому, переподчиняя себе народы, бывшие данниками Киева или хазар, убийца Оскольда особо не жадничал и сохранял прежние нормы государевых сборов, сводя к минимуму неудобства плательщиков от смены получателя платежей и связанные с этим поводы для конфликтов. И только по прошествии времени и по мере упрочения позиций варягов дани могли увеличиваться.
Ещё раз подчеркну: необходимым условием, материально-технической базой всех описываемых процессов являлась устойчиво возраставшая эффективность земледельческого и ремесленного труда. Без этого варягам было бы просто нечем покупать лояльность славянских госслужащих среднего звена, да ещё так, чтобы остальное население не ощутило резкого ухудшения своего положения и сравнительно спокойно наблюдало за переменами на княжеских столах.
В связи с чем приходится признать, что не одно лишь варяжское нашествие погубило традиционных славянских князей. Внутри страны этому немало поспособствовала как раз их традиционность, их верность родо-племенному уравнительному гуманизму, наследниками которого были Гостомысл, Водим, Оскольд и “неизвестные” летописи вожди кривичей, северян, уличей и иных покорённых варягами племён. Верность, продолжавшая существовать в обстановке повышения национального благосостояния и роста алчности их знатных и высокопоставленных “помощников”.
Когда бы, скажем, новгородские князья санкционировали доведение поборов с трудящихся до максимально возможных пределов, и варягам было бы уже нечего к этому добавить, то “за те же деньги” местное боярство едва ли стало долго терпеть чужеземцев и нашло бы способ покончить с их предводителем и так или иначе нейтрализовать рядовых находников (например, оформив их за подобающее жалованье на службу к сколь угодно далёкому родичу прежнего князя). Но поскольку единоплеменные правители не только не поощряли, но, напротив, ссылаясь на традиции, ограничивали притязания бояр, постольку боярская оппозиция традиционным способам перераспределения национального богатства нуждалась лишь в поводе, чтобы принять форму открытой измены традиционной княжеской власти.
Стоит также отметить, что сумма, на которую подати, установленные новым правительством, превышали объём средств, реально необходимых для содержания госаппарата, могла лишь казаться контрибуцией, выплачиваемой побеждённым народом своим завоевателям. Ведь, получив её, варяги никуда не девались, а оставались не просто на той же территории, но ещё и на вершине административной вертикали. В таких условиях дополнительная дань, с точки зрения формального права, оборачивалась ничем иным, как чисто феодальным оброком, выплачиваемым населением носителям публичной власти и главным образом в силу внеэкономического принуждения к таким выплатам.
Ясно, что откровенно произвольный характер данного платежа уже сам по себе резко противопоставлял плательщиков получателям. Но, сверх того, варяги, убедившись в отсутствии массовых протестов по поводу первого приращения дани и рассудив, что аппетит приходит во время еды, через какое-то время повысили её ещё раз, а потом и ещё, и ещё (образная память об этом сохранилась в исторической притче “Юрик-новосёл”; см. Приложение 1). Пока, наконец, новоявленный оброк, съев все излишки, не вдвинулся в необходимые жизненные средства трудового люда. После чего крестьяне и ремесленники волей-неволей были вынуждены активизировать выступления в защиту самого своего существования и против утративших разумность притязаний государства. А сторонники обеспеченной жизни за чужой счёт вместо того, чтобы уступить, предпочли “всей силой”, включая силу оружия, выступить в защиту “неотъемлемого права” монарха по своей воле распоряжаться “животами” подданных, начиная с их имущества и кончая собственно жизнями.
Основную нагрузку в реализующих такую защиту-нападение показательных расправах брали на себя варяги, но тянулись за ними и знатные местные бояре со своими отрядами. Потому что, с одной стороны, иметь рядом с собой превосходящие их по силе славянские вооружённые формирования пришельцы вряд ли желали, так что чисто военный вклад привлечённых “полицаев” был сравнительно невелик. Но, с другой стороны, во все времена подружившийся с оккупантами/колонизаторами сам начинал восприниматься как враг независимо от размера его реального участия в подавлении соотечественников. С учётом этого находники не упускали случая продемонстрировать причастность к своим грязным делам тех или иных пользующихся известностью местных деятелей именно ради появления на них клейма “пособников режима”, а уже во вторую очередь – ради экономии собственных сил и средств.
В свою очередь, приглашавшиеся помочь новой власти вряд ли нуждались в долгих уговорах. Потому что те, кто был по-настоящему против узурпаторов, с самого начала выбрали смерть в бою или изгнание. Тогда как оставшиеся самим этим фактом показывали, что они не настроены бросать всё ради продолжения борьбы в крайне сложных условиях и, как минимум, готовы прежде посмотреть, куда повернуться дела при варяжском правлении.
Не будем также забывать, что речь идёт о временах, когда само понятие права в немалой степени сближалось с силой как практической возможностью обеспечить определённый порядок действий для себя и других (ср., напр., кулачное право). Отсюда чья-либо способность удержаться на троне в течение хотя бы нескольких лет после свержения прежнего государя – особенно при наличии внешних угроз – начинала восприниматься как явление, закономерное не только в организационно-техническом, но отчасти также в юридическом смысле. Так что, поскольку внешнюю безопасность своей державы варяжские князья обеспечивали ревностно и вполне надёжно, то служба им, по крайней мере с этой точки зрения, могла представляться как следование национальному долгу, воинской дисциплине и т. п., а вовсе не как предательство.
На таком фоне государственные уполномоченные низового звена, особенно служившие в глубинке, могли, почти не кривя душой, подавать себя как жертвы обстоятельств наравне со всей страной. Дескать, куда деваться, коли наверху всё так сложилось, и не лучше ли, если нашу округу будет представлять перед столицей кто-то свой, нежели присланный чужак, от которого неизвестно, чего ждать*?.. И пока захватчики только знакомились с доставшейся им добычей, ситуация на местах могла оставаться очень похожей на прежние времена, когда у госслужащих и рядовых граждан не возникало даже мимолётных поводов задумываться о том, на какой стороне баррикад они выступают.
Общий же итог получается такой, что варяги, как захватчики львиной доли выросших платежей и главная сила, вынуждающая простых славян подчиняться, действительно “сумели” придать страстям вокруг государевых податей сильнейший национальный привкус. Однако кто бы и что бы ни думал по этому поводу, над всеми трактовками и толкованиями происходящего неоспоримо господствовал тот факт, что вооружённые силы страны, включая их славянскую часть, помимо действий на внешних фронтах отныне готовились ещё и к устрашению и подавлению внутренних противников политики великого князя. И хотя, повторимся, роль коллаборационистов в функционировании новой власти была исключительно подчинённой, это ничуть не умаляло исторического значения происходящего – законной целью для оружия в руках славян-госслужащих становятся в том числе славяне-подданные! Знаменуя тем самым превращение государства в соучастника гражданских конфликтов, то есть, по определению, завершение патриархального этапа его существования.
Так что если тезис о варягах – создателях русской государственности и имеет какой-то смысл, то лишь тот, что прорыв к власти балтийских пиратов резко ускорил становление классово-карательной ипостаси у давно сложившегося фискально-распорядительного аппарата славянских стран-земель. Возможным же такой поворот стал ровно потому, что предпосылки для окончательного оформления в славянских княжествах наряду с “внешней” также и “внутренней” политики достигли весьма высокого уровня зрелости. И узурпаторы явились в момент, когда, казалось бы, прояви они хоть малую толику государственной мудрости и удержись в тех пределах эксплуатации, условия для которых были налицо, и их “володение” было бы тихим и безмятежным на долгие времена.
Но законы истории едины для всех. Поэтому и в X веке на Руси для захвата отечественным боярством хотя бы тех плодов узурпации, которые тогда были вполне зрелы для сбора их, необходимо было завести феодализацию общества значительно дальше такой цели. Вполне очевидно также, что сами варяги и в мыслях не имели стать слепым орудием реализации универсальных принципов общественного развития, а просто следовали за обычной для профессиональных грабителей жаждой наживы. Тем не менее как раз из-за своей бесцеремонности пришельцы оказались на высоте доставшейся им исторической миссии, а выполнив её, ушли, как и подобает мавру, который сделал своё дело.
Ну а то, что сей уход совершился не “по-английски”, а больше напоминал выдворение из кабака настырного, но некредитоспособного клиента, и не обошлось без “битья посуды”, является лишь вопросом формы, ничего не меняющим в существе дела. Что же касается деталей и подробностей, то тут-то мы и подходим вплотную к тому клубку процессов и интересов, который Мал, Ольга и их потомки, взявшие на себя в этой истории роль главных вышибал, с переменным успехом пытались распутать в течение многих лет.
Итак, в Х веке по ходу правления Игоря алчность варягов и их подручных привела к тому, что налоговые пожелания государства стали ущемлять насущнейшие жизненные интересы простых славян. На что те, как это обычно бывает, сначала занялись поиском лазеек, позволяющих уклониться от новых платежей, а затем стали постепенно переходить к более активным методам противодействия столь явному разбою и его носителям. В свой черёд князья-варяги (помимо Киева более или менее самостоятельные правители, напомню, имелись ещё в Полоцке и Турове), столкнувшись с недостаточно быстрым, по их мнению, ростом госдоходов, усилили давление на сборщиков “даней”, требуя от них такого же усиления давления на плательщиков. И в итоге местные власти (состоявшие преимущественно из славян) оказались между двух огней: прямо перед собой они имели людей, доведённых до грани, за которой следует взрыв, а в спину их толкали окрики из столицы с требованиями всё новых поступлений.
Причём центр угрожал служебными санкциями, а крестьяне – физической расправой. При таком выборе местные исполнители, решив, что лучше всё же потерять “работу”, чем голову, явочным порядком затормозили разрушение остатков благополучия трудящихся и стали потихоньку саботировать фискальные затеи киевcкого двора. Тогда последний и впрямь начал тасовать местные кадры, а когда и это не дало желаемого результата, изъявил желание пополнить казну за счёт урезания теперь уже боярских кормов. Что по сути выдвигало на повестку дня вопрос о превращении бояр из самовластцев местного масштаба в совсем уж простых чиновников на окладе. Но для Х века это был явный перебор, в чём и пришлось убедиться сыну Рюрика и иже с ним.
Потому что, ощутив себя между жерновами столичной власти и утративших податливость податных сословий, уездные аристократы дружно сообразили, что сохранение такого положения в полном смысле сотрёт их в порошок и устранит из внутриполитической жизни страны*. И поневоле стали задумываться о том, что князь мог бы быть и полиберальнее и с меньшими запросами. Разумеется, это была весьма умеренная оппозиция варяжскому диктату, и если бы она была предоставлена самой себе, то трудно сказать, когда и на что осмелились бы её представители. Но зато когда вмешательством других сил задача устранения главного деспота была решена и развернулась борьба за изменение либо сохранение прежнего курса, то именно поддержка управленцев местного звена сыграла ключевую роль в успехе первых либеральных шагов правительства Ольги. Каковой успех, дополненный умиротворением древлян, позволил матери Святослава твёрдо встать у руля, несмотря на все происки “волчьей” партии.
Вполне возможно, что всех событий и стимулов, побудивших Ольгу занять ту позицию, которую она заняла, не знали даже её современники и ближайшие союзники. А нам и подавно не дано их узнать. Но главные причины, по которым жена Игоря пошла наперекор политике мужа и самой оголтелой части варягов, и через тысячу лет предельно очевидны. Это, во-первых, воспитание и общий строй взглядов, усвоенные в семье регионального, но достаточно важного варяжского функционера, чуждого экстремизма и смотревшего на происходящее с подлинно державной точки зрения. Во-вторых, естественная забота матери о судьбе сына и более отдалённых потомков, каковая забота в условиях критического падения популярности режима превращалась в тревожное опасение и страстное желание предотвратить надвигающуюся катастрофу*.
При этом по поводу стратегии никаких вариантов, а значит, и сомнений у Ольги быть не могло. Раз признаётся, что к крайне опасному для варяжской династии состоянию, когда раскол между государством и обществом стал проникать уже внутрь правящих кругов, привела политика безудержного грабежа, то отсюда само собой следует, что для укрепления олицетворяемой Святославом княжеской власти необходимо сокращать объём повинностей и упорядочивать их взимание. Но стратегия она и есть стратегия, и чтобы не сесть в лужу с самой что ни на есть рациональной общей идеей, требуется воплотить её в столь же рациональную тактику. А тут было над чем поломать голову.
В самом деле, объявить о чисто символическом снижении податей, фактически оставляя ограбленных в их нынешнем положении – это значило бы не унять, а лишь дополнительно подхлестнуть возмущение и без того уже практически восставших подданных славянской федерации. Обеспечить Киеву более-менее надёжный тыл по ходу войны с древлянами могли только по-настоящему ощутимые уступки на внутреннем налоговом фронте. В то же время, предполагая пересмотреть цели и методы управления страной, Ольга ничуть не собиралась полностью отказываться от тех прерогатив и того уровня самодержавности, какими обладала княжеская власть при её муже. А власти без материального обеспечения не бывает. И при разработке налоговой реформы задача максимально оградить княжеские доходы стояла перед Ольгой ничуть не менее остро, чем задача успокоить массы рядовых плательщиков.
Ограничить потери казны можно было, снизив подати отчасти за счёт бояр. То есть реализовав планы Игоря в отношении администраторов среднего звена, но с той разницей, что новое правительство урезало бы боярское довольствие в пользу крестьян, а не князя. Дескать, не поделим беду на всех сейчас, тогда вскорости вместе пропадём, и делить останется разве что землю на кладбище.
И на словах против этого в условиях острого кризиса было трудно что-то возразить. На деле же приходилось помнить, что от официальных помощников трона и впрямь многое зависит, и что боярство уже показало себя способным содействовать госперевороту ради ожидаемой “прибавки к жалованию”. Так что, затрагивая фактические доходы землевладельцев, Ольге тем более стоило проявлять осмотрительность и учитывать самые разные возможности, вплоть до попыток полянских союзников, если они сочтут себя чрезмерно обиженными, договориться за её спиной с древлянами. (Так, напомню, поступят киевские бояре с Ярополком, а сын Мала пойдёт на сделку, дабы поскорее покончить с князем-волком и освободить киевский престол для древлянского князя.)
Наконец, нельзя было упускать из виду и различия внутри самого боярства. Ибо как раз держатели дальних мелких и средних вотчин, будучи противниками засилья столичных магнатов, перекрывавших провинциалам пути наверх, могли стать полезными партнёрами монархии в её борьбе с попытками крупнейших землевладельцев поставить государство под свой контроль. В связи с чем политически более грамотным ходом становилось перенесение главной тяжести совокупных финансовых уступок боярства на высшую аристократию и за счет этого относительно меньшее “обездоливание” второразрядных вотчинников. Хотя организационно и психологически действовать против своего ближайшего столичного окружения центральной власти, конечно же, было намного сложнее, чем принимать решения, ущемляющие рассеянных по стране ординарных вассалов короны.
Задача увязывания столь противоречивых условий и запросов в единую и сколько-нибудь устойчивую систему даже с высоты опыта ХХ века не выглядит простой*. И тем не менее, судя по стабильности, коей отмечено правление Ольги, задача была успешно решена. Правда, при всей очевидности того генерального направления, в котором должен был готовить свои предложения “теневой кабинет” матери единственного наследника, установить в деталях, какую роль в подготовке искомой системы сыграла лично Ольга, а какую – её помощники и соратники, вряд ли когда-нибудь удастся. Поэтому здесь, пожалуй, самое время прервать рассуждения “за Ольгу” и посмотреть, что же могла предложить для решения указанной проблемы древлянская школа политической мысли.
А в этой связи прежде всего хочется отметить, что мысль теоретика-одиночки подчас может довольно далеко вырываться из пределов непосредственно воспринимаемого. Но массовому сознанию прививаются только идеи, находящие зримое и осязаемое подтверждение в повседневной практике. В нашем случае это означает, что для того, чтобы в 945 году древлянские представители могли как нечто для них самих вполне очевидное развивать перед Ольгой тезис о роли главы государства как стража народных интересов, весь древлянский народ должен был прежде столкнуться с чем-то подобным в реальной жизни. Причём столкнуться не вчера и даже не год назад. Чтобы достаточно свыкнуться с такой государственной идеологией, древлянское общество должно было наблюдать и испытывать на себе соответствующие практические воздействия национальной администрации по меньшей мере несколько последних поколений.
Добавим к этому, что приведённая в летописи аллегория далеко не ограничивается пожеланием правителю заботиться о спокойствии и достатке подданных. Уподобление пастырю, очевидно, ставит монарха и, шире говоря, публичную власть НАД обществом и довольно прозрачно признаёт за ними право – в случае неразумного поведения пасомых и потравы ими “народного интереса” – прибегать к средствам принуждения, будь то кнут или что-то ещё.
Иными словами, если исходить из того, что общественное сознание всегда следует за политикой и экономикой, то остаётся признать, что не только государственно-правовая идеология, но и древлянское общество в целом задолго до Х века вступили в этап, обозначенный нами как “II. Развитие имущественного неравенства и трансформация раннедемократических государств в сословные диктатуры” (см. прил. 2). Потому что мысль о том, что среди функций государства может быть сбивание “народа” в плотное “стадо”, не могла обрести популярность раньше, чем имущественное расслоение дошло до стадии полного противоречия интересов различных общественных групп. После чего для введения междуусобицы в совместимые с жизнью страны рамки и поддержания хотя бы внешнего единства понадобились люди, способные служить верховной третейской, а при необходимости также и карательной силой в деле замирения гражданских конфликтов. И только по прошествии ещё какого-то времени идейно-теоретическое обоснование их практической работы могло стать привычным и “родным” для широких масс населения.
На сходные размышления наводит и сам факт особого положения родины Нискиничей на фоне варяжской узурпации. В самом деле, почему в других славянских землях находникам удаётся найти достаточно коллаборационистов, чтобы свергнуть местные династии, а в Древлянии – нет? Апелляция к одним лишь высоким моральным качествам древлян в данном контексте выглядит явно недостаточной, поскольку всякая массовая мораль, будь то высокая или низкая, чтобы начать служить средством объяснения, прежде сама должна быть объяснена. Попытка перевести вопрос в нравственную плоскость даёт нам не решение, а всего лишь другую его формулировку. Например, такую: почему у тех же кривичей или полян боярство обнаружило в себе расширенную готовность к предательству, а у древлян – нет? Но содержательно проблема остаётся.
В свете же вышесказанного особая обороноспособность Древлянии получает простое и логичное объяснение. А именно: взявшись (под натиском кочевников) одними из первых среди восточных славян за государственное строительство, древляне и в IX веке продолжали опережать своих соседей в социально-политическом развитии. Потому что к счастью или к несчастью, но задолго до встречи с войском Рюрикова родича Древлянской земле уже довелось пережить противостояние двух политических лагерей, один из которых замахнулся на роль покорителя собственного народа, а другой сумел отразить этот выпад.
После чего победившие в гражданском конфликте (по форме выглядевшем как борьба за трон) взялись за организационное и идеологическое закреплении добытого оружием успеха. В качестве одной из мер монарх был провозглашён главным хранителем народного интереса от внешних и внутренних посягателей, а народное собрание предоставило князю потребные для этого и сообразные с эпохой права и полномочия. Затем, дабы лишить проигравших поводов и социальной базы для новых выступлений, была воплощена в жизнь часть их наиболее страстных пожеланий. В том смысле, что боярам, сохранившим верность законной власти, помимо разовых поощрений достался пересмотр общих правил налогообложения, суливший заметное повышение их ежегодных “кормов” (к чему в первую очередь стремились мятежники).
Вероятнее всего, это было сделано через введение или расширение в боярских окладах не-фиксированных поступлений. На том основании, что сразу после гражданской войны требовать от поредевшего и оскудевшего крестьянства даже довоенного объёма налоговых взносов несправедливо и просто опасно. Но несправедливостью будет и то, если отстоявшим страну от внутренних врагов и честно заслужившим награду патриотам в общем итоге достанется ещё меньше, чем до победы. А избежать обеих этих несправедливостей позволяет, например, признание за владельцем некоторой области права – наряду с определёнными объёмами мёда, дичи, рыбы и проч., доставляемыми ему жителями – получать также долю с платежей, сопровождающих торговую активность местного населения и заезжих купцов. На первых порах это будет не очень много, но зато в будущем, когда затянутся раны войны у страны в целом, общий подъём сразу отразится и на достатке княжих помощников. А главное, им больше не придётся просить как милости прибавки к жалованью – их доходы будут двигаться строго вслед за совокупным благосостоянием опекаемого ими региона.
Сводилось ли экономическое поощрение боярства к однажды установленному проценту от прироста производства в их вотчинах или же была разработана какая-то более тонкая и гибкая схема, в данном контексте не столь важно. Для целей нашего исследования достаточно отметить несомненный практический эффект от принятых мер – сохранение в Коростене вплоть до Х века славянской княжеской династии. Само по себе доказывающее, что экономическая политика Нискиничей оказалась приемлемой для податных сословий и устраивающей большинство землевладельцев. Так что тот шаг по пути феодализации, который варяги в IX веке помогли сделать в Новгородской, Полоцкой, Смоленской и других славянских землях, для древлян был давно поседевшей стариной. И резко увеличить долю их вотчинников в эксплуатации страны без потери в ней политического равновесия было уже невозможно. То есть для своих амбаров от вокняжения варяга древлянские бояре могли ждать в лучшем случае их наполнения на прежнем уровне, да и то вряд ли. Уж слишком хорошо были известны на Руси аппетиты вышедших на государственный уровень балтийских пиратов. В кадровой же политике сдача чужеземцу-завоевателю, очевидно, сулила местной аристократии утрату большой части или вообще всех высших придворных должностей и резкое сокращение влияния на происходящее в том числе с их личными владениями. Словом, одни сплошные убытки.
Вот эти-то пусть даже с примесью корыстолюбия мотивы и порождали у древлянских бояр больше патриотизма, чем у их коллег в Смоленске или Киеве. И в конечном счёте возможность опереться именно на народ, всеми сословиями сплотившийся вокруг родной династии, позволила древлянским князьям сохранить трон, а главное, реальную власть, выговорив себе минимально возможную, с учётом конкретной обстановки, зависимость от варяжского Киева*.
Общий же вывод получается такой, что в то время, пока Ольга ещё только начинала задумываться о необходимости выработки разностороннеприемлемых норм и квот раздела национального дохода в феодализирующемся обществе, Мал уже знал по меньшей мере один действенный способ решения этой задачи. Плюс к тому древлянский князь владел богатым арсеналом других приёмов и методов, подобранных и настроенных его предшественниками специально для обеспечения главе государства максимальной свободы рук в деле организации и контроля жизнедеятельности страны. Причём будущий сват Ольги вовсе не считал эти знания и умения случайно-местечковым артефактом, пригодным лишь для его родной земли. Совсем наоборот, притязания Мала на наследство побеждённого им Игоря безусловно доказывают, что отец Добрыни был готов распространить древлянский порядок правления на всю Киевскую федерацию.
А ещё мы знаем, что когда в 970-х годах Ярополк Святославич под влиянием Свенельда принялся возрождать режим военной диктатуры в духе Рюрика-Игоря, то другой сын Святослава, Олег, тогда князь Древлянский, во-первых, выступил против таких попыток, а во-вторых, обосновывал свою позицию в том числе ссылками на опыт и заветы Ольги. Лишний раз подтверждая этим, что Ольга была наследницей мужа только в юридическом смысле, а политический климат при ней меняется совершенно. И княжеская администрация, доселе возглавлявшая и вдохновлявшая беспардонное псевдоналоговое ограбление трудящихся славян, начинает осваивать функции регулятора, до известной степени сдерживающего произвол землевладельцев и отчасти ограждающего интересы земледельцев. То есть принимает по сути древлянский курс – только без самого именования “древлянский” – на превращение раннефеодального государства в стоящего на страже внешнеоборонного “народного интереса” гражданского арбитра; в обруч, силой металла (железа, свинца, серебра) стягивающий воедино расколовшееся на противостоящие классы общество.
С другой стороны, присутствие вместе с сыном в отправившемся на древлян войске, переговоры с византийскими императором и патриархом, инициатива крещения, поведение накануне смерти, посмертные отзывы о ней киевских бояр, в общем, все дошедшие до нас сведения о матери Святослава, помимо высокой политической грамотности, обнаруживают также сильный характер и весьма серьёзные амбиции. А такие люди, как показывает опыт, по самой своей природе не могут быть пассивными проводниками чуждых им идей, поскольку принимают лишь те советы, которые в целом согласуются с их собственными взглядами. Так что независимо от того, сформулировала ли Ольга основы своего мировоззрения самостоятельно или усвоила через чьи-то наставления*, после этого этапа превратить её в свою безвольную марионетку не было дано никому, включая Мала Нискинича (который тоже далеко не всё придумывал сам; большую часть применявшегося древлянскими князьями политического инструментария они получали в готовом виде от старших родичей).
Добавим к этому, что если не детали, то генеральную линию политики, подходящей для сына, Ольга определила никак не позднее момента, когда надо было добиваться славянского имени для новорожденного. И отсюда окончательно получаем, что стратегическими единомышленниками родители Малы и Святослава стали не в процессе осады Коростеня, а по меньшей мере лет за 5-6 до этого. Что, собственно, и требовалось доказать.
2. Предпосылки 2-4 или были ли у Ольги и Мала возможности узнать себя друг в друге и договориться о сотрудничестве.
В то время как экономическим залогом ожесточённости разгоревшегося на Руси конфликта служила норма эксплуатации, вознесённая варягами за социально-безопасный уровень, накал политической борьбы задавался тем, что имелся только один великокняжеский стол. И сколь ни мал был Святослав, поместиться рядом с ним во главе Руси другой князь, начиная с Мала, никак не мог, или – или. Поэтому на первых порах почти что политические близнецы Ольга и Мал, равно претендовавшие на контроль над славянской федерацией, становятся противниками. И происходи это в иных условиях, очень даже могло статься, что никакая близость воззрений и программ не помешали бы будущим своякам схватиться за власть “по всем правилам”, то есть без всяких правил.
Но в том-то и дело, что, помимо друг друга, у Ольги и Мала имелся ещё общий конкурент – сомкнувшиеся на платформе форсированной абсолютизации Руси высшие слои варяжского войска* и полянского боярства. Да, восстановив против себя уже не только трудящиеся сословия, но и немалую часть “вольных слуг” короны, клика ультрароялистов переживала глубокий кризис. Но это не означало, будто варяги, продолжающие мнить себя хозяевами захваченной страны, и примкнувшие к ним славяне добром сдадут свои позиции. Напротив, как раз осознание нарастающей зыбкости своего положения делало иноязычных и доморощенных волков особенно опасными, поскольку в стремлении вернуть былую власть подобная публика могла решиться на самые отчаянные эксцессы. (Собственно говоря, такими попытками и были переворот Свенельда-Ярополка, а затем устроенный вышгородскими боярами мятеж 1015 года в пользу сына Ярополка.) Ну а перед лицом общего грозного противника случалось забывать свои разногласия и начинать сотрудничать самым разным силам – от афинян и спартанцев в 479 году до н. э., русских и половцев в 1223 году н. э. до Бисмарка и Версаля в 1871 году. И чтобы убедиться, что в 945-946 годах имел место один из таких случаев братания, казалось бы, непримиримых соперников, остаётся лишь ещё раз проследить, какие развилки ждали Киевскую державу на пути от казни Игоря до водворения Мала в Любечскую крепость, но уже с точки зрения политических взглядов и чаяний главных действующих лиц этой истории.
Итак, Х век, воспоминания и размышления (принципиальная схема):
Мал: С поражением Игоря война практически закончена. Конечно, варяги в Киеве и не только в нём ещё остались, но разрозненные и лишившиеся своего лидера они уже не так опасны. Надо только не дать им опомниться и как можно быстрее отобрать последнюю карту – наследника взятого обманом престола. Убить? Настоятельной необходимости в этом, пожалуй, нет, нейтрализовать малолетнего можно массой других способов. Но для спокойствия всех земель будет лучше, если потомок узурпатора разместиться в древлянских пределах под надёжным контролем и вне политической борьбы, а там посмотрим, как с ним быть. Что же до Киева, то туда можно будет направить… (Добрыня несомненно был старшим сыном Мала, но в 945 году даже он не был готов к самостоятельному правлению. Так что, собираясь взять под свою власть Киевскую федерацию, древлянский князь на первых порах мог рассчитывать только на наместников. Однако стараниями киевских летописцев ни одного имени из нетитулованного окружения Мала до нас не дошло.)
Вариант, при котором соседи откажутся выдавать Святослава, в Коростене, возможно, даже не пытались глубоко разбирать. Ведь в последнее время Игорева клика стала вести себя по-волчьи по отношению не только к древлянам, но и широким слоям самих полян. И в сочетании с памятью о многовековом опыте сотрудничества славянских земель в борьбе с всякого рода иноземной угрозой это позволяло рассчитывать, что поляне с радостью освободятся от сына Игоря как последнего неубранного обломка разбитого чужеродного режима и последнего напоминания об узурпированном периоде их истории.
Киевляне: Вот только в 945 году поляне и киевляне – это было уже далеко не одно и то же. Будучи непопулярным руководителем, держащимся у власти почти исключительно за счёт военной силы, Игорь, помимо варягов, мог доверять лишь тем аборигенам, которые усердным служением ему начисто отрезали себе обратный путь в лагерь славянского сопротивления. Те же, кто не проявлял достаточного рвения в деле подавления соплеменников и навлекал на себя хотя бы только подозрение в сочувствии патриотам, если и не уничтожались, то немедленно высылались в провинцию, а их место при дворе занимали “честные” коллаборационисты. Так что хотя идейные “колабо” и составляли меньшую часть полянских “лучших людей” (как называли сами себя бояре и жрецы Перуна), но значительная часть именно этой части была сосредоточена в столице и доминировала при дворе. Соответственно, выслушивать прибывших в Киев древлянских послов и принимать решение по высказанному ими предложению предстояло тем, для кого согласиться на выдачу Святослава было равносильно уж точно политическому самоубийству.
Ведь даже при том, что предъявленное Игорю обвинение в нарушении княжеского долга вообще и договора с древлянами в частности на его полянских слуг не распространялось, древлянское правление по самой своей сути не нуждалось в свирепых выбивателях дани. Поэтому при переходе Киева под руку Мала верные помощники князя-волка несомненно лишились бы своих постов. Но ещё до кадровых решений новой власти многих из приспешников прежнего порядка сами поляне могли уличить в насилиях и беззаконии. И в обстановке междуцарствия, если бы такое случилось, для подобных деятелей резко возрастала вероятность стать объектами прямого народного правосудия.
Что, и произошло бы, если бы кучке полянских ренегатов, желающих спасти свою шкуру и место при власти, не удалось подкрепить обуявшие их страхи реальной и преимущественно славянской военной силой, собранной в сжатые сроки в Киеве. Как им это удалось? Сыграв на старой, как родовой строй, но до сих пор не замолкшей струне национализма, в данном случае – полянского земельного национализма. Бестрепетно валя с больной головы на здоровую, Мала обвинили в древлянском шовинизме, стремлении свергнуть законную (?!) династию и узурпировать (!!) Киевский стол, залить кровью Полянскую землю, и бог знает, какой ещё грязью не забрасывали древлян не на шутку встревожившиеся полянские варяги и варяжские поляне. И не счесть примеров того, как в самые разные эпохи жупел Н-ской угрозы поднимал якобы на защиту отечества, а на самом деле на защиту своекорыстных интересов правящей клики действительно народные массы.
Ну а заполучив в свои руки войско, готовое сражаться “за Родину” и против “древлянской угрозы”, киевляне, разумеется, приободрились. И выяснилось, что “коварные замыслы Мала” – это есть просто-напросто выболтанные от возбуждения собственные мечты приблудных и доморощенных волков свергнуть наконец традиционную древлянскую династию и через административную ассимиляцию Древлянской земли устранить грозного в своей стойкости соседа. И вот уже слышатся призывы “Отомстить!”, “Наказать!” и т. п.
Ольга: Святослав должен стать общерусским князем, но для этого он должен прежде всего стать князем, а не пленником. Причём после потери Игоревой дружины закрепить за сыном высший титул предстоит в условиях, когда надёжная защита Киева может быть обеспечена только солидарными действиями всех имеющихся варяжских и полянских вооружённых формирований. И даже если бы не имелось никаких других причин, одной лишь необходимости варяжской поддержки для выживания династии было бы более чем достаточно, чтобы побудить Ольгу по крайней мере на первых порах относиться к позиции варягов с большим вниманием и предупредительностью.
Но ещё важнее то, что, намереваясь проводить политику социального мира и подвести под трон Рюриковичей славянскую опору, Ольга никоим образом не собиралась добиваться этого ценой выбивания опоры варяжской. А посему изо дня в день она будет разыгрывать правительницу, для которой доброе согласие между всеми её подданными – это, в общем-то, точно такая же прихоть, какой было для её покойного мужа всемерное унижение славян. И именно поэтому добиваться воплощения данной прихоти она будет со всей решительностью и непреклонностью своего истинно варяжского характера.
В результате при Ольге действительно будет положен конец самовольным поборам и прочим бесчинствам, которые до этого воспринимались варяжскими служаками сверху донизу как практически официальная надбавка к их штатному жалованью. Но в остальном как при юном, так и уже возмужавшем Святославе варяги сохранят своё обеспеченное существование, а лично Свенельд – высокий пост и серьёзное влияние при дворе. Из чего следует, что все изменения государственной политики, предложенные и реализованные Ольгой после превращения её в полноправного члена правительства, получали путёвку в жизнь с ведома и при участии лидеров варяжской партии.
Поэтому в 945 году о сколько-нибудь существенной смене порядка правления, очевидно, даже речи не шло. Тем не менее после получения известия о смерти Игоря Ольга смогла добиться, как минимум, приостановки взимания самых раздражающих сборов и, весьма вероятно, ещё каких-то дополнительных мер, которые сами по себе не отменяли агрессивной сути режима, но уже позволяли обоснованно утверждать, что власть начала прислушиваться к своим подданным и готова в чём-то идти им навстречу. Это могли быть, например, отставки некоторых наиболее рьяных лихоимцев, смягчение наказаний или полное помилование для пострадавших за протесты против чиновных злоупотреблений, элементы либерализации в организационной сфере (вроде восстановления запрещённых ранее не самых важных элементов местного самоуправления) и так далее в том же духе.
В таких условиях умеренная оппозиция, как правило, начинает сильно колебаться, а радикальные элементы, оказавшись в меньшинстве, признают целесообразным не торопиться с активными действиями и прежде посмотреть, куда пойдут события дальше. Да, примирительные акции власти по отношению к своим противникам на поверку нередко оказываются лишь тактической уловкой, призванной выиграть время, чтобы затем, собравшись с силами, нанести очередной удар. Но в любом случае сам факт появления у государства – особенно монархического – нового главы всегда и везде порождает чисто человеческие надежды и ожидания, что грядущие перемены будут к лучшему, а не наоборот. В общем, внутри державы обновлённая киевская власть необходимую ей тактическую передышку так или иначе получала.
Вот только древляне на тот момент уже не являлись данниками Киева. Покончив с Игорем, они фактически и юридически сбросили варяжское иго и полностью восстановили свой суверенитет. После чего никакие самые милые заигрывания Киева со своими подданными, будучи для древлян абсолютно посторонним делом, не могли произвести на последних нужного впечатления. Скорее наоборот, как раз наблюдая ситуацию со стороны, в Коростене могли судить о ней гораздо объективнее соседей. Поэтому в древлянском руководстве вряд ли упускали из виду, что объявляемые именем Святослава либеральные шаги (сколько бы их ни было) в известной мере облагораживают лишь внешний облик режима, но ничего не меняют в основах организованного варягами государства. Так что если Ольге или Святославу в какой-то момент надоест роль дальновидного и помнящего о справедливости правителя, то все нынешние уступки и послабления с той же быстротой могут быть отыграны назад.
Причём с этой особенностью предлагаемых ею реформ Ольга при всём желании ничего не могла поделать. Потому что именно в блокировании фундаментальных преобразований и сохранении условий для немедленного возвращения к политике безудержного государственного хищничества состояла категорическая позиция Свенельда и иже с ним. И считаться с этой позицией приходилось всем противникам дальнейшей дестабилизации положения в стране, будь то варяжские либералы или полянские коллаборационисты. В связи с чем Ольга не могла также не понимать, что в 945 году в глазах древлян и лично Мала она, конечно, никакой не союзник и даже не кандидат в союзники, а лишь хитрая варяжская жена волка-Игоря, готовая прикинуться кем угодно и давать любые обещания, лишь бы сохранить за собой власть. И что, следовательно, по доброй воле обратно в подданные Киева древляне не пойдут.
Но и оставить восставших соседей в покое тоже не получалось. Не говоря уже о том, что древлянские взносы составляли достаточно весомую часть киевского бюджета, в общеполитическом контексте возвращение вчерашних данников к покорности становилось поистине делом принципа. Когда бы Игорь просто потерпел поражение, потерял большую часть дружины, но сам вернулся живым, это выглядело бы обычной военной неудачей, что случаются даже с крупными полководцами. И при таком повороте отсутствие немедленного нового вторжения и даже полный отказ от покушений на независимость древлян выглядели бы чисто рабочим решением, лежащим строго в русле полномочий великого князя. А вот смерть и тем более позорная казнь главы государства, согласно традициям эпохи, накладывала на его наследников непременную обязанность мести. Отсутствие же хотя бы попытки исполнить эту обязанность грозило новому киевскому правительству резким падением и внутреннего, и международного авторитета. Вплоть до того, что Византия, видя столь явное ослабление своих русских партнёров, могла прекратить выплату “дружеской” субсидии, к чему её принудил Игорь, но пока ещё не Святослав.
Коротко говоря, война с древлянами становилась неотъемлемой частью политического наследства Игоря, и вступить в полноценное распоряжение этим наследством Ольга могла, только вернув потерянное мужем, то есть добившись от Коростеня покорности и согласия платить хотя бы прежнюю дань. А сделать это одними дипломатическими средствами было крайне затруднительно.
В то же время сокровенным замыслам Ольги категорически противоречит и жестокий разгром Древлянской земли. Чтобы Святослав мог не только в теории, но и по существу претендовать на звание славянского князя, самый способ прекращения восстания должен если и не привлечь простых славян на сторону новой власти, то хотя бы не оттолкнуть их от неё. Причём добиваться этакого не очень горького для проигравших поражения предстоит под чутким надзором варяжских “ультра”, кои требуют мести и крови и не исключено, что уже готовят новый переворот и альтернативного князя на случай, если регентша проявит “мягкотелость” в деле подавления древлян. Воистину хождение по лезвию бритвы – школьное упражнение по сравнению с задачей Ольги в 945 году.
Пытаясь решить эту задачу, она параллельно с подготовкой военной экспедиции в “Дерева” принимается по мере сил готовить систему ограничителей для этого предприятия, а проще говоря, узду, призванную удержать армию и воевод в приемлемых рамках. Для чего всячески старается остудить накал антидревлянской истерии и перевести предъявляемые древлянам претензии из сферы эмоций на почву традиционного славянского права. Ибо законный князь, каким рисуется Святослав, даже с разбойниками должен расправляться не по своему произволу, а по национальному закону.
Помочь Ольге дать древлянскому инциденту правовую оценку в местном духе охотно берутся полянские бояре, ибо такой маневр матери Святослава продолжает укреплять их влияние при киевском дворе. И, возможно, не сразу замечают при этом, что разложение случившегося под Коростенем на конкретные составы преступления, во-первых, резко снижает злостность содеянного древлянами. Как ни крути, но даже самые ярые сторонники Игоря не берутся отрицать, что нарушать установленный договором порядок взимания дани начал именно он. А во-вторых, в ответ на требование Ольги определить главных виновников смерти её мужа взявшиеся за предварительное расследование бояре вынуждены признать, что это не древлянский народ в целом, а только жители столичной области, и что древлянский князь несёт за эту смерть не единоличную, а только солидарную ответственность.
Тем самым закладываются первые предпосылки для ограничения размаха карательных санкций и сохранения жизни Малу и его семье. Вот только хватит ли этих предпосылок, если удастся победить древлян, но их вождь попадёт в руки воинов Свенельда?.. А если победить не удастся? Нет, такой вариант вообще не заслуживает рассмотрения, поскольку второго поражения подряд династия Рюриковичей может и не пережить…
Мал: Война, которая казалась оконченной, продолжается. Это само по себе неожиданно, но вдвойне неожиданно то, что объявили её славяне, но именем варяжского князя! Отказ капитулировать и желание драться до последнего со стороны варягов были бы неудивительны. Но в том-то и дело, что древлянское посольство направлялось к славянам, а не варягам, и ставило вопрос не о капитуляции Ольги и Святослава, а об их выдаче. Победители не “приглашали” семью покойного Игоря в плен, а считали её уже находящейся в плену у своих естественных кровных союзников и просто предлагали “братьям-славянам” передать в Коростень один из общих славянских трофеев.
И вдруг не просто отказ (просто отказом было бы оставление Ольги и Святослава в Киеве и экстренная посадка на киевский трон славянского князя-не-древлянина), а война! И не чисто национально-освободительная, какой выглядела схватка с дружиной Игоря, а осложнённая “старой доброй” усобицей двух соседних славянских народов. Оказывается, варяжский вопрос, который, по идее, должен бы исключительно сплачивать славян, способен давать прямо обратный эффект, способен разъединять исторических соплеменников и бросать их в бой друг против друга к вящей радости хищных чужеземцев…
Так Малу уже на личном опыте приходится убедиться, что внутренние волки могут быть злее заморских, и что именно вопрос о власти (в данном случае о власти в Киеве), так легко превративший отечественную войну в практически гражданскую, превосходит по значимости любой национальный вопрос, будь то варяжский или какой-то ещё. Впрочем, у отца Добрыни ещё будет время без спешки проанализировать исходные идеи, порядок исполнения и последствия своих и чужих дипломатических и собственно боевых маневров и довести древлянскую политическую теорию до высот, к которым деятели последующих восьми столетий будут лишь приближаться и только в XIX веке смогут реально превзойти. Пока же в границы Древлянии стучится война, требующая не отвлечённых, а предельно конкретных и оперативных соображений и мер. И в древлянском руководстве берутся за обсуждение вариантов ответных действий.
Допустим, война. Тогда какая – наступательная или оборонительная? Наступательная исключается. Одно дело – воевать на своей земле, где каждый куст и каждый камень укроют, и совсем другое – вторгаться в чужие пределы. В этом случае инициатива выбора места и времени для боя и другие тактические и психологические преимущества защитников родины перешли бы к полянам, а общие недостатки позиции интервентов стали бы спутниками древлянской армии. А самое главное, если Киев, обороняемый лишь остатками варяжского войска, ещё можно было рассчитывать взять, то Киев, на защиту которого встали славяне, становился недосягаем.
Поскольку служба информации работала уже тогда, Мал довольно скоро узнал, что он оборотень, людоед, маньяк-убийца, и что к распространяемым в Полянской земле этим и аналогичным “сведениям” многие прислушиваются и готовятся воевать против древлян “честно и грозно”. А стало быть, первый же шаг древлянской армии за Ирпень лишь плеснёт новую порцию масла на непогасшие угли застарелой поляно-древлянской настороженности и побудит взяться за оружие всех, кто способен сражаться.
При таких настроениях даже вступление древлян в Киев, но по славянским костям и в качестве не освободителей, а покорителей, так сказать, варягов-бис, означало бы не конец войны, а лишь начало её нового этапа. На котором древлянской армии пришлось бы иметь дело с варяжскими отрядами и славянскими ополчениями из всех других контролировавшихся Киевом земель. Потому что народы этих земель в своё время признали над собой власть варягов, но отнюдь не древлян. Так что в отсутствие варяжских наместников и гарнизонов падение киевской власти было бы для уличей, радимичей, кривичей и других данников Киева хорошим поводом вспомнить о былой независимости. Но поскольку региональные администрации держат в руках варяги, то они точно постараются мобилизовать все имеющиеся резервы для “отпора захватчикам”. А древлянам будет трудно что-то противопоставить подобным призывам, поскольку кровавое подчинение соседей-полян разом лишит всякой убедительности рассуждения о Мале как правителе-пастухе, заботящемся о благе всех своих подданных. Отсюда хотя бы и удачная атака на Киев откроет перед древлянами ровно два пути: либо брать с боем все другие подчинявшиеся Игорю земли, где варяги – особенно с учётом уже происходящего смягчения своей диктатуры – будут пользоваться определённой поддержкой местных жителей. Либо никого не завоёвывать и ждать, пока эти земли не сорганизуются под рукой какого-нибудь нового лидера и сами не придут к Киеву свергать “самозванца” и восстанавливать “законную власть”. Сравнивать эти варианты можно только по степени их полной или заведомой проигрышности, и потому не приходится сомневаться, что даже если бы древляне располагали материальными ресурсами для силового водворения в Киеве, эти ресурсы всё равно никогда не были бы задействованы.
Что же касается войны оборонительной, то, вообще говоря, можно надеяться уложить в древлянскую землю ещё одну вражескую рать, а там, глядишь, и ещё одну. Однако без войны наступательной, без устранения самого источника интервенций оборона гарантирует лишь периодические новые кровопролития и постоянное отсутствие покоя в стране. А поскольку даже захват Киева проблемы всё равно не решит, то, заранее уступая инициативу противнику, следует также учитывать, что пассивная тактика рано или поздно, но почти наверняка приведёт к поражению. И этим не только обессмыслит смерти павших воинов, но и прибавит к ним жертвы резни среди гражданского населения, ибо озлобленный долгим сопротивлением неприятель вряд ли будет проявлять сдержанность и добросердечие. Так что любой вид войны не подходит.
За вычетом войны остаётся мир. Вот только поляне плюс варяги даже не предлагают уладить инцидент, выдав виновных и заплатив выкуп (что было бы вполне в духе времени), а откровенно бряцают оружием и явно нацеливаются раз и навсегда покончить с “древлянской военной угрозой”. В таких условиях просто выбросить белый флаг и сдаться “на всю волю” Киева значило бы даже без попытки сопротивления перейти к варианту проигранной оборонительной войны. Когда бы речь шла о голове одного Мала в обмен на спокойную жизнь древлянского народа, то над такой сделкой он ещё мог бы подумать. Но представить себе, будто можно своими руками отдать на растерзание вверенную его заботам страну, ни один Нискинич в принципе не мог. А раз любые разновидности выхода из противостояния через разгром одной из сторон отпадают, то для древлянского политика это означало, что надо искать способ именно примирения, компромисса, когда никто никого не ставит на колени и взаимоприемлемые нормы сосуществования достигаются путём взаимных же уступок и шагов навстречу пожеланиям друг друга. (Несколько десятилетий спустя именно такого мира со всеми соседями Руси будет добиваться Добрыня.)
Понятно, что минимальным условием, способным хотя бы отчасти успокоить киевских волков, является очередное превращение древлян в их данников, и что политически (не говоря уже об эмоциональной стороне) после притязаний на Игорево наследство возврат в варяжское подданство будет выглядеть очень серьёзным провалом. Но поскольку меньшей ценой избежать большой крови не получается, то, стало быть, тут и спорить не о чем. Тем более что сходный опыт уже имеется, поскольку в своё время древляне, начав с объявления независимости от Киева, затем ограничились пересмотром условий подданства.
И этот, как минимум, внешний параллелизм событий 913-914 и 945-946 годов побуждает ещё раз присмотреться к тому, что нам известно о времени Первого древлянского восстания. Потому что в свете вышесказанного встаёт закономерный вопрос: если заведомая неспособность патриархального государства обеспечить прочную круговую оборону своих границ была очевидна для всех (даже Византия предпочитала откупаться от большинства своих соседей, а не воевать со всеми сразу), то тогда на что же надеялись отцы и деды поколения Мала и Добрыни, когда после смерти Олега “затворишася от Игоря”? Что в Киеве махнут рукой на потерю таких данников? Или что они смогут разгромить войско, незадолго перед тем вынудившее сдаться Константинополь?
Достаточно поставить вопрос в таком виде, и подозрение древлянских мужей совета в столь вопиющей наивности отпадает само собой. А значит, выступая в 913 году против “руководящей роли” Киева, древляне понимали как невозможность обойтись в этом случае без войны, так и невозможность решительной победы в ней. Так что если бы из Коростеня на тот момент не виделось никакой более оптимистичной перспективы, кроме как выступление в роли мальчиков для битья, то и открытый протест вряд ли бы состоялся.
Задним числом мы эту перспективу знаем – по результатам похода Игоря древляне смогли обменять прибавку к дани на отмену обязанности поставлять новому князю воинов. Но заранее рассчитывать на нечто подобное можно было только при наличии полной уверенности, с одной стороны, в собственной способности выдержать первый натиск варягов, а с другой – что долгая война не в интересах Игоря и развёрнутым боевым действиям он предпочтёт мирное соглашение, пусть даже более компромиссное, чем это было при Олеге.
При этом повышение боеспособности древлянской армии в Х веке сомнений не вызывает. За десятилетия ближайшего соседства и совместных походов древляне имели достаточно возможностей изучить вооружение и тактику варягов и многое у них перенять. На полное уравнивание шансов, разумеется, никто пока не рассчитывал, и ещё в 945 году Мал будет до последнего уклоняться от схватки. Но во всяком случае чем-то совершенно таинственным и непредсказуемым, как это было в прошлом веке, варяжская сила на Руси уже не является, и кое-какие приёмы противодействия “стене щитов” в Коростене уже подготовлены и продолжают готовиться.
Что же до беспокойства Игоря за свой тыл, то здесь, похоже, дело было не только в общем росте недовольства славян варяжско-волчьим стилем правления. В ряде западнославянских источников сохранились, насколько можно судить, фрагменты или пересказы моравских хроник, сообщавших, что после смерти Олега Вещего его сын был изгнан Игорем из Киева, осел в Моравии и впоследствии даже был провозглашен местным правителем. Причём в этой версии Игоря прямо называют племянником Олега, то есть Рюрик и Олег признаются братьями либо зятем и шурином, но больше похоже на первое. К этому стоит добавить, что даже если бы два пирата-узурпатора приходились друг другу не родными, а, скажем, двоюродными братьями, то для Х века это всё равно была бы одна семья, при наблюдении которой со стороны подобные различия в степени родства выглядят не столь существенными.
Так что в целом приведённая история выглядит очень даже реалистично. В самом деле, в эпоху, когда решительно все от смерда и купчины до боярина и князя заботились о наследниках, Олег едва ли составлял исключение и, будучи к тому же официальным многоженцем, вполне мог иметь сына (сыновей). А в таком случае складывается довольно любопытная коллизия: при том, что после смерти Олега Игорь остаётся старшим в роду, его отец, Рюрик, владел только Новгородом, но не Киевом, который присвоил себе именно Олег. Так что принадлежность Игорю Новгорода никто оспаривать не собирается, а вот у кого больше прав на Киев – у Рюриковича или Олеговича – совсем не так очевидно. И даже если бы последний смиренно пропустил первого на киевский трон, в любом случае первоочередным претендентом на роль следующего владельца Киева, согласно действующему патриархальному порядку престолонаследия, оставался бы скорее сын Олега, нежели Игоря.
Дополнительные краски в общую картину привносила сама фигура Олега – успешного военачальника, тридцать лет водившего варяжскую русь от победы к победе. В связи с чем если не все, то точно многие из его ближайших помощников были не прочь ещё на какое-то время сохранить своё положение, продолжив служить его сыну, а не Игорю. У которого имелась собственная свита, и было ясно, что при смене власти именно этому кружку наперсников достанутся самые почётные и доходные посты при дворе нового князя, естественно, за счёт освобождения этих постов от выдвиженцев покойного Олега.
В подобных обстоятельствах, как показывает опыт самых разных стран, даже наличие претендента с формально преимущественными правами на трон далеко не всегда останавливало его соперников, имевших за спиной реальную военную силу. А просвещённые европейские монархи, сталкиваясь с серьёзными династическими конкурентами, не всегда жаловали таких родичей изгнанием или тюрьмой, но могли также посчитать физическое устранение самым верным способом оградить свою власть от нежелательных посягательств. Так что если сын Олега действительно был изгнан сыном Рюрика, а не бежал сам, спасаясь от убийц или плахи после провала устроенного им заговора или как раз успешного заговора своего не самого родного брата, то такое решение можно считать проявлением некоего гуманизма со стороны Игоря.
Тем же, кто наблюдал происходящее со стороны, всё это давало основания полагать, что при любом решении вопроса о принадлежности русской короны в державе появится заметное число недовольных, включая весьма высокопоставленных. И оставалось только узнать, останется их недовольство чисто эмоциональным или уступивший претендент со товарищи продолжат попытки отыграться (некоторым военизированным династическим тяжбам случалось затягиваться на годы).
Да, в этот раз до полномасштабной варяжской усобицы вокруг Олегова наследства дело, похоже, не дошло, и Игорь сумел довольно быстро подмять под себя всех сомневающихся. Во всяком случае, летопись сообщает, что уже в следующем году – по нашему календарю, напомню, это может соответствовать осени того же года – истинный преемник Рюрика вторгся к восставшим соседям. Но поскольку в Коростене прекрасно знали, какое место занимает их страна в политике Киева, то такая поспешность нового князя вряд ли была воспринята древлянским руководством как сюрприз или трагедия.
Государственные деятели, будучи живыми людьми, в душе могут питать надежды на лучшее, но по роду занятий просто обязаны рассматривать все возможные варианты развития событий, включая самые неблагоприятные. Так что когда враг – собственно, как и подобает врагу – не стал дарить много дополнительного времени на подготовку, а перешёл к открытой войне в максимально сжатые для себя сроки, то для древлян это просто стало сигналом тоже пускать в ход оперативно-тактическую часть своего плана.
Каковой план, безусловно, опирался на реалистичные оценки соотношения сил, исключавшие всякую мысль о легковесном отношении к противнику. Поэтому древляне с самого начала нацеливаются не на решительный разгром, а на изматывание интервентов через осадные бои под стенами надёжных крепостей, мелкие полупартизанские стычки на коммуникациях и иные формы боевых действий, исключающие перспективу крупных потерь со своей стороны*. Что автоматически ограничивало также ущерб, наносимый варягам, но главная идея уклоняющейся “скифской” тактики – во всех её разновидностях – ровно в том и состоит, чтобы уничтожать не столько силы врага, сколько его расчёты на быстрое завершение войны через одно-два крупных сражения.
В условиях Х века убедить всё вражеское войско от главарей до последнего обозника в том, что древлянская кампания – если не остановить её по “доброму согласию” – будет трудной, затяжной и малоприбыльной, имело смысл ещё и потому, что варяжское правление для своих сохраняло элементы военной демократии. Так что когда провал идеи блицкрига стал очевиден для всех, общий пессимизм соратников тоже вошёл в круг факторов, которые приходилось учитывать Игорю, взвешивая плюсы и минусы имеющихся вариантов.
При этом по внешности доступные интервентам способы действий могли допускать известное разнообразие, но главная развилка сводилась всего к двум путям. Первый состоял в заключении с восставшей страной официального мирного договора, пусть даже без её полноценного поражения и потому с некоторыми отступлениями от тех условий капитуляции, которые в 883 году смог навязать древлянам Олег. Во всех остальных случаях требовалось застрять в лесном краю на неопределённое время, пуская на самотёк дела в Киеве и других землях, где тоже ждали княжеского слова пусть не столь критичные, но достаточно важные дела. И всё это на фоне неизбежных размышлений в том смысле, что проволочки с решением первой же крупной проблемы уж точно не добавят очков новому князю, но зато дадут дополнительные козыри недоброжелателям режима, будь то бежавшим или затаившимся в стране. Тогда как скорое возвращение домой без больших потерь и с богатой – хотя бы в материальном плане – добычей если и не снимет разом всех сомнений вокруг киевского государства и лично его главы, то точно рассеет многие из них и побудит значительную часть колеблющихся окончательно стать на сторону новой власти. О том, каким был выбор Игоря, летопись говорит, но пытается скрыть, что в стратегическом плане новое соглашение о подданстве стало весомым достижением Коростеня и уступкой для Киева.
С другой стороны, по тем же соображениям личного и государственного престижа вернуться из первого самостоятельного похода вовсе без трофеев Игорь никак не мог себе позволить. И, услышав требование вчерашних данников о полной независимости, был бы, можно сказать, вынужден продолжать войну несмотря на любые неудобства, но зато с полной бесцеремонностью. А поскольку в Коростене это сознавали не хуже, чем в Киеве, то отсюда и возникает уже упоминавшееся предположение, согласно которому древлянское руководство, отказавшись после смерти Олега подчиняться Игорю, отнюдь не замахивалось на немедленный и безоговорочный выход из-под власти киевского государя. Вместо этого речь с самого начала шла лишь о том, чтобы воспользоваться моментом ради хоть какого-то продвижения в данном направлении.
По ходу общего обсуждения, скорее всего, звучали предварительные оценки возможного состава шагов к свободе, уточнялись допустимые пределы платы за те или иные пункты ожидаемого соглашения и т. д. Но никаких иллюзий относительно податливости варягов на будущих переговорах не возникало, и все подготовительные мероприятия велись с учётом того, что конкретный формат отношений с Киевом надо будет определять в рабочем порядке, исходя не столько из собственных пожеланий, сколько из фактической расстановки сил на момент перехода от военного этапа операции к дипломатическому.
Конечно, сам Мал был тогда младенцем, а может, и вовсе ещё не родился, и активного личного участия в происходившем явно не принимал. Но не менее очевидно, что, повзрослев, он не просто узнал в том числе об этом этапе родной истории, а получил от отца и других знатных современников подробные разъяснения, как отражались на происходившем те или иные явные и закулисные процессы и нюансы. При этом, как мы установили выше, во Втором древлянском восстании на собственно вооружённое покорение Киева опять-таки никто не нацеливался, и главная ставка делалась на раскол в полянской столице. Только на этот раз ожидался раскол не внутри варяжского лагеря, а между ним и славянами. Однако киевские волки вновь сумели быстро сплотиться, и перед древлянами предстал единый фронт варягов и полян. Так что даже если поначалу о происходившем с их страной тридцать лет назад в древлянском руководстве не вспоминали, то после ответа, который привезло из Киева отправленное туда первое посольство, продолжать отмахиваться от витающей в воздухе аналогии было бы уже невообразимым дилетантством.
И всё-таки, несмотря на нарастающее сближение, говорить о полном переходе ситуации в уже знакомое русло пока рано. Тогда внутрикиевский кризис был чисто династическим, а по своим политическим взглядам наследники Рюрика и Олега стоили друг друга (и когда один из соперников был устранён, все те, кто поддерживал не лично Олега, а прежде всего его методы правления, совершенно искренне дали присягу победителю). Теперь же, напротив, явных династических конкурентов у Святослава нет, но зато за возможность править от имени малолетнего князя борются группировки с заметно отличающимися политическими вкусами. И в свете последних мер нового правительства (а все важнейшие киевские новости становятся известны в Коростене максимум через несколько дней) славянское имя наследника Игоря перестаёт выглядеть лишь пропагандистским трюком и начинает наполняться реальным смыслом.
Понятно, что к оценке степени расхождений в киевской верхушке надо подходить осторожно и не впадать в излишний оптимизм. Просто потому, что все значимые прославянские маневры стали предприниматься обновлённым киевским правительством только после того, как древляне делом доказали, что от варягов можно не только защищаться, но и успешно их бить. Решительно укрепив этим боевой настрой всех славянских патриотов. В связи с чем сейчас сложно определить, какие из реформ продиктованы фундаментальными соображениями, а какие меры их авторы хотели бы видеть сиюминутной уловкой и свернуть сразу же, как только обстановка успокоится. Но сам факт отхода от исповедовавшегося Игорем жёсткого подавления славян неоспорим.
Помимо давшего о себе знать либерального течения среди варягов следует также отметить явный рост значения при киевском дворе славянской фракции. Опять-таки понятно, что полянских бояр даже с натяжкой трудно назвать выразителями национальных интересов. И тем не менее их позиция вносит дополнительный разнобой в некогда монолитный и строго однополярный режим великокняжеского самовластья.
Ну а коли так, коль скоро в Киеве имеет место не торжество кого-то над кем-то, а компромисс разных политических сил, то и в Коростене достоит думать о повторении 914 года не раньше, чем будут испробованы все средства предотвратить интервенцию или хотя бы оттянуть её. И первым делом стоит проверить киевскую коалицию на прочность. А опыт подготовки капитуляции с позиции силы и без катастрофического кровопролития со своей стороны в любом случае никуда не денется. По ходу противостояния с Игорем Мал ещё раз убедился в выдержке и дисциплинированности земляков и потому уверен, что если в Киеве решатся на очередное вторжение, то новые поколения древлян будут достойны свершений своих отцов и дедов.
Патриархальные нравы: Как известно, по родовому праву родич не может быть кровником. Так что если попавшего в плен члена враждебного племени не убивали и не съедали, а принимали в род, то тем самым с него разом снимались все претензии относительно посягательств на жизнь и здоровье бывших врагов, а ныне родичей. И наоборот, совершившего тяжкий проступок против своих сначала изгоняли из общины, и только после этого при новой встрече всякий бывший сородич мог или даже должен был убить отверженного.
С другой стороны, одной из древнейших, а может, и самой древней принятой людьми нормой межобщинных отношений в науке единодушно признаётся принцип равноценного возмещения за нанесённый ущерб (талион римского права, “око за око, зуб за зуб” Библии и т. п.)*. Причём если на ранних этапах бытования этой нормы достойной платой за кровь считалась только ответная кровь, то с развитием экономики в искупление за смерть начинают приниматься также наличные и услуги*. На фоне такой коррекции нравов человек, случайно или даже умышленно вызвавший гибель женатого члена другой общины, мог избавить себя от преследований со стороны сородичей погибшего, в частности, женившись (само собой, после подобающих очистительных и искупительных обрядов) на вдове. В этом случае семья получала работоспособную единицу взамен утраченной; касательно же женщины предполагается, что ей нужен мужчина как таковой, а тот или другой – это уже не столь важно. А раз есть более-менее равноценное возмещение, то конфликт исчерпан. И по завершении всех формальностей вольный или невольный убийца в общественном мнении и отношениях на полном серьёзе и без всяких скидок замещал покойного, становясь полноправным и полнообязанным мужем, отцом, зятем, свояком и т. д. для женщины, её детей и прочих родственников своей жертвы.
Отсюда, с учётом того, что у славян Х века многие обычаи родового строя бытовали не в виде отмирающих пережитков, но как рабочие и отчасти даже кодифицированные нормы права, становится окончательно ясно, что идея Мала предоставить Ольге мужа взамен утраченного ни в коей мере не была исканием амурных приключений. Перед нами не больше и не меньше как попытка найти почву для политического согласия между Древлянской землёй и Киевской федерацией и уладить конфликт без пролития новой крови. Так что выступавшие в роли сватов по сути своей были ещё и парламентёрами, прибывшими в лагерь противника для обсуждения возможных условий мира.
В самом деле, допустим на минуту, что в Киеве приняли предложение. Как легко видеть, в таком случае владения Игоря отходили бы древлянскому князю и его потомкам, но только уже не по праву военной добычи, а как часть общего имущества новой семьи (так вместе с рукой Марии Бургундской Габсбургам в своё время достанутся её наследные владения, включавшие, в частности, Нидерланды). После чего глава Древлянии становился бы главной фигурой на Руси уже не столько потому, что был разбит и казнён Игорь, а преимущественно в силу господствовавшей тогда традиции, согласно которой главой семьи признавался мужчина. Наконец, поскольку муж жены является также отцом её детей, то Святослав – после официальной процедуры усыновления – из “узурпаторского ублюдка” превращался бы в законного древлянского княжича**. За которым – для максимального смягчения грядущего поворота в судьбе – можно даже сохранить выделенную Игорем Новгородскую землю.
А самое главное, и эти условия не выдвигаются как последние, и в Киеве древлянские эмиссары демонстрируют не ультимативную твёрдость, а напротив, полную готовность к диалогу. Ибо подлинным пределом уступок для Коростеня является регулируемая капитуляция, по сравнению с которой любой мир без войны будет выигрышем. И сватовство было, строго говоря, лишь поводом для отправки в Киев ещё одной делегации, призванной показать, что древляне не считают соседей только лишь врагами, потерпевшими в лице своего государя сокрушительное поражение и потому обязанными безропотно следовать воле победителей. Но готовы предоставить бывшим подданным покойного Игоря возможность выдвигать свои условия мира и союза, на которых по доброму согласию объединятся два свободных и суверенных народа. (И если бы удалось завязать торг, то на нём древлянские лидеры собирались безусловно отстаивать лишь организационную автономность и общее достоинство родной земли и не мелочиться в ответ на экономические запросы контрагентов.)
Киевляне: В иной ситуации столь явный отход военных триумфаторов от своих первоначальных претензий и существенные шаги навстречу считающейся поверженной стороне могли бы рассчитывать если не на восторг, то хотя бы на внимательное изучение. Но только не у твердолобых киевских варягов. Ибо они, несмотря на разгром Игоря, продолжают считать древлян своими данниками, только взбунтовавшимися, и всё происходящее в Древлянской земле варяжская партия категорически не желает воспринимать как предмет внешней политики и норм международного права. Так что если год назад предложение уступок со стороны Византии было встречено в окружении Игоря с нескрываемым облегчением, то в 945 году намерение Коростеня разговаривать с киевскими властями как с равными по рангу в глазах Свенельда и иже с ним принимает вид нового наглого вызова распоясавшихся холопов. А продемонстрированное древлянами стремление к миру варяжские ястребы, как и вообще всякие ястребы, предпочли истолковать как признак неуверенности противника в своих силах, а значит, как дополнительный довод в пользу похода на соседей.
В свою очередь, полянских бояр перспектива уйти под власть древлянского князя – под каким бы соусом это ни подавалось – не то что не устраивала, но откровенно пугала. Поэтому они дружно поддержали варягов в отказе признать полноту своего поражения и готовности сохранить Киев хоть за малолетним Рюриковичем, лишь бы не уступить Нискиничу. Тем более что дополнившее отряд Свенельда полянское земельное ополчение (созыв которого варягам волей-неволей пришлось одобрить) успешную оборону уж точно гарантировало.
Впрочем, довольно скоро стремление полянских верхов любой ценой отстоять Киев дополняется некоторыми новыми мотивами. Потому что соседи-соперники с многовековым стажем лучше всех прочих славян, не говоря уж о варягах, знали, насколько не любят древлянские князья попусту лить кровь. И когда за отказом киевлян сдаться на милость казнивших Игоря тут же не последовал бросок древлянской армии за Ирпень, полянские старейшины поняли, что прямой угрозы им и их владениям нет. А те, кто сумел оценить логику действий древлян в 914 году, вполне могли начать догадываться, куда клонит Мал сейчас. Но даже не будучи уверены в том, что противник вместо дальнейшего обострения уже взял курс на сворачивание вооружённого конфликта, знакомые с военным делом полянские бояре должны были сознавать, что одолеть тех, кто смог уничтожить великокняжескую гвардию – это не самая простая задача. При этом желание избавиться от древлянского княжеского дома, который из регионального конкурента теперь превратился ещё и в лидера общеславянского патриотического сопротивления, безусловно, продолжает сплачивать все разновидности киевских коллаборационистов. Однако те из них, кто сохранял способность трезво оценивать соотношение сил, отдавали себе отчёт, что настоящий кровавый и безоговорочный разгром древлян в очередной раз может остаться лишь мечтой. А в реальности всё опять закончится заключением мира, после которого Древлянская земля как особая политическая и военная единица продолжит существовать и искать возможности для дальнейшего укрепления.
Причём если в прошлые разы варяги покоряли Древлянию своими силами (и, соответственно, забирали себе все последующие выплаты), то предстоящее вторжение, очевидно, будет совместным. Что при более-менее благоприятном исходе сулит какую-то долю в очередной древлянской дани. Правда, вместе с данью придётся также делить с варягами ненависть древлян к явным врагам, и какие плюсы и минусы в таком случае будут перевешивать, сказать трудно. А вот с чем не поспоришь, так это с тем, что после успешного похода варяжские дружинники останутся в строю, а полянское ополчение будет распущено. Знаменуя этим не только конец войны, но также то, что для варяжских главарей их полянские соседи перестают быть жизненно важными союзниками и должны вернуться к своей основной роли технических подручных, призванных обеспечивать текущее администрирование внутренней жизни своей земли.
Всё это настолько лежало на поверхности, что даже не самые прозорливые полянские “лучшие люди” должны были смекнуть, что для них процесс подготовки к войне, когда они могут объясняться с варягами на равных, гораздо выгоднее, чем сама война и то, что последует за ней. После чего, обсудив ситуацию в своём кругу, местные землевладельцы продолжают вторить словам варягов о древлянах-бунтовщиках и о том, что все верные поданные Игоря перед небом и людьми обязаны сурово отомстить за смерть своего князя. А на деле продолжают добросовестно заниматься лишь тем, что служит собственно обороне, тогда как мероприятия, необходимые для наступления, начинают осторожно, но повсеместно тормозиться и затягиваться. Ну и почти наверняка при всяком удобном случае предпринимаются попытки выторговать себе дополнительные права и полномочия, а самое главное, утвердить решения о расширении своего функционала не в чрезвычайном, а в обычном порядке, так чтобы эти решения продолжили действовать и в мирное время.
Ольга: Поскольку её планы по поводу себя и сына простирались гораздо дальше вторых ролей, а тем более в Коростеньской славянской федерации, то вдовствующую княгиню-мать, разумеется, не обрадовала перспектива сменить регентство на замужество. Но какие-то иные схемы мирного взаимодействия с древлянами Ольга и стоявшее за ней либеральное крыло варягов, возможно, и были бы готовы обсуждать. Если бы были предоставлены сами себе и могли принимать решения, ни на кого не оглядываясь. Однако в жизни возглавивший страну регентский совет состоял из трёх человек. Так что Ольга, имея в нём один решающий голос, могла реализовывать свои идеи только в связке с варяжскими либо полянскими волками, ведомыми Свенельдом и Асмудом. Понимая это, вдова Игоря почла за лучшее не вдаваться в пустые словопрения и сделать вид, что она тоже желает поквитаться за покойного мужа. И такое сплочение основных киевских сил – пусть и по очень разным мотивам – окончательно закрывает путь к какому бы то ни было мировому соглашению с древлянами.
Вместе с тем, следуя своим личным стратегическим планам, Ольге стоило принять все меры, чтобы ожидаемый крах переговоров как можно меньше затронул её с таким трудом создаваемую репутацию объективного и чуждого экстремизму политика. Без особых усилий находится и вариант, позволяющий сохранить лицо и перед волками, и перед “овцами”. Раз уж уйти от войны дипломатическими ходами в данном случае не удастся, и она, Ольга, должна играть в предстоящем бессодержательном спектакле заглавную роль, так пусть хоть формальная ответственность за неуспех переговоров ляжет не на неё, а на противостоящую сторону. То есть на древлянскую делегацию, которая в какой-то момент сама откажется продолжать диалог (хотя и не без помощи извне в виде постоянных встречных претензий, доводимых до заведомого абсурда).
И вот, внешне приняв предложение о браке за основу, Ольга начинает требовать от древлян дополнительных уступок, затем дополнительных к дополнительным, заводятся углублённые дискуссии о том, какой уровень почестей надлежит воздавать сватаемой великой княгине Киевской, а какие чествования для неё недостаточны, и так далее в том же духе. Ведь и сами древляне всегда стремятся даже в мелочах соблюсти честь и не уронить достоинства родной земли, так что им грех пенять, когда сходным образом поступает кто-то другой. А перед “своими” затягивание переговоров объясняется, конечно же, необходимостью выиграть время для сбора сил.
Но этот, казалось бы, вполне здравый план начинает пробуксовывать, едва коснувшись реальной почвы. Древлянская делегация и не думает оскорбляться тем, насколько откровенно ей морочат голову, и вместо того, чтобы “хлопнуть дверью”, начинает вносить свою лепту в пустопорожние согласования, причём без всяких признаков того, будто это занятие может наскучить ей в обозримом будущем. Хотя, конечно же, древлянские дипломаты скоро поняли, что прямого толку от переговоров не будет и мира домой им не привезти. И всё же они признают целесообразным – в рамках своих полномочий или дополнительно согласовав этот вопрос с Коростенем – поддержать линию киевских собеседников и использовать пребывание во враждебной столице для уточнения сведений о готовящемся вторжении, а также для противодействия антидревлянской пропаганде и разъяснения истинных целей борьбы своего народа.
По всей видимости, варяги, считая реальной угрозу древлянского похода на Киев, на первых порах тоже согласились с тем, что переговоры – это хороший способ потянуть время, и что не следует сразу отказывать “сватам”. Но вот к Киеву стали подтягиваться войска, и строго вслед за ростом их численности выжидательно-оборонительные настроения вытесняются у радикалов всякого свойства активно-наступательным зудом. Впрочем, полян среди любителей войны было не очень много, а основную массу “непримиримых” составляли варяги, ориентировавшиеся на Свенельда. Но эту часть киевлян пребывание в столице “древлянских шпионов” действительно начинает крайне раздражать.
Вот только одной своей волей прекратить переговоры, санкционированные единогласно, воинствующее крыло варяжской партии не может. А партнёры по правительству без всякого энтузиазма встречают призывы на тему, что игра в прощупывание и без того совершенно ясных позиций давно потеряла смысл, и что этот спектакль пора заканчивать. Полянские бояре (которые никуда не спешат) неизменно ссылаются на то, что война с древлянами – серьёзное дело, и тут лучше перестраховаться при подготовке и трижды всё проверить, нежели потерпеть ещё одну неудачу. Равным образом и Ольга отказывается указать послам Мала на дверь, продолжая настаивать, что “морочить им голову” по-прежнему полезно и даже необходимо. Нет, это просто наваждение какое-то! Все вдруг словно ослепли и не замечают, что тактика дипломатических проволочек себя исчерпала, поскольку время работает уже не на Киев, а на его врагов!
Впрочем, долго ломать голову над этой загадкой варяги не собираются. Они воины, а не коридорные стратеги, и тем, кто пытается интриговать против них, стоит помнить, что варяжские мечи не привыкли ржаветь в ножнах! Так что, задумав оборвать без нужды затянувшиеся переговоры, почитатели традиций Рюрика и Олега выбирают самый лобовой и, на их взгляд, эффективный способ – уничтожение древлянской делегации. Этим “ультра” рассчитывают не только устранить “иллюзии” о возможности какого-либо примирения с древлянами, но и, выставив Ольгу причастной к столь вопиющему преступлению, остановить рост её личной популярности у славян и накрепко привязать к своей фракции.
Однако и эти расчёты не выдерживают столкновения с жизнью. Потому что Ольга от лица всех умеренных варягов поспешила отмежеваться от гнусной провокации и пообещала лично проконтролировать расследование случившегося*. И нашла в том полную поддержку полян снизу доверху.
Разумеется, отношения полян к древлянам были далеки от дружеских. Но, понадеявшись на это, варяжские экстремисты упустили из виду, что славяне тогда совершенно иначе, чем они сами, смотрели на проблему соотношения подлости и военной хитрости и считали нерушимыми обычаи, гарантирующие неприкосновенность гостей и тем более официальных послов. Так что, не собираясь жалеть соседей при встрече с ними в открытой схватке, убийство в Киеве мирной древлянской делегации простые поляне восприняли как позорное пятно на честь их всех как народа. А полянскую верхушку дополнительно разозлило то, что с ними не посоветовались и даже не известили заранее, а поставили перед свершившимся фактом. Поэтому бояре-коллаборационисты, раз уж они действительно были тут ни при чём, а к Киеву успели подтянуться отряды земельного ополчения, позволили себе проявить принципиальность и также осудили провокацию “ультра”. В результате последние оказались в полной изоляции, и это позволило Ольге пойти в деле заглаживания инцидента настолько далеко, насколько это вообще было возможно.
О чём молчит летопись. В самом деле, уже давно подмечено, что пресловутые “три казни” Ольги очень точно совпадают с элементами языческого погребального обряда. Понятно также, что в представлениях искренне религиозного человека – а в Х веке таких было абсолютное большинство – неправильное обращение с покойным страшнее самой лютой казни. Потому что лишение жизни касается лишь бренной плоти, которую через десяток-другой лет так и так ждёт конец, а неточное соблюдение похоронно-траурных процедур, обрекая на скитания и мытарства бессмертную душу, может, соответственно, обернуться вечным ущербом.
В связи с чем не приходится исключать, что по горячим следам покушения на послов могли последовать предложения в том смысле, что раз за древлянами имеется кровавый долг, требующий возмездия, то следует усугубить оскорбление и, скажем, “бесчестно” закопать убитых, а то и вовсе протащить их за лошадиным хвостом. И становится ясно, что хотя погребение по всем правилам – это было всё, что могла сделать Ольга в счёт хотя бы частичного искупления вины Киева перед Коростенем, для 945 года это было совсем не так мало.
При этом для матери Святослава защита права покойных древлян на нормальные похороны не была лишь покаянным жестом, но лежала строго в русле её курса на обеспечение права всех своих подданных, начиная со славян, свободно следовать исконным национальным традициям и обычаям. Так что достойные проводы в последний путь убитых послов были нужны Ольге едва ли не больше, чем самим древлянам. Ибо без этого все её предыдущие прославянские акции и декларации оказались бы во многом обесцененными. Напротив, проявление благородства и уважения к противнику, готовность признать и по мере сил загладить свою неправоту (ведь правительство в любом случае обязано обеспечивать безопасность иностранных представителей) в чём-то даже поднимали авторитет как раз княжеской власти и лично Ольги. А также снижали резко возросшую напряжённость в отношениях с Древлянской землёй и поворачивали общую ситуацию по направлению от войны. Недаром варяги сочли необходимым сорвать впечатление и от этого мероприятия.
Из чего это следует? Из того, что “третью казнь” Ольга проводит на тризне по Игорю в Древлянской земле. В связи с чем сразу встаёт вопрос: а при чём тут вообще поминки на берегу Ужа, если древлянских послов убивали в Киеве?
С учётом всего вышесказанного ответ напрашивается сам собой. Ведь если в Коростене были всерьёз обеспокоены посмертным бытием своих официальных посланцев (а значит, людей несомненно знатных и заслуженных), то варягов – и ничуть не меньше, чем древлян – смущало, что их глава убит “во пса место” и до сих пор пристойно не погребён. И подталкивая вторжение, они рассчитывали в том числе поскорее оказаться на месте последнего боя Игоря и помочь его душе упокоиться с миром.
Между тем убийство послов вместо ожидавшегося подъёма воинственного духа обернулось лишь ростом недоверия и возмущения со стороны не только древлян, но и полянских союзников. А последнее в текущих обстоятельствах крайне не желательно. И под давлением Ольги и Асмуда, с одной стороны, и наблюдаемого хода событий – с другой, Свенельду также приходится отказаться от дальнейшего нагнетания обстановки и согласиться на расследование убийства и нормальные похороны убитых.
Но варяги не были бы варягами, если бы даже из провалившейся операции не попытались извлечь хоть какую-то выгоду для себя. Так что, убедившись, что война совсем не так близка, как казалось, и что надругательств над телами древлян не будет, лидеры варяжских “непримиримых” выдвигают в качестве условия своего согласия на полноценные погребальные церемонии по погибшим послам проведение аналогичных церемоний также по Игорю и его дружине. А поскольку предложение-требование обменяться посмертным благополучием павших с обеих сторон по-своему очень логично и абсолютно в духе времени, то сначала Ольга, а затем и древляне поддерживают его.
В отсутствие же такой поддержки киевская делегация, даже если бы она рискнула двинуться в самое сердце Древлянской земли, всё равно никогда бы туда не добралась. Потому что древляне на тот момент считали себя свободными от каких бы то ни было юридических или фактических обязательств перед Киевом и воспринимали Русскую державу просто как соседнее государство, причём скорее враждебное. Ведь это в его столице уже давно и откровенно тянут с заключением мира, а тут ещё допустили убийство ведших переговоры древлянских дипломатов. И поскольку в отношениях с такими соседями бескорыстная филантропия абсолютно неуместна, то “за просто так” древлянские князь и старейшины не сделали бы и полшага навстречу желанию варягов воздать последние почести праху своего вождя и соратников.
Не соблазнила бы Коростень и ординарная мзда, будь то куны, скот, серебро или иные вещные подарки. Издавна практикуя покупку за чистоган других, древляне на массе живых примеров убедились, что есть вещи, в частности, чувство собственного достоинства, которые, однажды продав, потом не вернуть ни за какие деньги. И потому своими принципами никогда не торговали даже под угрозой жизни. Так что только какая-то строго равноценная услуга, скажем, допуск древлянских представителей на полянский берег Днепра для проводов в последний путь погибших там соотечественников, могла побудить Мала ещё до заключения мира пропустить киевских представителей через свою землю к месту захоронения их князя.
Как следствие, несмотря на попытки летописи о том промолчать, поминки по Игорю в Древлянской земле красноречивее любых слов доказывают, что параллельно с ними проходили поминки в Киеве по древлянским послам. Ибо в 945 году могло быть либо две тризны, либо ни одной, так как если бы в Коростене стали упорствовать, то и варяги вряд ли согласились на ритуально выверенные похороны убитых древлян.
Соответственно, первым шагом к таким церемониям – с учётом контекста – должно было стать некое соглашение с элементами перемирия, оговаривающее порядок пребывания каждой из делегаций на сопредельной территории. И в сочетании с общим скорбно-возвышенным эмоциональным фоном траурных обрядов это остановило, а может, и повернуло вспять рост культивировавшихся варягами погромных ура-патриотичеких настроений. Естественно, не оставались в стороне от процесса расхолаживания антидревлянского ажиотажа и сами древляне, используя всякий повод напомнить простым полянам, кто является их действительными врагами, а кто – союзниками.
Но точно так же не сидели сложа руки враги древлян. Коим вместо задуманного перехода к боевым действиям пришлось иметь дело с сохранением и даже расширением пусть не вполне мирных, но и не военных контактов с соседями, получившими основание говорить о том, что “кровь за кровь” уже пролилась. И затягивание такой паузы, с точки зрения волков всех шерстей, могло критически понизить градус агрессивности полянского общественного мнения и укрепить позиции тех, кто готов пойти на мировую с Коростенем. Поэтому, дабы “доказать”, что древляне – это не люди, с которыми можно ладить, а сущие звери, “ультра” задумывают и реализуют ещё одну провокацию: под конец траурных церемоний по Игорю с дружиной, когда все основные обряды были проведены и уже ничто не могло повредить душам покойных, на завершающей тризне учиняется вооружённый инцидент с кровопролитием.
В самом деле, устроить побоище на тризне в Киеве, во-первых, сложно. Ибо теперь на охрану древлянской делегации встали посты полян-ополченцев, кои хотя и не питают к древлянам тёплых чувств, тем не менее твёрдо намерены более не допускать никаких пятнающих честь страны происшествий. А во-вторых, убедительно переврать происходившее на берегах Днепра и выдать зачинщиков стычки за её безвинных жертв было бы крайне затруднительно. Ну какой нормальный человек поверит, будто древляне, находясь в безусловном меньшинстве, почему-то вдруг решили поднять руку на хозяев? Так что ещё одна чересчур явная провокация легко может восстановить полян не столько против древлян, сколько против варягов как её очевидных авторов.
Иное дело, если из Древлянии вернётся несколько пострадавших, и вся делегация будет в один голос утверждать, что “они напали, а мы только защищались” (причём, не видя начала потасовки, многие из этих очевидцев будут совершенно искренне клеймить “злобное коварство” древлян). Тогда даже если кто-то усомнится в достоверности услышанного, не имея данных, позволяющих убедительно отклонить или хотя бы поставить под вопрос официальную версию, такой “кто-то” будет вынужден лишь разводить руками да помалкивать. И в целом можно с полным основанием рассчитывать, что известие о нападении древлян на траурную делегацию из Киева вдохнёт новую жизнь в начавшие было угасать карательные настроения и наконец-то пресечёт разговоры о возможности урегулировать конфликт без новой крови.
При этом вариант, когда древляне и впрямь не на шутку разъярятся и просто перебьют всех своих беспардонных гостей, заведомо исключался. Ведь, помимо всех согласованных гарантий, прибывшие в чужие земли высокие делегации сами по себе являлись заложниками друг за друга, и потому потенциальные драчуны могли быть уверены, что охрана сделает всё возможное для спасения их жизней. Так что главная трудность для получивших задание задирать древлян состояла не в том, чтобы потом уцелеть, а в том, чтобы найти среди хозяев того, кто под влиянием эмоций мог бы забыть о дисциплине и полученных от руководства строжайших указаниях проявлять выдержку и сохранять спокойствие, что бы ни происходило.
Однако среди множества людей всегда найдётся кто-нибудь более впечатлительный и возбудимый (к тому же тут и впрямь могло сыграть свою роль хмельное, ибо древляне, как принимающая сторона, просто обязаны были разделить трапезу с варягами). Так что в конце концов варягам удаётся в ответ на свои подзуживания получить “оскорбление действием” и по этому поводу самим взяться за оружие. Тут уже, естественно, в дело вмешивается стража и более трезвые участники поминок и разводят дерущихся. Но несколькими ранами схватившиеся успевают обменяться, а чтобы представить перемирие полностью сорванным большего и не требуется.
И дело тут даже не в том, что рядовые обыватели, не стесняясь в словах, клянут предательскую сущность древлян или варягов; с этим ещё можно было бы справиться. Самое главное, вылазка “ультра” заставляет серьёзных политиков в Киеве и Коростене признать, что новые попытки наладить диалог приведут не к миру, а лишь к очередным вылазкам, и потому бессмысленны.
Вот примерно такая история (естественно, без раскрытия всех её закулисных составляющих) сохранялась в государственных анналах, восходивших к временам Ольги и Святослава. Поэтому, когда по прошествии без малого ста лет перед придворным летописцем была поставлена задача, взяв за основу подлинные известия о случившемся в 945 году, препарировать их в более-менее стройную апологию жёсткой антидревлянской позиции Ольги, сделать это оказалось не так уж и трудно. Как-никак с тех пор сменилось не одно поколение, а энергичное феодальное развитие плюс христианизация Руси во многом сузили, а где-то вовсе свели на нет базу для проявления тех норм и обычаев, что регулировали мысли и дела участников обсуждаемых событий.
Возьмём хотя бы такой момент: опыт всех народов, ступивших на путь имущественного расслоения и формирования публичной власти, показывает, что неравенство прижизненных общественных статусов людей всегда и везде начинает сказываться также на обращении с ними после смерти. Потому что доходы рядовых граждан просто физически не позволяли устроить похороны той пышности, что доставалась представителям аристократии, не говоря уже о вождях. Так что и на Руси погребение в ладье явно было не общей нормой, но привилегией обладателей определённого ранга и богатства. То есть прежде всего высшей служилой знати, представители которой после 988 года будут обязаны принять крещение под угрозой объявления изменниками и врагами государства. Отсюда уже тем, кто родился в XI веке, будь то аристократы или простолюдины, не случалось воочию наблюдать похороны в ладье, и о правилах этого обряда они могли лишь услышать от стариков. На таком фоне правильно интерпретировать сообщения летописи о случившемся в середине Х века могли разве что особо подготовленные и критически мыслящие люди, а для всех остальных разглядеть даже самые грубые передёргивания княжеских фальсификаторов становилось делом крайне сложным или вовсе непосильным.
О чём говорит летопись. Начнём сначала: Мал предлагал жениться на Ольге? Да, предлагал. Так чего же лучше! Это ведь только для патриархального родича очевидно, что женитьба на вдове есть один из способов улаживания кровного конфликта. А для поданного феодального государства и правоверного христианина предложение руки и сердца жене человека, которого сам же и убил, суть поступок предельно наглый и циничный. Так что если приписать Ольге убийство официальной иностранной делегации было не совсем удобно, то стоит лишь не напоминать подзабывшему древние обычаи читателю, что в данном случае в роли сватов выступали мирные парламентёры, и он сам подтвердит, что бесчестных людишек, лезущих в шаферы, не дожидаясь даже, пока высохнет кровь у них на руках, и впрямь не грех спустить с лестницы.
Идём дальше: кремация и погребение праха древлян в ладье состоялись по указанию Ольги? Именно так, давний киевский летописец почему-то даже находит нужным подчеркнуть особую личную заинтересованность великой княгини в этом деле. Просто прекрасно! Остаётся лишь умолчать, что жгли и закапывали уже мёртвых, и дело в шляпе. Впрочем, нет, пока ещё не совсем. Ибо получается, будто различные уничтожающие манипуляции обрушились на одно и то же посольство, будто одних и тех же людей убивали дважды, что довольно странно. Ну, да и это не беда: ведь из той же летописи явствует, что древляне дважды слали в Киев своих представителей. Следовательно, требуется ещё, для пущего правдоподобия, равномерно разделить кремацию и погребение между двумя различными посольствами, и фальшь всей конструкции становится несколько менее кричащей, а Ольга к тому же получает возможность побыть дважды жестокой.
Что же до заключительного инцидента, то тут и вовсе всё просто. Конечно, по замыслу организаторов провокации, вернувшиеся с тризны по Игорю должны были выглядеть прежде всего жертвами, тяжко и невинно пострадавшими от “гнусных древлян”. Тем не менее уже в их первых рассказах прорывались реплики в том плане, что, мол, хотя они на нас и напали, но мы им тоже дали. Ведь, как и положено в тайных операциях, в истинный смысл происходящего были посвящены 3-5 человек, а прочие участники были втянуты в схватку совершенно неожиданно для себя и принимали всё за чистую монету.
А по мере отдаления от тех времён и под влиянием присущего людям стремления приукрасить своё прошлое мотив о собственных “постраданиях” киевских посланцев всё более слабел, пока совсем не затих. А мотив “мы им тоже дали” всё более усиливался, пока наконец не утратил вставку “тоже” и не зазвучали “воспоминания” исключительно о том, как “мы им дали”. Как уже отмечалось, свою роль в этом сыграла и вмешавшаяся в драку древлянская стража, которая применяла против варягов только защитные приёмы, так что в общем балансе хозяевам действительно досталось больше, чем гостям. Отсюда нашему редактору истории, дабы сблизить летопись с устными преданиями и потешить своего заказчика, оставалось лишь опустить упоминание о тризне в Киеве, вставить в рассказ об избиении древлян на тризне по Игорю цифру посолиднее и приписать инициативу погрома находившейся там Ольге (которая на самом деле не имела к этому никакого отношения, если не считать того, что провокация была направлена в том числе против её попыток остудить страсти и уладить конфликт преимущественно политическими средствами).
Конечно, начисто зашлифовать все накладки и нестыковки не удаётся, и плоды столь творческого подхода к летописанию продолжают вызывать много вопросов. Например, зачем вообще понадобилось Ольге играть в переговоры и делать вид, что она вроде бы не прочь выйти замуж за Мала? Уж если в Киеве умом и удалью кратно превосходили древлян, то почему тогда тамошняя “русь” не пошла громить простодушных соседей сразу вслед за убийством Игоря, а выжидала с этим до следующего года? И так далее. Но теперь мы совершенно точно знаем, что дело здесь не в глупости древлян, полян или кого-то ещё. Напротив, все главные участники тех событий, включая варягов, действовали по-своему очень логично и последовательно.
Равным образом и киевский хронист, отряженный переписать их историю, фантазировал не от широты души, как слагатели былин, а по чёткому плану. Причём в своих “авторских находках” он старался по максимуму использовать наиболее яркие элементы реальности, о которых его современники “где-то что-то слышали” и на их отсутствие в рассказе могли обратить внимание. И вот это-то наличие строго выдерживаемой линии как в исходных маневрах сражавшихся сторон, так и в последующих попытках переврать происходившее, как раз и позволяет восстановить и проследить по крайней мере основные сюжетные линии эпопеи 945-946 годов. Чем мы, собственно, и занимаемся.
Мал: Итак, испробованы все средства, предложены разные способы закрыть конфликт и тем не менее это не удалось. Мелкая драка, подстроенная варягами на тризне по Игорю, показала, что без большой схватки они не угомонятся, и что, следовательно, Древлянской земле предстоит интервенция. А стало быть, пришла пора от общих рассуждений о полезности опыта 914 года переходить к практическим шагам по выводу страны из войны с минимумом человеческих, экономических и политических потерь. Хотя, конечно, при одинаковой стратегической цели главе древлян из тех времён в тактическом плане было всё-таки несколько проще – ему не пришлось заходить так далеко и возвращаться было куда ближе, чем теперь его наследнику.
Нет, Мал ничуть не раскаивается в казни Игоря – объявив войну древлянскому народу, князь-волк сам выбрал свою участь*. Просто надо реально смотреть на вещи и готовиться к тому, что удовольствие покончить с сыном Рюрика может обойтись дороже, чем отказ платить ему Олегову дань.
Впрочем, дороговизна тоже вещь относительная. За 30 лет экономический уровень Древлянской земли, тщательно маскируемый от Киева, вырос больше, нежели даже аппетиты тамошних волков. Так что в размере дани (само собой, сначала поторговавшись) можно сравнительно безболезненно прибавить. Сложнее обстоит дело с политическим отношением Коростеня к Киеву, ибо для обладателей полного суверенитета любая степень зависимости есть провал, который не измерить никакими деньгами. Однако, с другой стороны, отсутствие всяких прав на Древлянскую землю является исходной позицией и для преемников старого Рюриковича, и это отчасти упрощает задачу насыщения их аппетитов. Потому что те, у кого ничего нет, могут на законном основании считать и выставлять себя победителями, заполучив в итоге хоть что-нибудь.
Да, сейчас в Киеве хорохорятся и пытаются убедить друг друга, что перед объединёнными волчьими силами древлянам не устоять и поляно-варяжская рать непременно восстановит положение, а может, даже сумеет вернуть всё к Олеговым временам. Причём известную роль в формировании таких ожиданий сыграли сами древляне. Для тех, кто мыслит только в логике войны, отсутствие нападения на Киев и настойчивые попытки договориться стали поводом думать, что дружина Игоря хоть и полегла, но перед тем успела нанести вражескому войску потери, подобающие её квалификации. Так что, помимо призывов к “справедливому возмездию”, киевские любители повоевать аргументируют свою позицию тем, что “древлянский зверь” хотя и жив, но тяжело ранен, и именно поэтому надо добить его как можно быстрее, пока он вновь не набрал силу.
Отсюда на данном этапе конфликта ближайшей задачей становится избавление врага от пустых фантазий на тему соотношения сил. Иначе говоря, надо показать, что победа над Игорем далась древлянам вовсе не так трудно, как кому-то хотелось бы, и мира они искали не от слабости. После чего, воочию убедившись, что фронт перед ними держит полностью боеспособная армия, и что одним лишь военным давлением привести древлян к лояльности быстро уж точно не получится, интервентам будет гораздо легче вспомнить о благоразумии. И согласиться на переговоры, лишь бы окончательно не потерять лицо и зафиксировать перед всеми хотя бы сам факт “замирения бунтовщиков”.
При этом, разумеется, для получения требуемого эффекта предстоящая демонстрация своего боевого потенциала должна быть не только внушительной, но и, так сказать, аккуратной. Потому что полномасштабное сражение ничего не даст даже в случае успеха. Дополнительные наблюдения за настроениями полянских верхов и низов подтвердили, что политических условий для взятия Киева нет. И что, следовательно, разгром сил вторжения будет означать лишь затягивание состояния войны, тогда как Древлянской земле нужен мир. В случае же поражения тем более придётся отложить гордость и откупаться от победителей почти любой ценой, лишь бы не допустить ещё худших потерь.
В общем, стремясь максимально убедительно продемонстрировать неприятелю возможности древлянской армии, ещё важнее по ходу операции не растерять этих самых возможностей. Благо время для разработки детального плана кампании, центральным эпизодом которой станет этакое “аккуратное побоище”, есть, поскольку все поступающие от соседей сведения подтверждают, что усложнять себе жизнь и воевать зимой в Киеве не собираются.
Ольга: Итак, желающие непременно сразиться с древлянами добились своего. Но это не означает, будто борьба за контроль над ситуацией окончена, поскольку в политике она не завершается никогда. Просто вслед за обстановкой меняются её предмет и цели. В частности теперь, когда под всеми спорами о вторжении в Древлянскую землю подведена черта, предстоит добиваться, чтобы предстоящая кампания послужила её, Ольги, а не чьим-то чужим интересам.
При этом излишне уточнять, что по ходу соперничества за ещё не поделённую до конца власть попользоваться чужими лаврами ей никто не даст. И если состоится военный разгром Древлянской земли, это поднимет авторитет и влияние только тех, кто реально добывал победу, то есть Свенельда, Асмуда и других лидеров армии. А гражданским лицам, к числу которых относится вдовствующая княгиня-мать, останется лишь воздавать им почести. Чтобы суметь укрепить свои позиции в противовес воеводам или хотя бы наравне с ними, возвращение древлян в киевское подданство должно произойти при её, Ольги, непосредственном участии и преимущественно политическими средствами, не связанными напрямую с вооружённым кровопролитием.
Вот только из Киева карателей не удержать и переговоров не завязать, это можно сделать (во всяком случае попытаться) только находясь с войском. Женщина, пусть даже регентша, в боевом походе? Да, регентство – это единственный шанс продолжать оставаться вместе со Свенельдом и Асмудом. Поэтому экспедицию “возглавляет” сам князь, а Ольга его “сопровождает”.
Но найти повод отбыть в Древлянскую землю – это лишь первая и самая простая часть задачи. Даже у находящейся в армии великой княгини есть право голоса только при обсуждении общеполитических аспектов кампании, а оперативные вопросы находятся целиком в руках воевод. Уже по одному этому Ольга будет бессильна что-то изменить, если древляне начнут активные боевые действия. Более того, в открытой войне она от души будет желать киевскому войску успехов, причём именно таких, в которых ведущую роль сыграют варяги. Ибо отсутствие явного поражения древлян или добытые полянским войском слишком пышные лавры сокрушителей давних соседей-врагов будут означать ослабление позиций дома Рюрика и рост угрозы его свержения внутренним восстанием или заговором. Вот если бы удалось предупредить древлян, дескать, вы не очень, тогда и мы не очень, а там, глядишь, как-нибудь и договоримся…
А впрочем, что толку в пустых мечтаниях. Ведь посылать с подобной вестью просто некого – человека, верного лично ей и одновременно пользующегося доверием Мала, у Ольги ещё нет. Завязывать же такие контакты через пятые-шестые руки – это всё одно что самой отдать сына на растерзание волчьей стае. Достаточно одного сбоя, любого самомалейшего повода для подозрений варягов – а с увеличением числа посредников риск утечек возрастает многократно, – и за “сотрудничество с врагом” её ждёт, самое малое, полевой суд и ссылка, а то и вовсе “шальная древлянская стрела” или что-нибудь в этом роде. Потому что потребная для консолидации феодального общества законная династия для киевлян сейчас реально сводится к одному Святославу. А вот без вдовы Игоря они, вообще говоря, могут и обойтись, поскольку в отсутствие законного мужа производить на свет законных наследников престола ей не дано. Так что как мать и как фактическая глава династии она не имеет ни человеческого, ни политического права рисковать тем, что малолетний Святослав, оставшись без её опеки, надолго превратится лишь в повод для противоборства между придворными группировками за влияние на будущего государя. (Причём в отсутствие княгини-матери позиции либеральной части варягов в этой борьбе будут резко ослаблены.) Поэтому пока ей не остаётся ничего иного, кроме как ждать каких-то новых вводных, которые помогут развернуть происходящее в более спокойное русло. А также уповать в глубине души на то, что радость победы над Игорем не заслонит от древлянских вождей доводы здравого смысла и не побудит их забыть об опыте пращуров, мирившихся с Олегом и Игорем.
И действительно, на первых порах интервенты не встречают никакого сопротивления, не случается даже мелких стычек*. Так что Ольга уже начинает осторожно прощупывать настроения коллег по правительству на тему, какие условия смогут их удовлетворить, если древляне заведут речь о мирном улаживании конфликта через своё возвращение в киевское подданство. Но на самом подходе к Коростеню, кладя конец ожиданиям и надеждам, дорогу объединённой армии полян и варягов преграждает строй древлянских воинов.
Ну что ж, раз проводимые от имени Святослава многообразные перемены не убедили древлян, что времена волчьего засилья в Киеве кончились, а её сын не смог стать символом мирной консолидации всех народов державы Рюриковичей, так пусть славянское имя нового князя послужит боевым знаменем хотя бы для полян (варягов вдохновлять не надо, они и так дерутся за свою сытую жизнь). И вот будущий грозный воитель выводится в первую линию и с его копьём жребий брошен – сводная киевская рать устремляется в атаку. Кажется, теперь только мечам решать, кому и какое достанется будущее…
Первый бой Святослава (тактико-логическая реконструкция): Дальнейшие перипетии столкновения 946 года удобнее проследить со стороны Коростеня, поскольку выбор места для боя был за древлянами, и, опираясь на это место и следуя избранному курсу на “деликатное запугивание” агрессоров, именно оборонявшиеся сумели продиктовать ход и исход данного эпизода.
Мал: Пока всё идёт по плану и кровавого следа интервенты не оставили. Теперь остаётся показать, что на их силу есть контрсила, и выпроводить ожидавшихся, но незваных гостей с миром, клятвами в верности киевскому князю и богатыми подношениями. Главное сейчас – не дать варягам такого подарка, как славянская усобица, а полянам не дать почувствовать в варягах соратников*. И если для вывода Древлянии из-под удара надо будет десять раз покланяться и отдать двадцать мешков кун, то для настоящего политика это не цена по сравнению с выживанием и развитием его государства.
А из такой стратегии поистине сама собой вытекает и тактика, способная привести к указанным целям. В самом деле, при случае даже доблестные и именитые полководцы были не прочь устроить неприятелю ловушку или напасть врасплох. Но главным мерилом качества армии всегда служило умение слаженно и мощно действовать именно в открытом бою. Так что демонстрация военных возможностей древлян, можно сказать, требует фронтальной встречи и никак иначе. А чтобы удержаться в рамках образцово-показательной акции и не превратить всё в битву на взаимное уничтожение следует: а) отнять маневр у противника; б) обеспечить свободу отходного маневра себе. И опять же в лесном краю устроить такое намного проще, чем в любой иной местности. Принципиальный план операции, отвечающей указанным требованиям, см. на схеме.











