Читать онлайн Секс был. Интимная жизнь Советского союза
- Автор: Рустам Александер
- Жанр: Популярно об истории
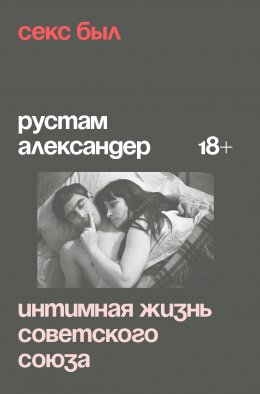
© Рустам Александер, 2025
© Владимир Мусаэльян / ТАСС, фотография
© ООО «Издательство «Эксмо», 2025
Individuum ®
От главного редактора
«Бабушка, что такое презерватив?!» – это я кричу через весь огород на даче, мне семь лет. Парни постарше спросили: «Ты че, реально не знаешь, что такое презерватив?» Я реально не знал и тут же решил узнать. Бабушка что-то заворчала вдали и скрылась в доме. Я не сдался, прибежал и настойчиво повторил свой вопрос. «Это гадость, которую и знать не надо», – такой был ответ.
Бабушка родилась в 1932 году под Рязанью, детство ее пришлось на годы Большого террора, а юность на годы войны. Она знала кучу заклинаний, молитв и примет, а еще умела предсказывать будущее по снам. А вот секс был для нее, как и для миллионов ее ровесников, абсолютно запретной темой. Для дедушки, очевидно, тоже. В отличие от многих героев этой книги, они жили в счастливом браке, который продлился больше полувека. Самые мои любимые люди. О сексе они, конечно же, не говорили никогда.
О том, что же такое презерватив, я узнал в какой-то момент без помощи старших родственников. Но отношение к сексу и всему, что с ним связано, как к чему-то «грешному», постыдному, что нельзя ни с кем обсуждать, – передалось мне там, на даче, от бабушки.
Среди героев книги Рустама Александера – сверстники наших родителей, бабушек и дедушек и их родителей тоже. В фокусе исследования – те проблемы, с которыми они сталкивались из-за установившегося в СССР отношения к сексу и разговорам о нем. Невысказанные страхи, незаданные вопросы, стыд. Несвобода и невозможность говорить друг с другом обо всем. Обреченность многих прожить несчастливую жизнь, не узнать о существовании оргазма, не иметь возможности осознать и принять себя и быть принятым близкими и обществом, если ты отличаешься от большинства. Смерти в результате подпольных абортов. Муки из-за инфекций, которыми заражались, не зная о контрацепции. Все это внутри книги – за иногда наивными и на первый взгляд даже нелепыми сюжетами об интимной жизни простых советских людей.
О том, какой крепкой оказалась связь советского поколения с постсоветским, мы узнаём все больше буквально каждый день. Книга «Секс был» – с одной стороны, история о том, как предшествующим поколениям внушили, что говорить о сексе стыдно, и к чему такое внушение привело. А с другой – это беспредельно тревожный приквел ко второй половине 2020‐х годов в Российской Федерации.
Алексей Киселёв, главный редактор издательства Individuum
Введение
«Секса у нас нет, и мы категорически против этого…»
Эту фразу произнесла простая советская женщина по имени Людмила Иванова во время советско-американского телемоста 28 июня 1986 года. Мгновенный взрыв хохота зрительного зала перебил мысль Людмилы на полуслове, и фраза тут же вошла в историю. «В СССР секса нет», – шутили по обе стороны Атлантики. Смешным это случайное выражение стало именно из-за его абсурдности. Как будто в приличном и высокоморальном Советском Союзе, в отличие от остального мира, люди никогда не занимались сексом и не собираются: только работают в полях и на заводах, штудируя труды Маркса и Ленина, а в свободное время размышляют о моральном кодексе строителя коммунизма.
Конечно, в СССР секс был – и был всегда, потому что жили в нем такие же люди, как и во всем остальном мире. Они ели, спали, мечтали, любили – и, естественно, занимались сексом. Другое дело, что само слово «секс» даже во второй половине 1980‐х годов воспринималось жителями СССР как неприличное.
Именно это и имела в виду Людмила Иванова. Произнеся свою знаменитую фразу про отсутствие секса и поняв, что она, возможно, не так выразилась, Иванова быстро добавила: «…у нас есть любовь». Но первая половина знаменитой фразы вошла в фольклор, как часто бывает, без второй.
В этом противопоставлении секса и любви заключалась трагедия советского общества и его сексуальной фрустрации. В СССР воспевалась любовь – нечто возвышенное, идеальное, не имеющее отношения к плотскому, а зарубежное слово «секс» ассоциировалось с чем-то развратным, неприличным и недостойным. Секс как часть жизни, как процесс (о котором чаще говорили, употребляя слова «заниматься любовью») оставался за рамками любых обсуждений, его стыдливо обходили стороной, краснели при упоминании или же использовали лексику, ассоциирующуюся с насилием и грубостью. Говорить о сексе было не принято: ни в обществе, ни даже наедине с партнером. Такая ситуация сложилась не сама собой и не была таковой всегда. Ее создала советская власть. После окончания краткого относительно либерального периода в 1920‐х и вплоть до перестройки во второй половине 1980‐х СССР был консервативным, несвободным и репрессивным государством – в том числе с точки зрения секса и отношения к нему.
В этой книге я покажу, как советское государство цинично подчиняло личную жизнь людей своим интересам. Как оно использовало неосведомленность населения в области секса в качестве инструмента для контроля, манипуляций и решения самых разных задач: повышения рождаемости, укрепления экономики, усиления авторитарной власти, унификации и одновременной атомизации общества, усиления ксенофобии и укрепления вертикали власти.
Более того, я покажу, что «сексуальный вопрос» был ключевым инструментом, важнейшим рычагом, который советское руководство использовало для управления обществом. Жесткий контроль государства интимной жизни советских людей привел ко многим печальным последствиям: несчастливым бракам, сексуальной неудовлетворенности значительной части советского населения, распространенности сексуальных расстройств и дисфункций, которые оставались нелечеными и запущенными. Многих людей сексуальная политика советской власти свела в могилу: к примеру, женщин, погибших в результате подпольных абортов в период их криминализации (с 1936 по 1955 годы), или тех, кто стал жертвами эпидемии ВИЧ в 1980‐е из-за недостатка знаний о контрацепции и опасности нового вируса.
Но не все советские граждане позволяли государству вмешиваться в свою интимную жизнь и навязывать в частной сфере «общегосударственные» интересы. Некоторые специалисты в области образования и медицины пытались вырвать монополию на решение «полового вопроса» из рук государства, находя возможность продвигать и нормализовывать сексуальное просвещение, сексуальное разнообразие, а также помогая советским людям научиться по-настоящему получать удовольствие от своей личной жизни. Эта книга – в том числе и о них.
В своей работе я обращался ко множеству источников: к мемуарам, архивным материалам и советским пропагандистским брошюрам разных лет. При этом «Секс был» – всё же не научный труд в строгом смысле этого слова. Передо мной в работе над этой книгой стояла задача воссоздать историю взаимодействия власти и граждан СССР, историю контроля частной жизни, а также попыток уклонения от этого контроля – на основе реальных фактов и частных историй советских людей. Некоторые материалы публикуются впервые.
Пара слов о том, как эти источники представлены в книге – приведу конкретный пример. Один из источников – книга советского врача Михаила Штерна «Sex in the USSR». В ней автор, который работал в СССР с 1930‐х до конца 1970‐х годов, кратко описал случаи из своей медицинской практики, в том числе те, где он помогал пациентам наладить сексуальную жизнь. Вторая глава моей книги опирается как раз на один такой случай, а именно – на историю Елены и Андрея, супружеская жизнь которых резко изменилась в 1937 году. Штерн описывает эту историю предельно лаконично, в нескольких абзацах. Поскольку мы практически не располагаем подробностями об интимной жизни советских граждан 30‐х годов и тем более о том, как они себя ощущали в условиях запрета разговоров о сексе, для погружения в тему я выбрал метод исторической реконструкции. Я рассказываю историю Елены и Андрея – и несколько подобных – более подробно, не искажая при этом ни начала, ни продолжения, ни конца истории, опираясь на наши знания об эпохе и свое понимание исторического контекста; реконструирую разговоры и переживания героев, какими они могли быть.
Конечно, в случае других источников, к примеру дневниковых записей или документов из российских архивов, где много подробностей и деталей, я не берусь ничего реконструировать и привожу прямые цитаты из документов.
История интимной жизни СССР в книге разделена на периоды: двадцатые годы, сталинские времена, хрущевская оттепель, брежневский застой и перестройка при Горбачеве. Кроме того, часть глав посвящена феноменам интимной жизни советских людей, пронизывающим весь период существования СССР: аборты, разводы, проституция. Также в книге есть главы, повествующие об отдельных событиях и явлениях, которые я счел достаточно яркими и интересными, чтобы рассказать о них подробнее. Например, об уголовном преследовании за связи с иностранцами в период сталинизма или о Всемирном фестивале молодежи и студентов 1957 года, ставшем маленькой «сексуальной революцией» оттепельной Москвы.
В этом предисловии мне важно сделать еще несколько принципиальных оговорок. В Советский Союз входило пятнадцать республик, в каждой из которых жили народы со своим укладом и обычаями, в том числе и с собственными особенностями и спецификой интимной сферы. Зачастую республиканские реалии разительно отличались друг от друга, что, естественно, накладывало отпечаток на личные и сексуальные отношения людей. Рассказать об истории сексуальных отношений в каждой из советских республик – это объемная, необходимая и благородная задача для будущих исследований. Книгу «Секс был», в свою очередь, мне бы хотелось видеть как начало этого пути. Она рассказывает о людях, живших на территории преимущественно РСФСР и отчасти Украины и Казахстана. Остальные республики ждут своих исследователей, и будет замечательно, если со временем о каждой из них будет написана отдельная книга.
Еще одна оговорка: книга посвящена интимной жизни жителей СССР в «обычное», мирное время. Поэтому Великая Отечественная война осталась за рамками исследования. Не стану скрывать, что серьезным аргументом в пользу такого решения стала повышенная чувствительность темы Второй мировой войны в современном российском обществе. О том, что пришлось пережить советским мужчинам и женщинам в страшные годы войны, написано немало выдающихся книг. В частности, в развитие темы моего исследования рекомендую к прочтению «У войны не женское лицо» Светланы Алексиевич.
Также за рамками исследования осталась негетеросексуальная часть советского общества, поскольку книга концентрируется на жизни гетеросексуального большинства. Здесь причина исключения в другом: книгу о гомосексуалах в СССР я уже написал. Она называется «Закрытые. Жизнь гомосексуалов в Советском Союзе».
Хотел бы подчеркнуть, что книга «Секс был» предназначена для широкого круга читателей, интересующихся историей. В фокусе моего исследования – реальные факты и реальные истории, которые не только интересны сами по себе, но и помогут читателю создать представление о том, как советское государство пыталось использовать вопросы пола и сексуальной жизни советских людей для достижения своих целей и как жители СССР жили, любили и занимались сексом в условиях давления государства и общества.
Последнее предупреждение, которое необходимо сделать. Эта книга рассказывает о сексе, поэтому, если вам нет восемнадцати лет, а также если вы считаете обсуждение таких тем для себя неприемлемым, недопустимым и так далее, – пожалуйста, закройте эту книгу и забудьте о ее существовании. Всех остальных я приглашаю погрузиться в не столь давнюю и увлекательную историю, которая, как мы увидим, имеет прямое отношение к современной российской действительности.
Глава 1
Сексуальная свобода в раннем СССР. 1920‐е
Случай монтера Василия
Однажды вечером ленинградский врач-венеролог Лев Фридланд оказался озадачен. Он, по обыкновению, принимал пациентов в своей квартире, когда к нему явился монтер, по-видимому с плановой проверкой электропроводки. Произошедшее далее Фридланд в 1927 году опишет – наряду с другими сюжетами из его практики – в своей книге «За закрытой дверью».
Монтер установил стремянку в кабинете доктора, но, когда в дверь позвонили, поспешил спуститься обратно.
– Что вы, работайте, – сказал ему доктор. – Вы мне не мешаете, это пришел больной.
– Нет, доктор, – ответил монтер. На вид ему было около тридцати лет. Он уже стоял на полу. – Разве же можно? Ваши болезни известно какие. Как же мне здесь оставаться? [1]
Его смущение было понятно: область медицины, которой занимался Фридланд, действительно считалась деликатной. О венерических заболеваниях открыто говорить было не принято. Их называли «скверными» или «дурными» и на людях не упоминали.
И все же кроме смущения в голосе Василия – так звали монтера – Фридланд уловил и какую-то странную грусть. Но времени обдумать короткий разговор у него не было: на пороге квартиры его уже дожидался пациент. Василий ретировался на кухню, чтобы не слышать разговор, а Фридланд прошел в кабинет с пациентом. А когда тот ушел, Василий доделал свою работу, и у них с доктором состоялся разговор.
– Разве эти болезни так ужасны и позорны, Василий, – спросил врач, – что вы боялись больного, не хотели быть с ним в одной комнате?
Посмотрев на Фридланда, Василий сначала не понял, шутит тот или говорит правду. Затем, переступив с ноги на ногу, ответил:
– Нет, я не боялся, и болезнь, как я понимаю, вроде бы не стыдная. Но, может, ему, больному-то, неловко видеть чужого человека, то есть меня. Вот я и ушел. А ежели он меня будет стесняться, то правильно. Может, я ему окажусь вроде как знакомый и беды ему натворю своей болтовней? Разные бывают люди, гражданин доктор… Каждый вроде как по-своему понимает. Есть такие, что готовы крест на человеке поставить, на всей его жизни, за дурную болезнь со света сжить. А чем человек виноват? Несчастие с ним приключилось, а его травить начинают.
Фридланд снова уловил в интонации Василия что-то странное. Монтер выглядел даже немного взволнованным.
– Если так бывает, – спокойно сказал Фридланд, – то только от темноты, от несознательности. Сифилис или триппер – такие же болезни, как и всякая другая болезнь, как экзема, туберкулез или тиф. Кто читает книги, бывает на лекциях, которых теперь проводится довольно много – те знают, что все эти болезни не позор, а заболевшего не надо избегать или преследовать. Мой больной не стеснялся бы вас.
Какое-то время Василий ничего не отвечал Фридланду, задумчиво глядя в окно. Наконец, пожав плечами, продолжил:
– Есть вроде как и образованные, которые и книжки читают, а понять этого все равно не могут. Должно быть, очень уж это в человеке сидит, не вынешь это просто так, гражданин доктор.
Видя, что Фридланд его внимательно слушает, Василий начал рассказывать:
– У меня товарищ был, скромный из себя парень, никому не вредил. Гулял с одной барышней, но вроде как любовь была промеж них. Ну, гуляли, гуляли, а потом стали жить, хоть на разных квартирах – служила она прислугой где-то, – а вроде как бы муж и жена. И только вот на какой-то день приметил мой товарищ у себя нелады: прыщик… Пошел он в больницу. А там и определили: сифилис.
Василий снова разволновался. Во рту у него пересохло. Он сглотнул. Фридланд внимательно на него смотрел, ожидая продолжения.
– Работал товарищ на заводе. Дали ему в больнице бюллетень, и он начал лечиться. Аккуратно ходил на прием. Поначалу сильно хандрил, вроде как о смерти задумался, а потом доктора объяснили, что это, мол, болезнь хоть и серьезная, но такая же, как и все болезни, никакого зазору в ней нет, вроде как вы объясняете. Ежели, мол, все правильно исполнять, то обязательно вылечиться можно. Недели три-четыре, говорят, вы и неопасный будете, вреда никому причинить не сможете, значит, никто от вас не заболеет. Ну, хорошо, вроде как легче стало товарищу.
Сидя за письменным столом, Фридланд с интересом наклонился вперед, ожидая продолжения.
– Приходит он однажды к себе домой, – продолжил Василий, – и отворяет ему дверь хозяйка. Как только она его увидела, так тут же отскочила, как будто нечисть увидела. Кричит ему за несколько метров: «Заприте дверь за собой! Но за ручку не беритесь!» Товарищ сначала не понял – за два году жизни на квартире такого разговора с хозяйкой никогда не было. Не придав этому значения, он пошел к себе в комнату. Взял в своей комнате полотенце, пошел на кухню, чтобы умыться. А там няня хлопотала у печи. Она его увидела и тут же выпучила глаза – и как гаркнет: «Нету тебе сюда дороги, не велела хозяйка пущать тебя никоим образом. А в уборную ходи куда хочешь, и уборной для тебя здесь нету! Ты – порченый и всех нас тут перепортишь!»
Ну и началось тут все. В квартире от него все бегут, как будто у него чума. Чего бы он ни касался – сразу чей-то крик. Никто к нему и близко даже не подходит. А потом и вовсе требуют съезжать с квартиры. Товарищ в шоке. Кто сказал? Как узнали? Вот он уже и вешаться собрался. В отчаянии он пошел в больницу и обо всем рассказал доктору. Доктор встал на его сторону, объяснив, что бояться его хозяйке нечего и что они совсем не имеют никакого права его гнать с квартиры. И что вообще все это – самодурство и за это, мол, они могут ответить перед судом. Врач дал товарищу свидетельство с печатью. Товарищ возвращается домой. Пытается сунуть бумагу хозяйке, а та даже боится просто ее взять. Даже слушать не желает – съезжай, да и только.
В скором времени весь дом узнал про этого моего товарища и его несчастие. Совсем ему не стало ни житья, ни покоя. По двору пройти невозможно – все пальцами тыкают и шепчутся. Невозможно даже объяснить, через какие страдания он прошел. И пришлось ему съехать с квартиры. А вы, гражданин доктор, говорите про «книжечки». Столько эта хозяйка книжек перечитала. Сама ведь учительница, а не баба темная, вроде как из деревни.
Так Василий завершил свой рассказ, с тем же волнением в голосе – но одновременно и смиренно, будто подобные предрассудки о венерических заболеваниях, которые могли испортить жизнь и без того несчастным больным, совершенно неискоренимы. А вот Фридланда переполнило негодование.
– Ну вот пусть и ответила бы по суду. Я бы ей не уступил, как ваш товарищ! – резко сказал врач.
Увидев, что доктор осуждает сумасбродство квартирной хозяйки, Василий вдруг виновато улыбнулся.
– Доктор, это я неправду придумал про товарища… Не было у меня никакого товарища. Этот парень я сам и был.
Фридланд удивленно вскинул брови.
– А вот только, гражданин доктор, и суд бы тут не помог бы. Ну, засудили бы хозяйку. А дальше? Все равно ходил бы среди людей как нечисть. Знать-то я знаю, что нету дурных болезней. Да вот только другие знать этого не хотят.
Когда Василий попрощался и ушел, Фридланд еще долго думал о его рассказе. На дворе стоял 1925 год, страна постепенно возрождалась из хаоса революции и Гражданской войны. Молодое советское государство, по сравнению с царским режимом, предпринимало серьезные попытки вести в обществе сексуальное просвещение. Однако после истории Василия Фридланд в очередной раз убедился: половое воспитание в СССР по-прежнему оставляло желать лучшего. Кому, как не венерологу, было об этом знать?
Помимо рассказа Василия, пострадавшего от клейма «дурной болезни», Лев Фридланд поместил в свою книгу и другой – более трагический – случай из врачебной практики. Однажды в его кабинете появился молодой человек, театральный работник. Уже входя в дверь, юноша был очень смущен, и это было понятно: осмотр поводов для сомнений не дал – сифилис. Фридланд постарался быть как можно деликатнее и тут же попытался успокоить побледневшего пациента. В конце концов, сифилис излечим, с ним можно и нужно бороться. Фридланд поставил юноше первый укол. [2]
– Значит, можно вылечиться? – робко переспросил молодой человек.
– Конечно, – доктор ободряюще похлопал юношу по плечу. – Я вам гарантирую исцеление.
Театральный работник приходил получать лечение на протяжении месяца, но однажды прием пропустил. Фридланд поначалу не придал этому значения – мало ли что бывает? Но прошло несколько дней, и однажды вечером, когда Фридланд уже заканчивал работу, в его кабинете появилась девушка в черном. Это была сестра молодого человека. Как оказалось, ее брат повесился: не смог выдержать стыда. Девушка передала Фридланду письмо брата со словами благодарности и извинениями.
Тот эпизод надолго врезался в память доктора. Фридланд корил себя за то, что, быть может, недостаточно ясно объяснил юноше, что сифилис – полностью излечимая болезнь, которая никак не испортит его дальнейшую жизнь.
Не один Фридланд в 1920‐е годы понимал, что советской власти предстояла долгая и кропотливая работа по сексуальному просвещению общества. Об этом хорошо знали и в высоких кабинетах, в особенности в наркомате (то есть министерстве) здравоохранения.
Феминизм, коммунизм и нудисты
После Октябрьской революции советское руководство с помпой объявило, что семимильными шагами идет к прогрессу во многих сферах, которые до революции оставались запущенными. Так, большевики особенно гордились тем, что поддерживали равенство в правах между мужчинами и женщинами: последних активно вовлекали в общественно-политическую жизнь, СССР стал одной из первых стран в мире, где женщин наделили полными избирательными правами. Однако большевики признавали, что в одном аспекте общественной жизни проблемы все-таки оставались. Этим аспектом был так называемый «половой вопрос».
Ни российское правительство во времена Первой мировой войны, ни уже новая большевистская власть в годы революций и Гражданской войны специально не занимались «половым вопросом». Были заботы более насущные: выиграть войну, удержать контроль над страной, обеспечить города продовольствием и так далее. Но ближе к середине 1920‐х годов, когда жизнь в стране более-менее стабилизировалась, секс оказался в центре внимания.
Еще в 1923 году российская революционерка и государственная деятельница Александра Коллонтай публикует в популярном журнале «Молодая гвардия» смелую статью «Дорогу крылатому Эросу! Письмо к трудящейся молодежи», где констатирует, что в советском обществе доминирует «бескрылый Эрос» (в переводе на современный русский язык это означает, что люди легко и свободно занимаются сексом без обязательств). Коллонтай утверждает, что Эросу необходимо вновь обрести крылья – то есть секс должен сопровождаться искренним чувством и любовью. При этом против свободной любви Коллонтай ничего не имеет, противопоставляя ее буржуазной морали (одновременно, впрочем, в своей статье Коллонтай подчеркивает, что любить нужно прежде всего пролетариям – и прежде всего собственный коллектив. Идея, очень свойственная большевистскому нарративу). [3]
Часть советского истеблишмента реагирует остро. Так, известный советский врач Арон Залкинд через год после выхода статьи Коллонтай предостерегает против популяризации свободной любви: «Скромнее с половым – иначе плохо будет с социальным!.. Очень боюсь, что при культе „крылатого Эроса“ у нас плохо будут строиться аэропланы. На эросе, хотя бы и крылатом, – не полетишь!» И позже публикует собственную статью «Двенадцать половых заповедей революционного пролетариата», где призывает граждан прекратить флиртовать и ревновать, а также сообщает новую и совершенно безумную идею: «Класс в интересах революционной целесообразности имеет право вмешаться в половую жизнь своих сочленов. Половое должно во всем подчиняться классовому, ничем последнему не мешая, во всем его обслуживая».[4][5]
В том же 1924 году в молодом СССР всё еще процветают свободные нравы. Настолько, что по центральным улицам Москвы периодически расхаживают группами абсолютно голые советские граждане, вместо одежды на них перекинутые через плечо праздничные ленты с лозунгом «Долой стыд!». Это участники одноименного общества, уверенные, что только полное обнажение сделает людей по-настоящему равными. Голые пассажиры катаются в троллейбусах по Садовому кольцу, вызывая изрядное возмущение у сограждан, не готовых к таким радикальным перформансам.[6]
(Деятельность общества «Долой стыд!» настолько впечатлит современников, что впоследствии появятся легенды о якобы десятитысячных толпах голых людей, марширующих по Москве, а руководство обществом припишут сподвижнику Льва Троцкого большевику Карлу Радеку, будущей жертве сталинского террора. На самом деле нет никаких свидетельств, что идеи обнажения пользовались настолько большой популярностью.)
Так или иначе, подобная инициатива вызывает бурные дискуссии наверху. К дискуссии подключается Николай Семашко, народный комиссар (то есть министр) здравоохранения СССР. «Заповеди» Залкинда ему явно кажутся менее безумными, чем акции «Долой стыд!». Разрешить «половой вопрос», по мнению Семашко, следует таким образом: нужно остановить распространение венерических болезней в обществе, снизить количество абортов, прекратить голые шествия, а также – и здесь он вторит «Заповедям» Залкинда – направлять сексуальную энергию граждан на пользу нового советского строя.
В 1926 году Семашко в статье «Пути советской физкультуры» пишет так:
Вся цель полового воспитания сводится к тому, чтобы энергию, вырабатываемую половыми железами, употреблять на полезную цель, а не только на половую страсть и похоть… Социально нужно, чтобы молодежь была больше заражена общественными интересами, чтобы эти интересы поглощали ее внимание, отвлекали от похоти. Биологически нужно, чтобы организм жил и развивался правильно. И прежде всего нужно, чтобы правильно совершалось кровообращение, чтобы не было застоя крови: прилив крови к половым органам («к тазу») обыкновенно вызывает повышенную половую чувствительность… Половой вопрос – больной вопрос. [7]
Но почему «половой вопрос» оставался «больным» несмотря на все достижения новой власти? Ведь после революции в стране существенно ослабла цензура, стали возможны публичные дискуссии о сексе и половое воспитание, а также появилось много относительно свободных издательств и, соответственно, печатных материалов – брошюр, листовок, книг, пьес и памфлетов о сексуальных свободах, о венерических заболеваниях, о полигамии и моногамии, о сексуальности вообще.
Многие советские газеты и журналы 1920‐х не только подробно и откровенно рассказывали о различных сексуальных проблемах советских людей, но и предлагали пути их решения. Так, газета «За здоровый быт» в 1929 году отводит целый разворот «половому вопросу», освещая следующие темы:
– беседы по половому просвещению;
– молодежь и половое здоровье;
– о половой слабости мужчин;
– практика привлечения к ответственности по РСФСР за заражение венерической болезнью.
Однако для огромной страны, значительная часть населения которой была все еще неграмотна, публикации в печати по большому счету не оказывали серьезного влияния на ситуацию с сексуальной неграмотностью. Многие советские люди по-прежнему ничего не знали о самых простых явлениях интимной жизни.
Поллюции и брак: прямая речь рабочей молодежи
В конце 1920‐х доктор Б. Гурвич в статье «О поллюциях» описала такой показательный случай. В ее кабинете появились двое рабочих. Одному было восемнадцать, другому – девятнадцать, и оба, казалось, были чем-то не на шутку перепуганы. Доктор начала со своего обычного вопроса:
– Что вас тревожит?
– У меня больше года поллюции, это меня беспокоит, – стыдливо поделился один из них. – Я не знал о существовании консультации, хотел давно обратиться к врачу. Не могу работать, все время волнуюсь, забросил занятия… Все время думаю о своей болезни. Со мной вместе пришел товарищ. У него такая же история, и мы вместе решили обратиться в консультацию за помощью. [8]
Гурвич подробно расспросила обоих, на что именно они жалуются. Оказалось, что молодые люди не жили половой жизнью и что с ними часто приключались ночные семяизвержения. «Болезнь» внушала юношам такой парализующий страх, что Гурвич пришлось очень долго им объяснять, что никакой патологии у них нет и что поллюции – явление совершенно нормальное.
– Такое часто бывает у красноармейцев, уезжающих на длительное время от семьи, – рассказывала Гурвич молодым людям, нервно мнущимся на кушетке напротив. – Вследствие невежества в вопросах полового быта зачастую красноармеец, помучавшись происшедшей у него ночью поллюцией да напуганный еще столь же невежественными «доброжелателями-товарищами», отправляется на следующий день к проститутке, боясь повторения этого, как ему кажется, «неестественного» акта. И тут нередко нарывается на заражение триппером, а зачастую и сифилисом.
Молодые рабочие тут же переглянулись. «Триппер» и «сифилис» – слова знакомые и гораздо страшнее, чем «поллюция».
– Еще раз повторяю, что если у юношей, как у вас, не живущих половой жизнью, по ночам бывают поллюции, то это не плохо, – продолжала как могла успокаивать пациентов Гурвич.
Другая тема, о которой советская молодежь 1920‐х почти ничего не знала, – мастурбация. Современная медицинская наука не находит в мастурбации ничего вредного для здоровья, но в раннем СССР подавляющее большинство молодых людей считало «онанизм» очень вредной и разрушительной привычкой. Многие из них тщетно пытались избавиться от нее и были уверены, что эта «болезнь» уже подорвала их здоровье. В те годы московский доктор Израиль Гельман провел опрос. Он просил молодых людей и девушек рассказать о том, занимались ли они мастурбацией («онанизмом») и, в случае положительного ответа, что об этом думали. Вот некоторые ответы.
«Я занимался онанизмом <…> Делал это в детстве. После, вычитав их тех же книг, откуда я черпал также и порывы сладострастия, о вреде его, я прекратил. Большого влияния на организм онанизм не произвел, но чувствую, что рост костей приостановился раньше времени по причине слишком раннего расходования не на рост организма, а на удовлетворение сладострастия. Кроме того, всегда чувствовалась какая-то подавленность и притупленность воли» (студент, 28 лет).
«Онанизмом занимался в течение года до 15–20 раз и прекратил только благодаря силе воли, то есть сознательно взял себя в руки и кроме пользы для себя узнал вообще, какие сильные тяготения влечет такая пагубная болезнь для всех. Это дало большой урок» (студент, 22 года).
«За время войны и революции онанизм превратился в массовое явление. Им охвачены широкие круги молодежи <…> Онанизм – увлекательная вещь (знаю по собственному опыту). Раз испробовав эту роскошь, человек увлекается, истощается физически, расстраивает всю свою психику, доходит до идиотизма. И нужны колоссальные усилия, напряжение всей воли <…> А главное – нужно знать о последствиях онанизма (я, как узнал, – прекратил). Явление это массовое, и Наркомздраву нужно было бы как можно шире распространить эти сведения <…> Ведь сотни тысяч подрастающей молодежи калечат себя этим извращением <…> Необходимо широко распространить сведения: где, какими средствами и каким образом можно лечить…» (металлург, 25 лет).
«Мое пожелание – необходимо шире осветить вопрос о действии онанизма на здоровье и его последствиях, так как многие занимаются, но не ощущают вредного действия, может быть потому, что вредность ощущается, но очень медленно…» (рабочий, 24 года).
«Занималась онанизмом с 5 до 21 года. Перестала, узнав о вреде онанизма из книг. Онанизм был вызван жизнью среди проституток, от которых черпала все сведения о половой жизни» (женщина из рабочей среды, 23 года). [9]
Но были среди респондентов и те, кто не считал, что мастурбация приводит к проблемам со здоровьем. Один из них в ответе Гельману писал так:
Вот много пишут, и говорят, и даже лекции читают, что от онанизма человек становится тупой, хилый, мозги не работают. Я никак не могу согласиться. А почему? Да вот беру пример с самого себя. Я в жизни своей перенес невзгод как мало кто. Работать физически стал с 10 лет. Был крестьянином, бондарем, рыбаком, грузчиком, матросом, рассыльным, а главное, служба военная. Был в пехоте, контужен и голодал… Онанизмом тоже много занимался, тоже счету нет. И поверьте. Я здоровый, не болел ни разу и чувствую себя сейчас сильным, жизнерадостным, как будто мне 18 лет… [10]
Это исследование, проведенное Гельманом в 1920‐х годах, подтверждает, что многие юноши и девушки той эпохи, несмотря на некоторые заблуждения (как, например, о вреде мастурбации), имели достаточно прогрессивные взгляды на собственную сексуальность, не отягощенные консервативной или какой-либо другой идеологией. Так, часть респондентов открыто заявила, что брак не является для них приоритетом и что они не собираются «связать свою половую свободу» и ограничивать «свободный половой выбор». Отвечая на вопросы Гельмана, многие молодые люди объясняли, что революция требует «свободного от прочных любовных связей, не закрепощенного человека», замечая, что неженатый человек «во всех отношениях, материальных и иных, гораздо более независим, чем женатый».
Многие молодые советские женщины, опрошенные Гельманом, прямо заявляли, что брак им не нужен, так как означает для них лишь «половое порабощение». Что касается холостых мужчин, то они часто объясняли отсутствие супруги материальной необеспеченностью и скитальческой жизнью. Так, один «студент из крестьянской среды» объяснял: «Среди трудящейся молодежи, ведущей полуголодную и беспокойную жизнь, связанную с революционной работой, легко может развиться половое бессилие, так что на получение потомства от нас, активных работников революции, очень мало шансов <…> А ведь многим из нас 30–35 лет, а мы, как это ни ужасно, холосты…»
Другой молодой человек выражался еще конкретнее: «Вчера в Минске, сегодня в Москве, завтра у черта в зубах – где же тут думать о браке?»
Еще один двадцатиоднолетний юноша комментировал отсутствие жены так: «Желал бы жениться по окончании курсов. Но ввиду состояния на государственной опеке и отъезда в армию приходится отложить это на неопределенное время, в течение которого является необходимым искать удовлетворения половых потребностей. Посещаю иногда „Тверскую“ для удовлетворения».
Были и те, кто цинично заявлял: «Не признаю брака, признаю только половое сношение». Такой подход к личным отношениям в двадцатые годы, хоть и относится далеко не ко всему обществу, безусловно, представляет интерес как совершенно новый для страны, которая еще десять лет назад была куда более консервативной. Раскрепощение нравов оказалось связано именно с приходом к власти большевиков с их идеями обновления мира и построения принципиально нового общества.[11]
Деятели культуры 1920‐х отражают новую реальность интимной жизни в книгах, кино, пьесах. Одно из самых показательных произведений на эту тему – рассказ Пантелеймона Романова «Без черемухи» (1926). Его главная героиня, студентка, хочет романтической любви (символом которой становится веточка черемухи), но в итоге поддается грубым, циничным ухаживаниям товарища, который ни на секунду не скрывает, что ему от нее нужен только секс. «Любви у нас нет, у нас есть только половые отношения», – грустно замечает героиня рассказа.
Публикация «Без черемухи» вызывает бурную полемику. Пресса публикует как письма, осуждающие якобы реакционное изображение автором нравов современной молодежи, так и мнения, соглашающиеся с его тезисом: в Советском Союзе к сексу относятся иногда даже слишком легко, а мужчины подчас просто требуют секса от женщин, считая это своим правом. «Часто парень, приставая к девушке и получая отказ, не примиряется с этим и начинает травлю этой „мещанки“», – писала одна из участниц полемики, комсомолка Лиза Каган, в 1927 году.[12]
Впрочем, точка зрения Пантелеймона Романова, согласно которой женщина вынуждена лишь покорно принимать новые порядки и уступать назойливым домогательствам мужчины, в тот момент была далеко не единственная. Так, в пьесе Сергея Третьякова «Хочу ребенка!» (1926) героиня Милда Григнау, напротив, берет инициативу в свои руки: она хочет родить ребенка – не для себя, а для советского государства! С этой целью она находит наиболее подходящего с точки зрения наследственности пролетария и решительно соблазняет его, а новорожденного сына сдает в детский дом.
«Надо восстанавливать убыль войн и революции», – говорит Милда, а Сергей Третьяков, автор «Хочу ребенка!», поясняет: «В центре пьесы стоит советская работница, агроном, реализующая свое сексуальное напряжение в рождении ребенка с учетом требований практической евгеники. Кроме того, строя эту пьесу, я ставил себе задачу – дискредитировать так называемую любовную интригу, обычную для нашего театрального искусства и для литературы». О праве первой постановки спорят главные театральные авангардисты двадцатых – Всеволод Мейерхольд и Игорь Терентьев. Главрепертком дает разрешение постановки Мейерхольду, но только на сцене проектируемого театра ГОСТИМ, который так в итоге и не построят. Премьера при жизни Третьякова и Мейерхольда так и не состоится: в конце 1930‐х они оба будут расстреляны.[13]
В реальности, конечно же, далеко не все советские гражданки стремились рожать во имя демографических задач государства. В 1920 году большевики легализовали аборты, в результате чего многие женщины теперь спокойно относились к прекращению нежелательной беременности и не стеснялись говорить об этом, не находя в таком шаге ничего постыдного. Причины идти на аборт в двадцатые, как и всегда, были разными. Одна женщина двадцати трех лет объясняла: «В настоящее время считаю себя неспособной еще быть матерью. Матерью должна быть только та женщина, которая чувствует потребность иметь детей, а у меня таковая потребность не имеется, и я не могла бы поэтому посвятить себя ребенку и воспитывать его <…> Ребенок оторвал бы меня от общественной жизни, вне которой я жить не могу <…> Не желаю родить человека с истрепанной, издерганной нервной системой <…> Невозможно в условиях нашей российской действительности вырастить ребенка таким, каким желает его видеть каждая мать, то есть здоровым, живущим в благоприятных условиях…»
Другая девушка восемнадцати лет категорически заявляла: «Детей никогда иметь не желаю. Это стеснит меня, с одной стороны, с другой – оторвет от общественной работы. Выкидышей у меня не было. Но считаю: если нужно будет, сделаю [абортов] хоть тридцать».[14]
Советская медицинская литература о половом воспитании в первое десятилетие существования СССР еще не настаивала на том, что продолжение рода – единственная цель секса и что женщины обязаны как можно больше рожать. Так, практикующий в Ленинграде в 1927 году доктор Фейгин не без сожаления признавал, что многие советские люди занимались сексом ради удовольствия, а не продолжения рода:
Зачастую цель половой жизни – продолжение рода – не только забывается, но и становится нежелательным <…> Против зачатия и беременности принимаются определенные меры. И если половая жизнь как самоцель, что бы ни говорили моралисты, для человека естественна, то все-таки в силе остается закон: наибольшую осмысленность, наибольшую ценность имеет половая жизнь, сопровождаемая деторождением. [15]
Несмотря на все проблемы с сексуальным просвещением, всё же многие граждане СССР относились к «половой жизни» довольно либерально. Это позволило Советскому Союзу на короткий период стать настоящей меккой для иностранцев, ищущих сексуальных свобод, в том числе из США (в то время Америка была куда консервативнее молодого Советского Союза). Вот как описывала новые отношения между советскими людьми Джессика Смит, активистка-волонтерка из США, работавшая в те годы в СССР:
…теперь настоящему революционеру-любовнику незачем пускаться в изысканные ухаживания, он сразу переходит к сути, а девушку, которая противится грубым словам и «лапанью», обвиняют в неспособности преодолеть мещанские предрассудки… [16]
Впрочем, другая американка, Рут Кеннелл, прожившая в СССР с 1923 по 1928 год, считала, что хоть в СССР и существовали практики «свободной любви», в унизительное положение они женщин не ставили: «Главное различие между Москвой и Нью-Йорком я вижу в том, что в Москве женщина вольна дарить свою любовь, а у нас она вынуждена продавать ее».
Американский журналист российского происхождения Морис Хиндус, посещавший СССР в двадцатые, писал, что, несмотря на все сексуальные свободы, в Советском Союзе встретить признаки явной сексуализации женщин, по крайней мере в коммерческих целях, практически невозможно:
Здесь ни в ресторанах, ни в театрах нигде не увидишь изображений полуобнаженных красоток во всевозможных соблазнительных позах, какие на каждом шагу бросаются в глаза приезжему на некоторых улицах в Берлине. Революционеры считают эксплуатацию женского тела в коммерческих целях гнусным оскорблением для всех женщин <…> В России нигде не продают порнографических открыток.[17]
Свобода и насилие
Конечно, далеко не всё в СССР 1920‐х с его свободными нравами работало так гладко и гармонично, как подчас казалось со стороны иностранцам. Многие советские женщины признавались, что их потребности были удовлетворены далеко не полностью, да и вообще мужчины гораздо чаще требуют, чем задумываются об их желаниях. Действительно, свобода двадцатых годов в Советском Союзе, как водится, чаще приходилась по вкусу мужчинам, чем женщинам. В том же опросе Гельмана женщины так говорили о сексе:
«Половая жизнь может стать центральным пунктом, который спасает само существование мое и тем самым не отрывает от самого важного – моей работы, гармонирует с ней. Но это возможно только при взаимном влечении двух индивидов. А у меня не взаимное, и это удерживает меня от половой жизни» (крестьянка, 19 лет).
«Половая жизнь безусловно мешает участию в общественной жизни, потому что мужчина не удовлетворяется одной женщиной. Изменяя ей, он задевает ее духовное к нему отношение и этим расстраивает жизнь женщины» (крестьянка, возраст неизвестен).
«Отсутствие половой жизни нарушает внутреннее равновесие, покой и работоспособность, но и половая жизнь мешает участию в общественной жизни» (девушка, 25 лет).
«Половая жизнь мешает общественной работе – как я думаю, всем революционеркам; очень трудно согласовывать общественную и личную жизнь. Ведь противно все-таки и нездорово делать аборты, а иначе невозможно, поэтому как-то подавляешь в себе эти инстинкты» (девушка, 21 год).
«Половая жизнь играет, мне кажется, очень большую роль в моей жизни. Она ослабляет мой организм и понижает умственную работоспособность. Я решила на несколько дней воздержаться от нее и уже шесть месяцев не имею половых сношений. Они отвлекают меня от общественной работы, что порождает страшную неудовлетворенность собой, ибо оба раза я любила сильнее, чем меня любили» (девушка, 28 лет).











