Читать онлайн Медвежий брод
- Автор: Алиса Атарова
- Жанр: Современная русская литература, Мистика
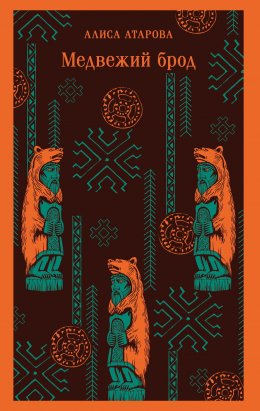
Сплин «Скоро будет солнечно» [1]
- Это чувство сильнее любого медведя
- И выше подъемного крана,
- А все остальное – пыль и болотная тина.
Серия «Магистраль. Главный тренд»
Внутренние иллюстрации Евгении Лукомской
© Атарова А.М., текст, 2025
© Оформление. ООО «Издательство «Эксмо», 2025
Вместо предисловия
Приветствую, дорогие читатели! Прежде чем вы начнете читать эту книгу, я хотела бы дать вам немного контекста для понимания.
Большая часть действия книги вращается вокруг медвежьего культа (это даже не спойлер, поскольку об этом говорится в аннотации). Медвежий культ – один из самых древних на Руси. Славяне издавна верили в магическую силу медведя. Даже одна из ипостасей самого древнего бога славянского пантеона – Велеса, «скотьего бога» и противника Перуна, – это медведь. Велес считается богом трех миров (Прави, Яви, Нави) и представляет собой сильную сущность, свободно перемещающуюся между ними, почитаемую как покровитель мудрости и магии. Потому и медведь имеет сильную связь с магией.
Медведь почитался как хранитель леса, у некоторых народов – даже как прародитель, великий предок. Само слово «медведь» – эвфемизм, потому что название этого великого зверя было табуированным. Назвать медведя по имени – значит призвать его к себе.
У некоторых славян существовал медвежий праздник – обширный комплекс обрядов и ритуалов от охоты на медведя до его ритуального приготовления, «приглашения в дом». Повсеместно среди охотников, идущих на медведя, была традиция: убив медведя, извиниться перед ним, переложив вину на «русское ружье», чтобы зверь не обозлился и не навредил охотникам. Никогда охотник не скажет, что он убил медведя – зверь сам сдался.
Итак, медведь – почти священный зверь, опасный, но при этом способный оградить от колдовства, сглаза, порчи и всевозможных несчастий.
1 июля
Дребезжали стекла, сиденья, крыша; дрожали даже щеки. Казалось, что вся реальность болтается и подпрыгивает на песчаных кочках проселочной дороги. Федя прижимал к себе чемодан, чувствуя, как содрогаются очки и сердце, а Нина смотрела в окно, крепко обнимая живот, будто это могло удержать его от дрожи. «Буханка» мчалась по узкой дороге, словно за ней кто-то гнался, хотя ни спереди, ни сзади никого не было. Водитель – загорелый высохший мужчина с обветрившимся на солнце лицом, щербинкой между передними желтыми зубами и сигаретой за ухом – крутил баранку, петляя между лужами.
– Не тошнит? – спросил Федя.
Нина осторожно помотала головой, боясь выплеснуть наружу что-то лишнее. Она лишь крепче сжала зубы и руки. Автобус подпрыгнул, и лицо Нины побледнело еще больше.
– Я с ним сейчас поговорю, – решительно сказал Федя и наклонился, чтобы поставить чемодан на потертый бледно-желтый пол.
Автобус снова совершил залихватский скачок, и Федя ударился подбородком о поручень спереди.
Потирая ушибленное место, Федя поднялся и, будто пьяный, побрел по проходу вперед. Его шатало и болтало, и он тоже почувствовал тошноту. Федя наконец зацепился за поручень и навис над водителем. На лобовом стекле качались четки, и маленький распятый Иисус подмигивал с иконки при каждом толчке. На панели виднелось еще несколько приклеенных выцветших иконок, а передняя часть была обита леопардовой тканью. Из-под пенопласта с прорезами для монеток выглядывала ревущая пасть медведя.
– Вы не могли бы ехать чуть помедленнее? – вежливо спросил Федя.
– Чего? Громче говори! – крикнул водила, не оборачиваясь.
Из магнитолы лился прилипчивый шансон, колеса неслись по дороге.
Федя повысил голос:
– Я говорю, помедленнее можно ехать? У меня жена в положении.
– В положении? – Водитель явно не понял и обернулся.
Автобус, повторяя его движение, тоже вильнул вбок. Водитель тут же повернулся обратно и яростно крутанул руль, объезжая большую лужу. «Буханка» провалилась в нее задним колесом и подпрыгнула. Федю тряхнуло, и он обеспокоенно оглянулся на Нину.
– Беременна, – пояснил он.
– А, брюхата? Пусть потерпит, почти доехали.
Будто в подтверждение его слов впереди мелькнула и исчезла белая табличка с названием населенного пункта.
– Вы же до Солнечного, да?
Водитель резко ударил по рулю на повороте, и из бескрайнего леса вдруг выскочил дом. За ним еще один, и еще.
– Пять минут! – и водитель прибавил радио.
Оно зашипело, захрипело, прерывая какую-то неразборчивую песню. Почти не ловило.
Федя постоял еще с несколько секунд, а затем побрел обратно.
– Пять минут, – доложил он Нине.
Та кивнула, и ее белые пальцы крепче сжали живот.
Она уже миллиард раз пожалела, что согласилась. На новую Федину работу. На переезд. На его предложение. На его извинения. На просьбу оставить ребенка.
Нина тяжело сглотнула. Голова кружилась, ноги и руки болели, задницу отбило на пластиковом сиденье. Чемодан врезался в коленки и бил по чашечкам каждый раз, когда автобус делал скачок.
За окном таежные сосны сменились неказистыми елями, низким кустарником и домиками. Маленькие и большие, новые и старые, из их труб поднимался серый дым, затемняя белое солнце. «Буханка» вылетела из леса на поле с колосистой зеленой травой и большим деревом, нависшим над развилкой. Автобус сделал последний рывок, дернулся вперед, назад и застыл, гудя и пыхтя от усталости.
– Солнечное! – крикнул водитель. – Ваша остановочка.
Федя вскочил, суетливо схватился за сумку, потом за рюкзак, потом бросил сумку на сиденье, надел рюкзак, снова схватил сумку. Нина тяжело поднялась, поддерживая поясницу. Ее большой живот выпятился вперед, и зеленое платье в горошек скользнуло вниз, демонстрируя темную потную полосу под ним. Федя посмотрел на жену, потом схватил вещи и поспешил на выход. Он выпрыгнул из автобуса на серую обочину, поставил все на землю, а потом снова залез в автобус и схватил Нину за локоть.
– Не надо, – поморщилась она.
Нина ненавидела, когда Федя начинал суетиться. Она осторожно прошла между сиденьями, стараясь не задевать животом облезлый пластик, и с помощью мужа выбралась наружу. Ноги гудели, опухшие и уставшие от долгой неподвижности.
– Ну, прощайте! – бросил водитель, и дверь со скрежетом закрылась.
«Буханка» фыркнула, зазвенела и сорвалась с места, обдав их выхлопными газами.
Они остались вдвоем на старой синей остановке, среди тишины, внезапно обрушившейся на них после шумного автобуса. Нина вздохнула. Дерево над ними – широкое, протянувшее черные ветки как пальцы, будто только для того, чтобы подарить тень, – тоже вздохнуло, листва зашумела над их головами. Жаркий летний ветер доносил с поля запах цветов и травы, нагретой на солнце, а вместе с ним и жужжание каких-то насекомых, и стрекот кузнечиков. Справа, за полем, блестела ослепительной полосой река, и Нина почти слышала, как журчит глинистая вода.
– Пойдем? – спросил Федя, кивая на дорогу слева.
Чуть поодаль, под сенью сосен, виднелись дома – насупленные бурые крыши в зеленой толще. Нина кивнула и побрела вперед. Федя поправил очки, подхватил сумку, поставил чемодан на колесики и поспешил за ней. Асфальт жарил даже сквозь кроссовки, и тепло поднималось вверх, согревая опухшие ноги Нины. Ей хотелось упасть прямо здесь, выпрямить спину, вытянуть руки и лежать. Пока ее кто-нибудь не переедет.
– Почему никто не встречает? – спросила она. – Я думала, главу – нет, тут, как это, староста? – в общем, начальство должны были предупредить.
– Может быть… они уже сейчас… идут нам навстречу, – сказал Федя, задыхаясь от жары и тяжести.
Лямки рюкзака вгрызлись в его плечи, оттягивая их назад, сумка перекашивала тело набок, а чемодан застревал во всех трещинах старой бетонки.
Нина не ответила. Она в этом сильно сомневалась. Легкая радость, охватившая ее при первом вдохе запаха полевых цветов, рассеялась, оставив горький привкус тошноты на корне языка. Небо снова потускнело, белое от палящего солнца, выжженная трава поблекла, тонкие кусты опустили ветви, согнувшись под натиском духоты. Нина тоже согнула спину, лопатки разошлись, под ними было влажно и горячо.
От остановки до села было метров пятьсот – от дуба через поле, а там между двумя серыми каменными зданиями в елях, и вот они уже на кругляше площади с какой-то стелой. Нина прищурилась в дрожавшем от жары воздухе и удивленно приподняла брови: из крайнего левого здания к ним навстречу правда кто-то спешил.
Это был маленький, приземистый человек в утиной кепке, шортах и клетчатой рубашке, свободно болтавшейся на его сухоньком теле. Он торопливо перебирал ногами, припадая на левую ногу, а его острые коленки двигались из стороны в сторону.
– Вы уже здесь! – крикнул он, когда между ними оставалось еще метров пятьдесят. – Позвольте-позвольте!
Он вытянул руку и так и шел с ней на весу, будто с расстояния мог схватить сумку Феди. Однако вместо этого он почему-то подхватил Нину под локоть. Мозолистые жесткие пальцы со странной для такого тщедушного тела силой врезались в тонкую кожу Нины. Она ойкнула и попыталась вырваться. Человечек тут же отстранился, убрал руку и выхватил сумку у Феди.
– А вы?.. – Федя отдал сумку совершенно безропотно, будто соглашаясь с авторитетом этого маленького человечка.
Мужчина улыбнулся, его узкое лицо растянулось целиком от уха до уха, из вертикального став горизонтальным, и обнажились такие же узкие желтые зубы, как у лисы.
– Иван, – он с легкостью забросил сумку на плечо и протянул ладонь. – Иван Борисович Стрельня, глава, как это, му-ни-ци-пальнага образования. Староста, в общем. По всем вопросам ко мне обращайтесь.
– Федор Чу. А это моя жена Нина, – Федя протянул руку в ответ.
Иван Борисович почему-то замер, сдвинул кепку на затылок и поднял глаза на Федю. Староста оказался даже ниже его, хотя Федя тоже ростом не отличался. Это Нина возвышалась над ними. Светлая, тонкая, статная, со своим большим животом она выглядела так, будто ее надули. Федя, напротив, был плотно сложен, с мягкими темными волосами, мягкими чертами лица и мягкими узкими темными глазами за овальной оправой очков.
– Китаец, что ли? – спросил Иван Борисович, и его улыбка превратилась в букву «О», а потом он снова широко улыбнулся и наконец протянул руку, когда внимательно рассмотрел Федю.
– Нет, дед корейцем был, – сказал Федя, поежившись от въедливого взгляда.
Ладонь старосты оказалась крепкой и теплой. Иван Борисович цокнул языком и отпустил его руку. Его взгляд скользнул по животу Нины, и он поправил кепку, надвинув ее на глаза.
– Ладно, поехали, довезу вас до метеостанции.
Иван Борисович отвернулся и потрусил к серому зданию, у которого стоял желтый «жигуль».
– Забирайтесь, – он галантно открыл переднюю дверь перед Ниной. – Думаю, тут удобнее будет.
Нина подавила слова о том, что удобнее было бы, если б их забрали сразу на станции, и им не пришлось бы час ехать на «буханке», которая вытрясла из нее всю душу. Она провалилась в кресло «жигуля», обитое черной потрескавшейся кожей, и Иван Борисович с силой захлопнул дверь. Федя с трудом уместил чемодан в багажнике, а затем с сумкой забрался сзади, усевшись на самый кончик сиденья, чтобы не снимать рюкзак.
– А далеко ехать? – спросил он.
Иван Борисович завел машину и глянул на него в зеркало заднего вида.
– Не, минут пять.
– Опять пять минут, – не сдержалась Нина и в ответ на взгляд старосты добавила: – Водитель в автобусе тоже так сказал, когда подъезжали.
– Да тут до всего близко, – хмыкнул Иван Борисович, и «жигуль» сорвался с места. – Это у нас главная площадь, – попутно рассказывал староста, махая рукой во все стороны, – это магазин, его Клавдия держит, можете ее тетей Клавой звать, – он ткнул в отдельно стоящий крошечный домик из шифера, с почти исчезнувшей от солнца надписью «Продукты». – Тут у нас пошта, – он показал на покосившуюся синюю вывеску, – только работает по понедельникам, средам и пятницам.
– Почему? – подал голос Федя, которому из-за мельтешащей руки старосты почти ничего не было видно. Он проводил взглядом унылое почтовое отделение.
– Потому что почтальон тот еще алкаш, – хохотнул Иван Борисович. – Когда не пьет, тогда и работает. А расписание под водку у него точнее, чем рабочее. В субботу у него Шаббат, в воскресенье он после него отсыпается, в понедельник вечером накатывает тоска, тогда надо что?
– Что? – не понял Федя.
– Опохмелиться, вестимо, – гоготнул Иван Борисович, глядя на Нину. Та вежливо улыбнулась, обнимая живот руками. – Значица, что получается? Во вторник он болеет, к среде выздоравливает. Среду отработал, в среду за это и выпил. Потом четверг снова на опохмел, и, получается, пятница – день рабочий. А пятница – что?
– Пьятница? – спросила Нина, растягивая губы в улыбке.
– Именно, дорогая! Именно. А там и выходные, ну вот и неделя, получается, прошла. – Иван Борисович весело хлопнул себя по колену и расхохотался. Смех у него был приятный, заливистый, чуть клокочущий.
Нина глянула на Федю в зеркало заднего вида. Тот виновато округлил глаза.
– Еще у нас в деревне церковь, конечно, во‑о-он она торчит, – Иван Борисович высунул руку из открытого окна и показал на кончик креста за домами. – Так, что еще? Ну, Совет еще.
– А это что такое? – спросила Нина.
– Народное управление, получается. У нас село маленькое, все друг друга знают, так что дела все решаем тоже вместе. Вот на главной площади Совет и есть. Это еще с того века осталось.
«Жигуль» свернул с главной дороги и поехал снова по одноколейке, будто прямо в кусты. Нина вцепилась в дверную ручку, когда машина подпрыгнула на кочке.
– Да не боись, это еще дорога хорошая, – заметив ее движение, сказал Иван Борисович. – А вот зимой… Не проедешь. Только на лыжах.
Они углублялись все дальше в лес, и Федя вертел головой, но видел только ели, сосны, ели, сосны. Стемнело, как в сумерки, и мотор «жигуля» заревел, когда дорога пошла в гору.
– Давай-давай, ласточка, – приговаривал Иван Борисович, крепко вцепившись в руль.
«Ласточка» вихляла как пьяная, сопротивлялась, ревела, просила спуститься, но староста гнал ее вверх. Нина полулежала на сиденье и смотрела, как ветки хлещут по стеклу, каждый раз вздрагивая, будто ветки хлещут по ее лицу. Наконец машина выпрыгнула на вершину холма, солнце тут же залило ее желтые бока, и Нина зажмурилась.
«Жигуль» крякнул, Иван Борисович хрюкнул, и все затихло. Нина открыла глаза, глядя на метеостанцию: небольшая площадка на расчищенной вершине была уставлена приборами и оборудованием, а сбоку стоял кирпичный дом, от которого паутиной тянулись провода, исчезавшие в подбиравшемся к нему лесе.
Они все выбрались из машины, и, пока Федя доставал чемодан, Нина осматривалась. Здесь было будто не так душно, ветер шевелил и провода, и листья, и траву, доносился слабый аромат костра и тины. С вершины между деревьями виднелась вдали река: все та же золотая полоса, искрящаяся на свету, но теперь чуть меньше, чуть дальше. Порыв ветра рванул Нину за юбку, охладив горячую кожу.
– Пойдемте, – сказал Иван Борисович, выудив из кармана связку ключей и со звяканьем подбросив в руке.
Федя с Ниной пошли за ним. Федя тащил тяжелый чемодан, который по траве совсем не хотел ехать, сопротивлялся, как «ласточка» только что на подъеме. Он приподнял его за ручку и, пыхтя, потащил вперед.
Иван Борисович долго подбирал ключ, и наконец дверь со скрипом отворилась. Темное облако пыли взметнулось, когда они переступили порог.
– Так, здесь где-то должен быть… – староста в шлепках прошел вперед, на ощупь шаря по стене. – Ага, нашел!
Что-то заскрежетало, и в комнате загорелся свет.
– Электричество включил, – гордо сообщил Иван Борисович. – Здесь рубильник, пробки, ну, как обычно. Если выбьет, вы там нажмете. Тут все старое, но добротное. Еще в восьмидесятые строили.
Нина поджала губы. В предбаннике лежал толстый слой пыли с несколькими следами старосты, у двери стояла стойка со старыми тапками, валенками, кривыми резиновыми сапогами, на окне висела грязная желтая занавеска в ромашку.
Староста снова принялся подбирать ключ и вскоре распахнул дверь в дом. Нина прошла за ним, Федя втащил чемодан и поставил в углу.
– Здесь всего три комнаты и чердак. Кухня, э-э, тут, получается, – староста открыл одну дверь, за которой мелькнула духовка и бревенчатый пол. Он ее сразу захлопнул. – А тутачки столовая-тире-гостиная. И спальня, – он махнул рукой на закрытую дверь. – Ну и кабинет товарища метеоролога, – Иван Борисович жестом фокусника распахнул третью дверь, демонстрируя деревянный выскобленный стол, на котором стояли приборы и допотопный компьютер, и стул. – Э-э, надеюсь, у вас свой ноутбук. Не уверен, что этот бедолага работает, – сказал он, похлопав по монитору. – Но если что, можем попробовать организовать через управгор.
– Нет-нет, свой, – отозвался Федя, бросив взгляд на Нину.
Та прошла в гостиную и присела на краешек огромного кожаного кресла в перьях пыли.
– Знаете, а станция в последний раз работала-то год назад, – сказал староста. – Как предыдущий метеоролог уволился, так никого и не присылали. Вакансия, говорят, висела целый год. Тут все, конечно, законсервировали, но, сами знаете, технике стоять нельзя. Вы проверьте и, ежели что, говорите. Видели же, тут с холма спустишься – и сразу в деревне, недалече. Тут есть стационарный телефон, он связывается с сельсоветом, то есть со мной, и с вашим метеоцентром. Мы уже все подключили вчера, должно работать.
– Мы?
– Односельчане. Вы с ними познакомитесь, – лицо Ивана Борисовича снова стало вертикальным. – Сегодня как раз таки. На Совете.
Нина посмотрела на Федю. Тот пожевал губы и спросил:
– А во сколько это будет?
– Пока не знаю. Я вам позвоню. Обустраивайтесь и не будите спящего медведя, – Иван Борисович хлопнул недоумевающего Федю по плечу так, что он покачнулся, и пошел к двери. Он вышел, забрался в машину и махнул рукой Феде с Ниной, стоящим на пороге.
– Это только на месяц, – отрезала Нина, глядя, как «жигуль» исчезает за деревьями.
– На месяц, конечно, месяц, – суетливо отозвался Федя. Он осторожно погладил большой, выпирающий живот Нины. – Вахта-то всего месяц. Потом мне найдут сменщика, и вернемся в город, а там и срок подойдет…
Нина отстранилась, заходя в дом.
– Надеюсь.
Ночью площадь выглядела совсем не как днем: по краям горели фонари, а в центре, у стелы, большой костер. Вокруг него расположились столы, люди и комары. Когда Федя с Ниной вышли из «жигуля» старосты, в воздухе уже пахло спиртом и костром.
Нина осторожно выбралась, чувствуя себя перевернувшейся черепахой, поправила платье – розовое с оборками по подолу, смешно задирающееся спереди из-за живота, – и выпрямила спину. Увидев ее, деревенские, болтавшие между собой, оглянулись и притихли. Когда вышел Федя и взял ее за руку, Нина заметила, что некоторые лица вытянулись.
Иван Борисович тоже, должно быть, их заметил. Он приобнял Федю за плечи, заставив пригнуться, и ухмыльнулся.
– А вот и наш новый метеоролог, Федор, – сказал он, крепкой рукой вцепившись в Федю. – И его красавица-жена – Нина.
Нина сдержанно улыбнулась круглым загорелым лицам, глядящим на нее. Она умела улыбаться очаровательно, с ямочками на щеках. Федя же, наоборот, всегда скалился.
За деревенскими лицами Федя увидел темную, упирающуюся ввысь стелу, и когда язык пламени лизнул небо, освещая ее, он вдруг понял, что это не стела. А деревянный столб с причудливой резьбой. Язык пламени был усмирен поленцем, и столб снова оказался в ночной тени.
Хлопок по плечу заставил его отвлечься. Он отвел взгляд и увидел, что ему протягивает руку пухлый высокий старик с седой бородкой и усами. Совсем непохожий на местных.
– Поп наш, – представил Иван Борисович. – Петр Григорьевич. По распределению приехал да и остался.
– Отец Петр, – проговорил старик, с мягкой улыбкой протягивая руку Феде.
– Федор Чу, – сказал тот, удивляясь тому, как спокойно отец Петр позволяет старосте называть его в лицо попом. Федя переступил с ноги на ногу, не зная, что еще сказать. – Метеоролог.
– Да, я знаю, – усмехнулся отец Петр. От него разило какой-то христианской добродетелью, ладанской благодатью – от лысины, блестящей в свете костра, до деревянного крестика на груди и крепких волосатых рук под закатанными по локоть рукавами. – Мясо насаживать умеете?
– Думаю, справлюсь, – приободрился Федя, заметив ласковую искорку в уголках глаз отца Петра.
Тот похлопал его по руке и потащил за собой – к огромному тазу на столе. В нем оказалось маринованное мясо. Феде вручили шампуры и дали задание насаживать шашлыки.
Женщины, сидящие там же, покосились на него, а затем какая-то старушка в черной юбке и платке на плечах подошла к отцу Петру и шепнула на ухо, но Федя услышал:
– Петруша, ты зачем его сюда?
– А чего такое? – не понял поп.
– Это женское-женское, – попадья выпучила глаза, кивая на остальных женщин у стола с едой.
Они нарезали овощи, колбасу, сыр, фрукты, а мужчины собрались за столом по другую сторону костра – и оттуда доносились громкие возгласы и звон. Федя поискал глазами Нину.
Она уже сидела за третьим столом, где незнакомая старуха налила что-то в стакан и подтолкнула к ней. Девочка лет десяти в коротких шортиках и футболке, с двумя несимметричными хвостиками, забралась с ногами на соседний стул и с интересом разглядывала ее большой живот.
– Федор, да? – Перешептывания между попом и его женой закончились, и та подошла к Феде. На ее лице появилась добрая улыбка. – Мы тут справимся. Ступайте к мужчинам, познакомьтесь.
Федя понимал, что та хочет как лучше, но здесь, за столом было тихо и мирно, а там, за пеленой огня, шумело, волновалось мужское море, и ему совсем туда не хотелось. Нина заметила его взгляд и прищурилась. Федя со вздохом поднялся.
Он аккуратно обошел костер и приблизился к двум составленным вместе столам, за которыми сидели мужики, по-другому не назвать. Они были все разные, но вместе с тем в чем-то похожие – разрезом глаз, загорелостью лиц, оскалом зубов, темными волосами. Черный столб возвышался за спиной человека, сидевшего во главе. Пламя взметнулось вверх, и Федя увидел, что на столбе вырезана морда ревущего медведя.
Мужчина под медведем заметил Федю и тоже оскалился. Оскал деревянных зубов почти в точности повторял оскал человеческих. Это был высокий сильный человек с резкими, словно тоже выточенными из дерева, чертами лица, темной короткой бородой и угловатыми карими глазами, блестящими в полутьме. Он был одет в рубашку с коротким рукавом и безрукавку, его темные волосы спадали до плеч, а на открытой груди висел крест и какой-то кулон.
– А это кто? – спросил он, указывая пальцем на Федю.
Иван Борисович, сидевший на соседнем месте слева, тут же встрепенулся и совсем не как староста подал голос:
– Метеоролог на эту вахту. Федор Чу.
В неровных всполохах пламени лицо мужчины будто скривилось.
– Япошка, что ли?
– Нет, потомственный кореец, – отозвался Иван Борисович. Он повернулся к Феде и ободряюще махнул рукой. – Иди сюда, иди.
Феде хотелось вернуться к женщинам, но он все же приблизился.
– Федор, – он протянул руку мужчине.
Казалось, что в деревне главный он, а не староста – по тому, как держался, как сидел на главном месте, и как Иван Борисович усиленно подмигивал ему сбоку.
– Григорий, – большая теплая ладонь с силой стиснула его. – Метеоролог, значит? Будешь погоду нам делать?
– Скорее собирать данные, а потом отправлять в метеоцентр, – отозвался Федя, сдерживаясь, чтобы не поморщиться от чужой хватки.
Он опустил глаза, прячась от темного взгляда, и увидел, что крестик на груди Григория переплелся с резным амулетом. Он не мог его разглядеть, но почему-то был уверен, что это медведь.
– Понятно, – Григорий отпустил его руку и посмотрел на человека, сидящего справа. Тот перестал жевать и нахмурился. Григорий оскалился, и человек неохотно соскользнул со стула с тарелкой в руках. – Присаживайся. Эй, Катька! – вдруг крикнул он так громко, что Федя подскочил на месте. Он обращался к столу по другую сторону костра. – Тарелку притащи!
– Несу! – за пламенем кто-то вскочил, и через минуту перед Федей лежали пластиковая тарелка, вилка и стаканчик.
– Спасибо, – поблагодарил Федя женщину с большим круглым лицом и телом. Та странно на него посмотрела, затем на Григория и ретировалась.
– Ты баб не балуй, – сказал ему Григорий, щедро наливая мутной жидкости в стакан. – Твоя-то красотка, таких баловать нельзя.
Федя проследил за его темным взглядом – тот смотрел на Нину. Она оцепенело сидела за столом, и старуха как раз толкнула ее в руку, протягивая нож и доску. Федя видел, как ее лицо вытянулось, но она не стала возмущаться и просто взяла доску.
– С характером, сразу видно, – прокомментировал Григорий. – Воспитывай ее хорошо. Хотя… – Он бросил взгляд на лицо Феди и хмыкнул. – Тебе, поди, пару уроков нужно?
Федя помолчал, придумывая хоть сколько-нибудь вежливый ответ.
– Уроки мне не нужны, но спасибо за предложение, – он поправил очки на переносице.
Вокруг все притихли. Григорий впился в него взглядом, и Федя чуть не вжал голову в плечи. А затем вдруг мужчина расхохотался, и его смех подхватили остальные. Иван Борисович нервно захихикал, выпучивая глаза на Федю. Тот уловил его взгляд, но не понял, чего староста хочет.
– Спасибо за предложение! – пророкотал Григорий, хлопая рукой по столу. Зазвенели бутылки. – Спасибо за предложение, ха-ха-ха! Ну, я от своих слов не откажусь, обращайся, если что, китайчонок.
Федя поежился: он думал, что уж здесь, среди похожих на него людей, никто не станет обращать внимание на его внешность. Так было в городе, где он казался белой вороной, а здесь он выделялся не больше обычной галки, но все равно слышал этот поток замечаний. «Грубые, неотесанные люди», – сделал он вывод про себя.
– Я не китаец, – наконец мягко поправил его Федя, чем вызвал еще больший взрыв хохота.
Однако из-за этого напряжение за столом как будто спало: люди снова начали болтать, курить, чокаться, и Григорий протянул Феде стакан.
– Пей, – приказным тоном сказал он.
– Я не пью… – попытался отказаться Федя.
– Пей, а то кто тебя уважать в деревне будет? – повторил Григорий, настойчиво всовывая стакан.
Медведь за его спиной скалил зубы, будто тоже хотел, чтобы он выпил. Федя глянул на Нину, и Григорий снова расхохотался.
– Ждешь, чтобы жинка разрешила? – с издевкой спросил он, впихивая стакан в руку Феди. – Пей!
– Пей! Пей! Пей! – загрохотали мужчины за столом.
Федя покраснел, стискивая бумажный стаканчик.
– Пей! Пей!
Он сделал глоточек, закашлялся и тут же выпил залпом.
– До дна!
Из глаз Феди брызнули слезы, горло обожгло пламенем, по спине постучала большая горячая ладонь.
– Помедленнее, помедленнее, – послышался голос Григория. – Эй, Катька, воды принеси.
– Сейчас!
Нина сидела за третьим столом в стороне, куда присела, потому что мест больше не было. Здесь были лишь старухи да дети. Дети резвились у костра, подходя к нему так близко, что можно обжечь пальцы ног, и тут же отбегая. Старухи шепелявили что-то друг другу, и Нину почти никто не трогал. Она смотрела на трещащий костер, сжимая руки на животе. За костром кричали мужики, она видела смутную фигуру сгорбившегося Феди, а за ними стелу – огромный медведь поднимался на задние лапы и ревел, и ревел, и ревел.
2 июля
Деревенские будто подобрели и с утра пораньше один за другим потянулись на метеостанцию: кто молоко принесет, кто яйца, кто свежие овощи.
Нина смотрела на эти дары снисходительно, и между ее красивыми бровями залегала морщинка, которая становилась глубже, когда она видела, как Федя суетится, как благодарит деревенских, как хохочет над их несмешными расистскими шутками.
Нина сидела на крыльце – завалинке, как ее называли местные – сидела и смотрела, как Федя работает. Она редко оказывалась с ним на станциях, а потому на лысой поляне посреди леса это для нее было единственное развлечение: как он снимает показания, как поправляет очки, как что-то записывает в блокнот и как грызет ручку, задумавшись и смотря в облака.
Когда-то профессия метеоролога казалась Нине романтичной: формы облаков, погоня за грозами и холодные-холодные станции на льдинах. В советские времена метеорологи были героями, которые забирались в места, куда не ступал никто, кроме них, где посреди темного леса и заячьих следов они собирали данные по температуре, ветру, давлению. Когда она только встретила Федю, ей думалось, что она будет кататься с ним по стране, что переживет все трудности и горести, что будет как жена декабриста, что…
Мало ли что она думала. Жизнь истерла все мысли, подрезала крылья ее мечты, спустила Нину на землю и больше никакие облака и ветра ей были не нужны.
– Милая! – восторженно крикнул Федя. – Ночью будет дождь!
Его очки блестели на солнце, как два светлячка, непонятно зачем вылетевшие под голубое небо. Интересно, летают ли светлячки днем, подумала Нина. Он всегда так нежно звал ее «дорогая» и всегда так восторгался результатами своих подсчетов. Федя любил все считать вручную, будто на дворе и правда пятидесятые.
– Я пойду прогуляюсь, – сказала Нина, поднимаясь и поправляя платье. Сегодня белое в маленькую красную птичку.
Не думая о том, услышал ли ее Федя, она направилась к дальней стороне лысого холма – в траве извивалась ведущая в лес тропинка, протоптанная бог весть кем.
Трава щекотала голые щиколотки Нины, ласкала опухшую от жары кожу, забиралась под юбку и терлась о бедра. Кузнечики надрывно стрекотали, заглушая все остальные шумы и даже пульс в ушах. Нина рассеянно провела рукой по стеблям. Солнце пекло затылок, вынуждая ускорить шаг, чтобы спрятаться от зноя под сенью приветливо шумящих деревьев. Она ступила в тень и будто тут же пропала с поляны. Когда она обернулась, домик и метеостанция растворились в пятне яркого света. Стрекот отступил за тень, испугался и тем подарил ушам Нины благостную передышку. Земля – каре-зеленая, увитая корнями и ветками, – казалась здесь холоднее, будто совсем не нагревалась. Нина глубоко вдохнула, чувствуя умиротворяющую прохладу, которой не чувствовала уже несколько дней – с душной электрички, пыльного автобуса и жаркого костра.
Нина положила одну руку на живот, а второй цеплялась за кору деревьев, пробираясь вперед. Стволы переплетались клеткой, словно не хотели, чтобы она шла дальше, а тропа дразняще извивалась впереди.
Холм закончился и обрывисто пошел вниз, и Нинины босоножки – городские, серебристые, совсем не подходящие для леса, – заскользили по влажной земле. Она вжалась в дерево и даже чуть испугалась, замерев.
И в этот момент в шуме хвои ей почудилось что-то иное – что-то влажное, мокрое, освежающее. Журчание. Нина принялась осторожно спускаться боком, ступая между клеточками ветвей и корней, словно играла в паутинку. Лес был дикий, и ощущение, что село и дом были всего в ста метрах, постепенно исчезало. Настоящая тайга, какой она никогда не видела.
Нина споткнулась, неловко сделала несколько шагов вперед, и ее босоножки врезались в гальку. Успокоив взметнувшееся к горлу сердце, она подняла глаза и в сумраке увидела ручей.
Тонкий скользкий ручей тек мимо нее, склонялись ветви к воде и журчали будто сами камни. Это место было некрасивым – не как на картинках лесных ручьев, а просто – галечная полоса, за ней полоса воды, и снова галька. Острые камни впивались в подошвы босоножек Нины, ноги заскользили, когда она сделала несколько шагов вдоль ручья и испуганно впилась ногтями в молодое деревце. Ручей был узким, неглубоким, всего пара метров, но за ним лес будто густел, мрачнел, и тянуло холодом. Хвоя из светло-зеленой становилась изумрудной, синей, почти черной, лучи солнца с неба досюда не доходили, и влажность смачивала кожу Нины.
Она посмотрела на ту сторону. Всмотрелась во тьму, столь контрастную посреди ясного дня. Светлая поляна таяла в памяти при виде этой тьмы. Нине захотелось вернуться.
Она повернулась к тропе и вдруг заметила в черноте какой-то блеск. Нина приложила руку ко лбу и всмотрелась.
И завизжала, отпрянув.
– Нина! – в голосе Феди звучала паника, настоящий ужас. – Нина! Ты где? Нина! Дорогая!
Нина моргнула. Блеск в листве исчез, вместо него на том берегу она увидела короткий деревянный столб. Повернув голову, она поняла, что их несколько – они тянулись, будто граница, вдоль ручья: один, два, три, четыре. Просто деревянные столбы. Такие же, как на площади.
– Нина! – голос Феди раздался ближе, громче, испуганнее. Он вывалился из листвы позади Нины, колени в земле, на локте ссадина, очки съехали. – Нина, ты в порядке?
Нина стояла на берегу, глядя на ту сторону. Она медленно повернулась к мужу, осмотрела его и кивнула.
– Да, просто поскользнулась, – спокойно сказала она.
Нина не знала, почему соврала. Но не могла же она сказать, что испугалась деревянного медведя.
Федя разодрал коленку в лесу, а в доме не оказалось аптечки. Он отправился в деревенскую аптеку. Он смутно помнил, что они проезжали нечто похожее со старостой. Нина осталась в доме, сказав, что прогулки ей надоели. Он был совсем не против – с ее сроком лучше поменьше двигаться.
Федя бодро шагал по дороге вниз с холма. Солнечное казалось приветливым, немного странноватым, как всякая глухая деревня, но добродушным к чужакам. Он выскочил на улицу и замер, оглядываясь по сторонам.
В середине дня в поселке царила настоящая испанская сиеста – жители исчезали, коровы лениво жевали траву на обочине, петухи укрывались в тени заборов. Федя прошел мимо дворняги, которая лежала на спине и сопела, подставив уши и пузо солнцу. На улице не было ни души.
Пес встрепенулся, когда Федя проходил мимо, поднял большую голову, неторопливо встал на лапы и потрусил за ним.
– Сопроводить меня решил? – с усмешкой спросил Федя у пса. Тот не ответил, глядя на него большими черными глазами с катышками в уголках. Слепень вился над его хвостом, и пес нетерпеливо дернул им. – Знаешь, где аптека? – Федя оглянулся по сторонам и решил пойти дальше.
Некоторое время они с псом шли рядом. Затем тот свернул в какой-то двор, будто это Федя провожал пса. Федя как раз дошел до «Продуктов», где он уже был в первый день. Он толкнул синюю дверь и зашел: здесь пахло молоком и старым холодильником.
Из-за прилавка поднялась женщина – худая, тонкая, еле заметная на фоне пузатых бутылок водки. Паутинистое лицо с пустыми голубыми глазами обернулось к Феде.
– Чего случилось? – равнодушно спросила она.
– Теть Клав, а где у вас тут аптека? – Федя улыбнулся.
Тетя Клава улыбаться не стала. Она осмотрела его с ног до головы, будто искала причину вопроса, и остановила взгляд на коленке.
– Разбил, – сказала она, даже не спрашивая.
– Ага, у ручья.
– Ручья? – Тетя Клава вернула свои бледные глаза к его лицу. – Какого?
– Да тот, что за холмом. Споткнулся в лесу, и вот, – Федя показал на коленку.
Продавщица снова посмотрела на коленку и поджала тонкие сухие губы.
– А зачем ходил?
– Да просто прогуляться… разведать обстановку, так сказать.
Федя почувствовал странное недовольство в голосе тети Клавы и неловко почесал в затылке. Возникло ощущение, будто его ругает воспитательница.
Женщина исчезла за прилавком, затем со стуком поставила на него коробку.
– Не надо ничего разведывать, – категоричным тоном сказала она, принимаясь рыться в коробке. – Городским лучше не ходить в лес.
– Ха-ха, вы правы, – натянуто улыбнулся Федя. – Мы и потеряться можем, совсем же не ориентируемся.
– Или что похуже, – глухо отозвалась тетя Клава. Она выудила из недр коробки тонкую бежевую полоску и протянула ему. – Вот, заклеишь.
– Спасибо, – Федя благодарно принял пластырь. – Но я все-таки схожу в аптеку.
– Второй поворот налево, – сказала тетя Клава, шумно убирая коробку обратно.
– Спасибо.
Федя направился к двери и со скрипом ее открыл.
– Не ходи к Медвежьему броду, – услышал он в спину.
– Что? – Федя обернулся.
Солнце заливало ему затылок, и из-за этого внутренности магазина, особенно прилавок, утопали в полумраке.
Оттуда донесся вздох. Прождав несколько секунд и ничего больше не услышав, Федя пожал плечами, крикнул: «До свидания» и вышел наружу.
3 июля
Нина скучала. Скука расползалась по дому, забиралась во все щели и даже затуманивала экран телевизора. Телевизор начинал барахлить, тупить, голоса смазывались, изображение плыло – и Нина переводила глаза на окно.
За ним был Федя. Он всегда чем-то был занят – а если не занят, то поправлял очки и тут же искал себе дело, будто без дел его не существовало, будто, замерев на месте, он бы исчез, растворился в барахлящем телевизоре и пылинках на солнце.
Когда-то Нина любила за ним наблюдать: движение жизни всегда гнало Федю вперед, всегда подталкивало сзади, и он казался белкой в колесе, словно и вправду знал, что там – за этим колесом, словно нашел какой-то тайный смысл жизни и стремился к нему.
Потом Нина поняла, что смысла жизни он не нашел. Он просто суетился, деятельничал. Легкая завеса таинственности, укрывшаяся за толстыми стеклами очков Феди, однажды рассеялась, и Нина увидела его именно таким, каким он был: маленьким и щуплым корейцем, потерявшимся в бесконечных русских лесах.
Но он был добрым. Добрым к ней, к жизни, к людям вокруг. Вежливый, улыбчивый, даже обаятельный. Может, за это она когда-то его и полюбила. Доброта в других ее влекла, завораживала, особенно если доброта была направлена на нее.
Федя обернулся за окном и тут же улыбнулся, увидев, что Нина смотрит на него. Он помахал рукой. Нина почти инстинктивно приподняла кончики губ и уже было махнула рукой, но потом сжала ее в кулак и снова уронила на колени. Она отвернулась и вздохнула, взглянув на телевизор.
Федина улыбка увяла. Он снова принялся за расчеты, за приборы, за солнце, за небо – быстрее, чтобы это выбило ненужные мысли из его головы, и те просто пропали. Он не мог развеять скуку Нины – он не понимал ее. Нина будто родилась с ней – она скучала, сколько он ее знал, а это уже почти десять лет.
Федя уставился на солнечный зайчик на линзе и задумался, передается ли скука по наследству. Он надеялся, что нет. Ведь в нем скуки не было, Федя никогда не скучал. Он всегда знал, чем себя занять, как себя устроить.
За его спиной скрипнула дверь, и на пороге показалась Нина – сегодня в зеленом в полоску платье, с маленькой сумочкой через плечо, ремешок обнимал живот сверху.
– Прогуляюсь до магазина, – сказала она дороге, по которой направилась прочь от дома. Федя кивнул своему блокноту.
Нина довольно быстро спустилась с холма, выходя на главную улицу. Целью ее прогулки был не магазин, а сама прогулка, поэтому она не торопилась. День уже отбыл первую половину, и деревенские постепенно освобождались от дел. Она встречала людей у заборов – стариков, скрюченных в тени, детей, резвящихся вдоль канав и гоняющих кур, мальчиков, играющих в футбол прямо на дороге. Мяч пролетел мимо нее и чуть не попал, заставив Нину испуганно вздрогнуть.
– Простите! – крикнул мальчишка, подбегая к ней. Загорелое лицо, большие глаза, голый торс и шорты. Он, как и все дети, уставился на ее живот. – Простите, – повторил он и ухмыльнулся, демонстрируя дырку между передними зубами.
Нина кивнула, продолжая свой неторопливый путь. На плече мальчишки, когда он отвернулся, она заметила рисунок синей ручкой – будто подмалевок для татуировки – кривой ревущий медведь. Ей вдруг вспомнились столбы у ручья и стало интересно.
Скука немножко отступила перед этой крошечной вспышкой.
– Эй! – крикнула она мальчишке вслед, поражаясь собственной смелости. Тот обернулся, недоуменно глядя на нее светлыми глазами. – Почему медведь?
Мальчик хмыкнул, открыл рот, довольно щурясь.
– Он охраняет! – крикнул он и припустил прочь к своим товарищам на дороге.
Нина ничего не поняла. Скука вновь встрепенулась, медленно поглощая ее, пожирая мысли. Нина направилась дальше, медленно ступая по камешкам на обочине. Влажное лето сминало ткань, и под грудью уже собралась полоса пота, а живот, будто огромный мешок с песком, тянул ее к земле. Нине захотелось присесть. Впереди была площадь – та самая, на которой в первый день горел костер. Теперь только черное пятно перед черным столбом напоминало о нем.
Днем площадь выглядела как небольшой сквер: кусты по краям пятачка, скамейки у столба. Ночью же место преображалось, от него веяло чем-то потусторонним, особенно когда горело живое пламя.
Нина устало присела на скамейку прямо напротив медведя. Она впервые видела его так близко в светлое время: грубые борозды на дереве переходили в тонкую резьбу, формируя морду, а волнистые линии формировали шерсть. Столб будто вырезали снизу, и постепенно мастер становился все искуснее: у основания резьба была грубой, отрывистой, крупной, но чем выше, тем тоньше шел нож, тем любовнее ложилась шерсть, тем тщательнее вырезались клыки и острые когти на поднятых лапах. И глаза: это, наверное, были какие-то камни, которые вставили в дерево, и теперь черные бусинки следили за каждым на площади – сейчас за одной Ниной. Столб был такой толщины, что Нина бы не смогла его обнять двумя руками, особенно с животом, а ростом он был как две Нины. Она задрала голову, глядя на свирепую морду и гадая, что заставило жителей села поставить такой тотем на центральной площади.
– Отдыхаете? – раздался голос сбоку.
Нина повернула голову и увидела Ивана Борисовича: в том же наряде, в котором он встретил их. В зубах у него была сигарета, а под мышкой зажата газета. Нина медленно кивнула. Он махнул на серое здание.
– Перерыв, – пояснил он, хотя Нина не спрашивала.
Он уселся на ту же скамейку, закидывая ногу на ногу и поджигая сигарету. Выдохнул в сторону от Нины.
– Хорошая погодка, – сказал он будто для того, чтобы что-то сказать.
Нина снова кивнула, отрешенно наблюдая, как солнечные блики, просочившиеся сквозь деревья, играют на столбе в догонялки.
– Вы как, освоились? – Иван Борисович повернулся к Нине, кладя между ними газету.
Нина поправила юбку и подумала, что кивать в третий раз будет невежливо.
– Да, спасибо, – вежливо сказала она, хотя в ее голосе не слышалось вежливости. Скорее потаенное желание поскорее отделаться от старосты.
Тот сделал затяжку, глядя в небо. Он казался расслабленным, и оттого Нина начала напрягаться. Ей вдруг захотелось разбить эту тишину, хотя говорить не хотелось.
– Почему у вас в центре деревни стоит столб с медведем?
– Я слышал, вы к ручью ходили.
Они посмотрели друг на друга в изумлении, потому что заговорили одновременно. Затем Иван Борисович неловко улыбнулся.
– Ходили, – сказала Нина. – А вы откуда знаете?
– У нас в деревне слухи быстро разносятся. Все свои, – махнул рукой староста. – А медведь… – Он посмотрел на столб и прищурился. – Это хранитель нашей деревни.
– Это как? – спросила Нина. – Как покровитель?
– Не совсем, но почти, – уклончиво сказал староста. – Этот столб вырезали местные, на Совете решили, что установим его здесь. Я вам уже говорил, что все дела мы решаем сообща.
Маленькие глаза Ивана Борисовича уставились на Нину. Ей вдруг показалось, что сам он был против столба.
– Я сначала подумала, что это стела погибшим на войне, как везде, – сказала она, глядя на морду медведя. – А потом рассмотрела.
– Местные верят, что медведь защищает нашу деревню от напастей и бед. Ходит легенда, что основателю села жизнь спас медведь, живущий в этом лесу, и с тех пор все жители считают его своим защитником. Многие носят изображение медведя как оберег, – Иван Борисович посмотрел на Нину и улыбнулся. – Почти язычество, получается. Хотя и церковь у нас поздно появилась – всего лет двадцать как, до этого места были дикие, неци-ви-ли-зованные. Вот поп все эти годы и пытается из них это выбить, да все без толку. Сызмальства ребятишкам сказки про медведей рассказывают, вот они про него и талдычат. Сейчас хоть в церковь ходят все, примирились с Богом, так сказать. А что раньше было…
Нина открыла было рот, чтобы спросить, как он узнал про мальчишку с татуировкой ручкой, но затем подумала, что это глупо. Конечно же, он не знал. Он говорил про всех. И что же было тогда, «раньше»?
– А вы тоже местный? – спросила она.
– Да, где родился – там и пригодился, – хохотнул Иван Борисович, туша сигарету о край скамейки. – Мать моя отсюда, отец – из города.
– Города?
– А, так мы называем поселок, где жэ/дэ станция. Молодежь наша вся туда стремится – и магазины там, и вокзал, да и школа старшая тоже там.
– И это дети каждый день час туда, час обратно на автобусе? – спросила Нина.
– Ну а что поделать. Учиться тоже надо, не все ж коров пасти, – пожал плечами Иван Борисович. – Сначала при церкви учатся, попадья им уроки дает, все что нужно: счет, алфавит, письмо. Кто дальше учиться хочет – тому в школу в городе, а кто не хочет – тот уже по хозяйству помогает. Правда, детей у нас не так много. Уже несколько лет младенчиков нет, а те, что подрастают, разъезжаются. Многие только на лето и приезжают, родных проведать, а зимой у нас пусто, тихо, почти мертво.
Это слово – мертво – почему-то зацепило Нину, будто крюком, вырвало из оцепенения шумящей листвы и кузнечиков стрекотни.
– Летом хорошо, – Иван Борисович откинулся на спинку скамейки и запрокинул голову. – Летом жарко, все родится, все живое.
Нина ничего не ответила, и снова воцарилась тишина. Она закрыла глаза, чувствуя, как блики бегают по векам. Она размышляла о том, смогла бы она жить в такой деревне, которая летом живет, а зимой в спячку впадает. Кажется, местные и правда жили как медведи. Нина бы так, наверное, не смогла. Когда завеса скуки приподнималась, Нине очень хотелось жизни – бурной, активной, яркой, такого в деревне не сыщешь. Правда, с тех пор, как в ее животе поселился другой человек, таких всплесков у нее становилось все меньше и меньше, словно этот незнакомец забирал у нее всю жизнь, всю яркость, всю радость.
– Совет хочу вам дать, Нина, – неожиданно заговорил Иван Борисович. Нина приоткрыла глаза – староста поднялся и чуть наклонился к ней, будто это был какой-то секрет. – У нас тут вокруг тишь да гладь, все друг друга знают, все помогут. Но вы лучше не отходите из деревни далеко в лес в одиночку. Медведей у нас не видели давно, но легенды на пустом месте не возникают, – он широко улыбнулся, растягивая губы. – Мало ли что.
«Мало ли что». Эти слова все еще отзывались в голове Нины заговорщицким шепотом, когда Иван Борисович уже скрылся в сером здании с газетой под мышкой. И его улыбка вдруг показалась ей не такой дружелюбной и приятной, как она думала до этого.
Посреди жаркого летнего дня она посмотрела на столб, и ее пробрала странная дрожь.
4 июля
Федя оказался прав: вечером налетели тучи, закрыли небо, и оно потемнело, скуксилось, не видно было ни звездочки. Нина лежала в кровати и слышала, как гремит где-то вдали – будто кто-то стучит в дальнюю дверь, а потом вдруг прогремело близко, и Нина потянула одеяло на себя. Федя давно спал, и его мирное, привычное посапывание сбоку почему-то не успокаивало. Гром растекся по небу, сверкнуло за занавеской, и стены словно задрожали. Нине казалось, что весь холм вздрогнул.
А потом в тишине – когда примолкли все сверчки и кузнечики – разразился ливень. Дождь забарабанил по крыше, и Нина вдруг с испугом подумала, не протекает ли она. Дождь все стучал и стучал, но никто не спешил ему открывать: Федя спал, Нина куталась в одеяло от охватившего ее озноба. Завыл с силой ветер, задрожали стекла, и в который раз Нина подумала о том, как хорошо было бы, если б они не приезжали.
Что-то царапнуло по стеклу, и она вздрогнула. Нина никогда не была трусихой – но новое существо, растущее в животе, отнимало у нее смелость и сеяло семена страха в ее сердце, благо находилось прямо под ним. Сверкнуло раз, два, три, и ей показалось, что за окном кто-то есть.
Нина спустила ноги с кровати, говоря себе, что стены дома толстые, из добротных бревен, которые еще сто лет простоят, а на крыше установлен громоотвод. По стеклу что-то скреблось и било, шумно рыдал дождь. Нина на носочках подошла к окну.
Она отвела занавеску в сторону и на мгновение застыла. Затем – позабыв, что хотела увидеть, – вернулась и забралась под одеяло, прижимаясь к Фединой спине. Его теплое тело успокаивало ее и дарило ощущение безопасности. Она закрыла глаза, чтобы не видеть молний, не видеть грозы, и решила спать.
Потому что за окном точно не могло быть огромного медведя.
После летней грозы провода, и без того дышащие на ладан, совсем одряхлели и почили, оборванными нитями вися среди веток. Федя узнал об этом раньше Нины – когда с утра обнаружил, что свет не включается и электричества нет.
Пока Нина открывала глаза, Федя уже успел снять показатели со своих приборов, обойти дом, проверить, как сильно размыло дорогу, и совершить самое бесполезное дело – попробовать набрать Ивану Борисовичу по стационарному телефону.
Когда Нина вышла из дома, она первым делом посмотрела в ту сторону, куда выходило их окно. Мокрая трава неприятно щекотала ее голые щиколотки, когда она обогнула дом и встала перед стеной, глядя в сторону леса. Трава шелестела, роса падала на землю, лужи виднелись в рытвинах. Она пошла вперед, внимательно глядя под ноги, – к большому дереву, что росло на окраине поляны. И замерла, увидев то, что хотела – и что страшилась найти: яму размером с ее ногу, затопленную водой.
– Нина, чего ты там? – крикнул сзади Федя.
Нина пару мгновений смотрела на лужу, и ей все казалось, что она круглая, а не вытянутая, как след, потом она моргнула, и лужа показалась почти квадратной.
«Глупости», – подумала Нина. Просто лужа.
– Ничего! – крикнула она, возвращаясь к крыльцу.
По логике вещей, будь здесь медведь, он бы разнес метеостанцию и попытался найти съестное в сарае. Но все было целое – будто ей приснилось.
– Я пойду вниз, в деревню, узнаю, что с электричеством, – сказал Федя, стоя в шлепанцах и шортах посреди размытой дороги. – Ты пока посмотри, как там холодильник. Что-то надо съесть, пока не подключат.
– Ага, – отозвалась Нина.
Она присела на лавку, чувствуя, как уже подступает усталость. Ночью она плохо спала, и потому теперь казалось, будто полдня миновало.
Федя покружился по двору, затем порылся в предбаннике, выуживая старые резиновые сапоги, и натянул их на босу ногу. Сапоги оказались чуть большеваты, и Федя в них смотрелся забавно. Нина даже хмыкнула, глядя на него.
Он махнул ей рукой и пошел вниз с горы. Нина наблюдала за ним, пока его макушка не исчезла за линией земли, затем грузно поднялась, чувствуя холодную влагу на ногах.
Федя шлепал по лужам, пока не вышел в деревню, но никого не встретил: магазин был закрыт, дворы тоже, будто вся деревня разом вымерла, погрузилась в послегрозовую спячку. Он направился по дороге к площади, надеясь переговорить с Иваном Борисовичем – и, к своему изумлению, нашел там всю деревню. Мужчины окружили столб, а женщины столпились у скамеек, о чем-то возбужденно переговариваясь. Издалека Федя увидел, как Григорий несет стремянку к столбу.
Он подошел, различая в гомоне отдельные голоса:
– …сверкало-то, сверкало, всю ночь не могла уснуть!
– …Ага, как же, дрыхла без задних ног, Витька мой выходил проверить, стеной шел…
– Я видела эту молнию из своего окошка…
Федя снова посмотрел на столб и увидел, что верхушка его, там, где топорщились уши медвежьи, будто почернела, обуглилась, и длинная трещина прошла меж черных глаз.
– О, метеоролог, – окликнул его кто-то, и тяжелая ладонь хлопнула Федю по плечу. – Авось пришел узнать, чей-та электричества нет?
Федя обернулся, глядя на Ивана Борисовича. Тот улыбался, но как-то натужно, через силу, а глаза его смотрели за спину Феди – на медведя.
– Да, доброе утро. Провода из-за грозы оборвались? – спросил он, хотя сам видел их.
– Видать. Из города теперь дожидаться ремонтников, – сказал староста, сжимая его плечо. – Вона как сверкало, даже в столб наш ударило.
– Дерево, что поделать. Молния… – Федя пожал плечами, оборачиваясь на тотем.
Ему вдруг стало жалко работу мастера, что с такой любовью вырезал шерсть, а теперь она вся обуглилась, будто медведю голову пеплом посыпали.
– Да, – согласился Иван Борисович, косясь на Федю. Григорий забрался на стремянку, обнимая медвежью голову и разглядывая ущерб. Он что-то крикнул мужикам снизу, что держали его за ноги, а потом полез вниз. – Да, – рассеянно повторил Иван Борисович.
Федя покосился на него, не понимая, почему тот выглядит так потерянно. Он открыл было рот, чтобы спросить про столб, но затем закрыл его. Было очевидно, что тотем играл какую-то важную роль для жителей Солнечного, если все они собрались здесь.
– А когда приедут ремонтники? – вместо этого спросил Федя, наблюдая, как Григорий отдает какие-то указания.
– Скоро. Скоро, – сказал староста. – Сейчас мужики поедут к станции, телефоны все равно не работают. А там уже и…
– Просто у меня приборы, – сказал Федя, поправляя на носу очки. Он пожевал губы, задумавшись, как бы обозначить важность этой задачи. – Показания надо снимать каждые три часа. Без электричества придется вручную…
– Да-да, понимаю, все понимаю, – староста оторвал взгляд от центра площади и снова улыбнулся Феде. – У кого-нибудь найдется запасной генератор. Коли вам совсем невмоготу, одолжим. А пока – ждите у моря погоды, – он усмехнулся. – Выходной у вас, получается.
– Выходной… – повторил Федя. По какой-то причине то, как работали мужики в центре пятачка, завораживало. Они принесли инструменты, и Григорий снова полез по стремянке наверх, держа в руке стамеску и долото. – Это Григорий медведя вырезал?
– Ага, его творчество. Он у нас мастеровитый, башка хорошая, только не в то дело приложенная, – сказал Иван Борисович, и Федя не понял его слова. – Медведь-то наш охранник, надо подлатать, а то как бы чего не вышло.
– Чего не вышло? – не понял Федя.
– Как знать, как знать, – в глазах старосты снова появилась растерянность.
Федя перестал на него смотреть и обратил все внимание на столб. Вся деревня наблюдала, как Григорий добрался до макушки медведя, примерился и аккуратно, почти нежно для такой большой ручищи, тесанул по дереву. Послышался деревянный визг, и крохотная щепка слетела вниз. Взгляды были прикованы к ней, когда она, медленно планируя, перевернулась в воздухе несколько раз и приземлилась на вытоптанную землю. Староста рядом с Федей вздохнул.
Нина решила сходить на речку, пока электричества нет. Федя остался в доме – теперь без автоматической настройки ему приходилось каждые три часа снимать показания и записывать их. Нина не стала уговаривать его пройтись. Она собрала сумку, надела на голову большую соломенную шляпу и вышла из дома.
Разжарилось. Пока Нина шла до реки, ее преследовал стук долота с площади. Он разносился на всю округу, будто покрывая своим мерным тиканьем все Солнечное. Нина подстроила шаги под стук, но звук ускорялся, и она не поспевала за ним, а потому вскоре отстала, будто опаздывала.
Нина шла по дороге, которая медленно спускалась – мимо нее проходили деревенские, дети, собаки. Казалось, отсутствие электричества выгнало всех из домов, и когда она пошла по еловой аллее, что вилась по полю к серебристой ленте реки, вокруг нее уже собрались мальчишки, оживленно болтающие между собой. Нина прислушалась.
– Да это древнее проклятье! Проклятье!
Посреди яркого солнечного дня слова звучали как карканье, совсем не к месту.
– Точно тебе говорю, это оно! Мне мама сказала.
– Бред!
– Эй! Ты на мамку-то мою не гони, она больше твоего понимает.
– Тогда почему сразу проклятье? Может, предупреждение.
– Потому что, деда мне еще рассказывал… – мальчик понизил голос и оглянулся на Нину. – Потом!
Мальчишки рванули вперед, отрываясь от нее. Нина равнодушно смотрела, как они сгрудились впереди и исчезли за поворотом.
Она поправила шляпу, глядя в сторону, откуда доносился стук долота. Федя рассказал ей про молнию – может, ребята о ней? Нина вспомнила медвежью тень, которую видела ночью в грозу: почему она ей привиделась? Вставала ли она вообще? Живот тянуло вниз, ноги опухали от жары. Нина побрела вперед.
Берег реки усыпали дети, женщины, мужики. Жара гнала всех в воду, и когда Нина ступила на песок голыми ногами и огляделась, то не нашла свободного места. Деревенских оказалось очень много: дети с визгом забегали в реку, женщины щелкали семечки в теньке, несколько мужчин курили под соснами среди выступающих корней. Нина пошла вдоль линии леса, чтобы найти себе местечко на корягах.
– Эй! – окрикнула ее женщина. – Нина! Идите к нам.
Она прищурилась, глядя против солнца на фигуру. Фигура отчаянно махала рукой, подзывая ее. Нина заколебалась, но затем пошла к ней. Это оказалась попадья, но Нина совершенно не помнила, как ее зовут. Ее сморщенное белое лицо приветливо улыбалось, а от ее длинной серой юбки Нине самой стало жарко.
– Садитесь, – попадья похлопала по покрывалу, – вам с пузом стоять тяжко, по себе знаю, ноги гудели как трубы.
Нина поджала губы. Она стояла над покрывалом, и ее тень накрывала попадью, будто большое круглое солнце. Короткие волосы до плеч делали ее тень на песке еще круглее.
– Садитесь-садитесь, – попадья сдвинулась, освобождая место. Потом вдруг резко повернулась к воде и оглушительно рявкнула: – А ну обратно плыви, Вадик! Я все вижу!
Нина от неожиданности вздрогнула и тоже обернулась. Мальчишка в блестящей воде махнул рукой и поплыл обратно к берегу.
– Младший мой, – пояснила женщина. – Спасу от ребятишек этих нету.
Нина молча кивнула, приземляясь на покрывало. Она уже пожалела, что решила пойти к реке. Она разглядывала профиль попадьи, вспоминая ее у костра в первую ночь: деловитая, толстая, активная. Кажется, Варвара. Варвара-как-ее-там. С огромным выводком детей и полным отсутствием такта.
– Правда, хорошо, когда в доме ребятня. Сейчас это редкость, – вдруг сказала попадья, поворачиваясь к ней и глядя на живот. – В первый раз у реки?
Нина растерялась от резкой смены темы.
– В первый. Давно хотела сходить, – ответила она, испытывая жгучее желание уйти. Вернуться в дом и снова смотреть в выключенный телевизор.
Но Варвара оказалась женщиной хваткой, выудила из бездонной сумки яблоко и протянула Нине.
– Держите, наше, с церковного сада, – сказала она.
Нина взяла яблоко, не найдя причины отказаться.
– А где ваш муж? – спросила попадья.
– Работает. Ему нельзя надолго уходить.
– Ах, верно, прошлый таким же был.
– Прошлый?
– Да, тот, что до Федора был. Дмитрий. Он у нас три года прожил, – попадья задумалась, будто вспоминая.
– А почему уехал? – спросила Нина.
– Жизнь по-всякому поворачивает, пути Господни неисповедимы, – неопределенно отозвалась попадья, и ее лицо как-то скуксилось. – Бог слушает того, кто сам слушает Бога.
Нина поджала губы, ничего не говоря. Серебрилась река, резвились дети, а ей казалось, будто ее Бог не слушает.
– А теперь вы вот тут. Остаться не хотите? – попадья улыбнулась, и от этого ее лицо будто состарилось, словно не привыкло к этому выражению.
Нина стиснула яблоко, глядя на ее широкую улыбку.
– Да мы как-то еще не думали…
– У нас тут хорошо. Тихо-мирно… Вадик, куда поплыл! – громкий рев снова заставил Нину вздрогнуть.
Голоса у тропы к деревне привлекли ее внимание.
Она повернулась в ту сторону, и вместе с ней будто повернулся весь пляж. На берегу показались мужчины, того, кто шел впереди, она узнала – Григорий. Одетый в одни спортивные штаны, он скинул шлепанцы, стянул штаны по пути к воде и щучкой нырнул с когтистого берега. Его поджарое сильное тело пролетело по воздуху и рухнуло в реку с громким плеском. Дети завизжали громче, восторженнее:
– Гриша! Гриша пришел! Гриша, давай бомбочку!
Нина увидела, как из воды – в добрых трех метрах – вынырнула темная голова. Григорий выпустил фонтанчик воды и встал на ноги на мелководье. Мальчишки тут же облепили его со всех сторон, цепляясь за плечи и шею.
– Эй, потише! – рассмеялся он, подхватывая одного мальчика поперек скользкого туловища.
– Гриша!
– Закончил, значит, – вдруг сказала попадья рядом с Ниной, и та отвлеклась от бисерных капель на широких плечах Григория.
Нина перевела взгляд на нее и увидела, что лицо снова сморщилось, улыбка пропала.
– Закончил медведя? – спросила Нина.
– Ага, языческого этого… идола, – выплюнула попадья, будто это было оскорблением. – Язычники, принося жертвы, приносят бесам, а не Богу [2], – она забормотала тише что-то, похожее на молитву.
Нина промолчала.
– Господь – царь навеки, навсегда…
Мышцы Григория на солнце казались медовыми, будто отлитыми из бронзы. Острые черты лица сгладились, улыбка притаилась в бороде.
– Бомбочку! Бомбочку!
Григорий подкинул мальчишку в воздух, и тот с веселым визгом полетел в воду.
– Вадик, – попадья поджала губы, прекратив бормотания. – Ох, получит у меня. Всем мозги задурил.
– Григорий не местный? – спросила вдруг Нина, отводя взгляд от мощной фигуры в воде.
– Отчего ж, местный, – тут же переключилась попадья. – Папаша его охотником был, мамка его, сколько себя помню, здесь жила. Отец его уважаемый человек был. Гришка еще мальчишкой с ним ходил в лес, а потом как перемкнуло, и с тех пор вот. – Она махнула рукой. Видимо, «вот» относилось к медведю. – Заладил одно и то же.
– А отец Петр с ним разговаривал? – с любопытством спросила Нина.
– Что с ним говорить, как об стенку горох. Ему одно – а он все свое. – Попадья поднялась с места, зорко глядя на Вадика, что сидел на шее у Григория. – Пойду уши надеру мелкому… – Она грузно двинулась вперед, проседая в песок как верблюд: ее бока колыхались, словно горбы, а массивные ноги проваливались и тяжело поднимались.
Нина наблюдала, как попадья приблизилась к берегу, как звонко взвизгнул Вадик, падая в реку, а потом хлебнул воды и закашлялся, смешно махая руками. Григорий подхватил его под мышку и побрел к берегу. Дети плыли за ним, хватая за кожу. Григорий перевернул Вадика и поставил перед попадьей. Та схватила его за ухо, потянув за собой. Нина даже издалека слышала, как та шипит сквозь зубы:
– Я тебе что говорила? Не якшаться с ним! Уже и губы синие, все, выходишь и, пока не высохнешь, не зайдешь.
– Ну, мам! – жалобно возмущался Вадик. – Ухо! Ухо отпусти! Ну, мам! Я же просто!
– Все у тебя просто. Все всегда просто…
Нина посмотрела за их спину: Григорий будто не слышал этого шипения, о чем-то разговаривая с детьми. Он расхохотался – громко, мощно, во всю силу легких, – и Нина вздрогнула, когда темные глаза уставились на нее. Григорий улыбнулся и махнул ей рукой.
Нина стиснула юбку, подавляя желание помахать в ответ.
Нина вернулась домой, тяжело поднимаясь по склону. Живот мешал, колени прилипали к его низу, жара преследовала ее, хотя самый пик дня уже прошел. Она так и не искупалась. Григорий ушел сразу же после своего единственного заплыва, попадья еще долго отчитывала Вадика, заставляя и мальчишку, и Нину сидеть с самым унылым видом. Затем Нина принялась за «Преступление и наказание», и Вадик остался скучать один.
Как выяснилось, у местного священника пятеро детей и Вадим самый младший, школьник двенадцати лет, родившийся уже в эпоху заката попадьевской жизни. Худенький, бойкий мальчик был на десять лет младше своих братьев и сестер, а потому получал всю безраздельную заботу Варвары. Он долго разглядывал Нину, ее большой живот и платье в цветочек, а потом безучастно спросил:
– Мальчик или девочка?
Нина не знала. Она намеренно не узнавала пол, а потому пожала плечами.
– Если мальчик будет, назовете Вадиком? – спросил он без особой надежды.
– Может быть, – ответила Нина.
– Назовите, пусть даже узкоглазый будет, все равно пойдет.
– Вадик! – рявкнула попадья так, что Вадик тут же вжал голову в плечи. – Ты что такое говоришь!
– Извините, – быстро бросил он и вскочил на ноги. Песок взметнулся, падая на страницу Достоевского. – Я высох, теперь могу купаться?
– Пошел отсюда! – попадья замахнулась полотенцем и повернулась к Нине: – Вы простите его, язык как помело. Он не хотел вас обидеть.
Нина сдержанно кивнула. Может, и не хотел. Дети впитывают то, что слышат от взрослых.
– Отец ваш Небесный даст блага просящим у него [3], – сказала Варвара на прощание, снова давая ей яблоко – будто в знак извинения за слова Вадика.
Федя суетился по дому, и, когда Нина зашла, он вихрем пронесся мимо нее со своей тетрадью:
– Привет-привет!
Нина пропустила его, поставила пляжную сумку и посмотрела в сторону кухни. Электричества так и не было.
– Приходил Иван Борисович, – крикнул Федя с улицы. – Сказал, что генератора сегодня не будет, людей из города тоже не ждать. Пятница все-таки. Не раньше понедельника все будет.
– И что делать? – спросила Нина, выходя на крыльцо. Федя поднял глаза от расчетов.
– Иван Борисович предложил переночевать у тех, у кого есть генератор. Или… – Он замялся.
– Или? – подняла брови Нина.
– Или готовить в печи, – закончил Федя.
Нина оглянулась: в углу кухни стояла дровяная закопченная печь, которую они ни разу не топили. Потому что ни Нина, ни Федя не знали, как делать это правильно. С электричеством в доме было проще: и обогреватель, и плитка, все работало на нем. Воду для рукомойника Федя набирал в колодце каждое утро, а небольшая баня на участке использовалась ими как душевая. Нина снова вздохнула. Мало ей деревянного туалета на улице, теперь еще и печь.
Ее равнодушное лицо заставило Федю нахмуриться.
– Я спрошу, у кого есть генератор. Ты беременна, будет нехорошо, если дым от печи пойдет не туда. Может, все-таки кто-то одолжит на день.
Он подошел к ней и протянул руку, мягко поглаживая по выступающему животу. Она опустила глаза на его горячую руку. У Феди всегда были слишком теплые руки, почти потные.
– Там у нас творог и сметана, поешь пока. – Он убрал руку и перехватил блокнот. – Я спущусь в деревню.
Староста сказал, что генератор никто не даст. Федя этого ожидал – жители казались дружелюбными, но совсем не доброжелательными. Иван Борисович извиняющимся голосом добавил, что генераторы всего у трех жителей, а остальные на печи так и готовят. Он предложил отправить кого-нибудь растопить печь. Федя несколько мгновений сомневался, но вспомнив лицо Нины, согласно кивнул.
Когда он вернулся домой и сообщил об этом Нине, та лишь угукнула в ответ. Она всегда оставляла за ним принятие всех решений – малых и больших, будто сама ничего не могла, хотя, скорее, не хотела. Федя от этого нервничал, переживал еще больше и суетился. Он тут же развел бурную деятельность: натаскал воды, почесал голову, разглядывая пустой дровник, нашел покрытый ржавчиной топор и вернулся в дом. Нина все сидела на том же месте – в кресле напротив телевизора, забравшись на него с ногами. День клонился к вечеру, и ее длинная круглая тень вытягивалась от окошка, подползая к двери. Федя со звоном поставил топор у проема. Нина подняла голову.
– Нам бы еще свечей, – сказал он, и Нина покорно кивнула. Это означало, что Федя волен искать свечи, а волен оставить это дело.
Раздался громкий стук в дверь. На пороге оказался Григорий, держащий за спиной вязанку дров.
– Здорово, соседи, – хмыкнул он, проходя внутрь без приглашения.
– Вас Иван Борисович послал? – спросил Федя, идя за ним так, будто это он гость. Григорий стянул вязанку и грохнул ее о деревянный пол.
– Вестимо, – согласился мужчина. Он осмотрел дом хозяйским взглядом и уставился на Нину в кресле. Феде захотелось инстинктивно встать между ними, закрыть ее от темных глаз, но Григорий уже перевел взгляд на Федю: – Где печь?
– Здравствуйте, – вежливо сказала Нина.
– Спасибо вам большое, мы сами бы не сумели, – забормотал Федя, махая рукой в сторону кухни. – Вон там, вон там.
Григорий хмыкнул и больше ничего не сказал. Он прошел на кухню, присел на низкий табурет и взялся за работу: взяв ржавый топор, он ловко разрубил поленце на щепы на железной плите и принялся растапливать печь. Время от времени он что-то бормотал себе под нос, вставал, обходя печь со всех сторон, и даже бесцеремонно зашел в спальню, куда стеной примыкала печь. Простучав кирпичи, он сделал какой-то вывод и вернулся к табурету. Федя, сложив руки на груди, наблюдал за ним.
– Ловко у вас выходит, – сказал он, разрушая тишину.
– Я с деревом на «ты», – сказал Григорий, прикусывая одну щеку зубами. – Это вы, городские, в деревне как телята. Без электричества померли бы, – он хохотнул, будто довольный своей шуткой. – Горло промочить есть чем?
– Нет, мы не пьем, – отозвался Федя, мечтая, чтобы печь скорее растопилась, либо электричество магическим образом включили. Даже сидя на низком табурете, Григорий казался выше и мощнее его. В разрезе его рубашки спутанная цепочка тряслась, и Иисус тоже трясся от его смеха.
– Да воды б хоть, – ухмыльнулся он.
– Держите, – бледная рука вытянулась сбоку от Феди, протягивая кружку.
Федя обернулся – он и не заметил, как подошла Нина.
– Темно стало, – она поежилась, будто поясняя свои действия.
Григорий принял кружку, опрокинул в себя воду и сказал:
– Сейчас зато тепло будет.
Федя стоял неподвижно в дверях, глядя на широкую спину Григория. Весело трещала печь, и с кухни потянуло жаром и дымом, задувая ему в лицо. Федя не мог дышать, но все равно вдыхал запах гари, дерева и разогретого железа, не отрывая взгляда от ярко-оранжевых языков пламени, что плясали по плечам Григория.
– Готово, – мужчина хлопнул себя по коленям и поднялся. – Подбрасывай, как наполовину прогорит, а то затухнет. Поддувало широко не открывай, не то прогорит быстро. Запомнил?
Федя кивнул и протянул руку:
– Спасибо большое.
Григорий всего мгновение смотрел на его ладонь, а потом крепко пожал ее с ухмылкой.
– Бывайте, соседи. Двери запирайте, а то пора такая, что медведь себе невесту ищет.
Его большая фигура протиснулась в двери и растворилась в вечернем сумраке. Федя обернулся на Нину: она уже была замужем, и никакой медведь ее не отнимет. Никакой – ни настоящий, ни выдуманный.
5 июля. Часть I
Электричества не было и на следующий день. Нина поняла это, когда проснулась без привычного жужжания холодильника. Федя рядом сопел, уткнувшись лицом в подушку. Звенящая тишина дома давила на уши.
Затем она ощутила толчок в живот. Маленький незнакомец пинался, приветствуя будущую мать. Нина поморщилась от боли и легла на спину. Живот возвышался под одеялом, будто она зачем-то спрятала там воздушный шар. Вот во что она сейчас превратилась: в неуклюжий круглый шар. Федя что-то пробормотал под нос и повернулся на другой бок. Из его приоткрытого рта донесся храп.
Нина подумала о том, что, по статистике, люди глотают до четырех пауков в год во время сна. Ей вдруг стало так противно, что она резко сбросила одеяло и села.
Звенящая тишина сбежала прочь, стоило ей встать. За окном послышалось щебетание птиц, низкое стрекотание кузнечиков, шелест травы. Нина всунула ноги в тапки и пошла на кухню.
Печь давно остыла: серый пепел высыпался на пол, будто сизые слезы дерева, сожженные в пламени. Кочерга одиноко валялась на полу рядом с маленьким табуретом. Нина вдруг вспомнила, как вчера на нем сидел Григорий – такой огромный и широкий, что табурет под ним исчезал, и он словно сидел на корточках, заполняя собой всю кухоньку.
Нина моргнула и потянулась к плитке, чтобы зажечь ее. Лампочка презрительно темнела. Нина подошла к холодильнику и распахнула его. На нее пахнуло затхлостью и тухлой водой, как всегда пахнет из старых забытых холодильников. Под ним обнаружилась лужа воды.
– Еще не включили? – голос за спиной заставил Нину подпрыгнуть. Она больно ударилась пальцем о край холодильника и зашипела.
– Боже, – выдавила она, поднимая ногу и потирая ушибленный палец. – Чего подкрадываешься?
Федя, в майке и трусах, виновато застыл в дверях: такой тощий и несуразный, что Нину взяла злость.
– Я не… извини, больно ударилась? – заботливо спросил он, протягивая руку к ней.
Нина хотела отдернуть локоть, но потом глубоко вздохнула, и злость провалилась куда-то в желудок, должно быть, прижатый ребенком к позвоночнику. Ладонь Феди легла на ее кожу, и она покрылась мурашками.
– Нет, все в порядке. – Нина тяжело уселась на стул с помощью Феди и посмотрела на открытый холодильник. – Еще не включили. У нас что-то испортилось, – сухо сказала она.
Некогда полные льда, недра чудовища таращились на нее, истекая водой, будто кровью. Словно холодильник умирал. От этого сравнения Нину замутило, и она пошарила глазами по кухне, лихорадочно ища какую-то емкость.
– Что такое? Что? – засуетился Федя. – Плохо? Нина, что с тобой?
Нина помахала рукой перед лицом, и удушливый жар отступил.
– Налей мне воды, пожалуйста, – попросила она.
Федя тут же бросился к канистре с водой, плеснул немного в чашку, держа ее дрожащими руками, а затем поднес ей. Нина сделала глоток, прогоняя тошноту. У нее уже давно не было токсикоза, и она надеялась, что этот кошмар закончился. Но на смену ему пришли толчки.
– Почему так рано проснулась? – осторожно спросил Федя, садясь рядом и поглядывая на нее с такой опаской, словно она могла сейчас же взорваться – или превратиться в злобного зверя, который растерзает его на куски. Словно ее следовало бояться.
Раньше Нина этого не замечала – этой его осторожности. Наверное, она развилась после того происшествия, после беременности, после всего, что с ними произошло. Нине было неинтересно, чего он боится.
– Пинается, – сказала она, даже не пытаясь скрыть недовольство в голосе. – Спать не дает.
– Больно? – спросил он, хотя уже протянул руку к ее животу, чтобы потрогать – почувствовать толчок.
Нина в который раз подумала, что Федя ждет этого ребенка больше, чем она сама. А она была даже не уверена, что в калейдоскопе ее чувств есть ожидание.
– Нет, просто неприятно, – смягчилась она, когда его теплые пальцы легли на ткань ночнушки. – Какой-то жаворонок родится.
Федя усмехнулся, подслеповато глядя на нее без очков. Его карие, напоминавшие два полумесяца глаза становились похожими на ниточки, когда он улыбался, и в их уголках собирались такие же ниточки-морщинки. Он выглядел красиво, когда улыбался. Когда не скалился, не пытался понравиться.
Когда-то Нине нравилось смотреть на его улыбку.
– Если сегодня не вернут, лучше пожить у соседей, – вдруг сказала она.
Федя моргнул, улыбка дрогнула и сдулась, как воздушный шарик, в который всадили тонкую иголку.
– Да, конечно. Ты права.
Он поднялся и подошел к холодильнику, принимаясь выгружать из него продукты. Нина сидела и смотрела, как суетой Федя пытается заглушить свою тревогу, и хотя она это отчетливо понимала, в ее груди растекалось какое-то странное самодовольство – которое усиливалось, когда она смотрела на маленькую табуретку.
– Осталась колбаса, хлеб, масло подтаяло, но вроде еще не пропало, а вот молоко скисло. Вафли еще, – сказала Нина, перебирая продукты на столе. – Яйца есть, но плитка не работает.
– Бутерброды? – спросил он.
Нина равнодушно кивнула, поглаживая живот. Этот живот всегда притягивал его взгляд, как только начал расти, а теперь Федя и вовсе не мог отвести от него глаз. Он знал, что жене это не нравится, но ничего не мог с собой поделать. Там росла маленькая жизнь – его кровь.
Они позавтракали бутербродами, а затем Федя ушел снимать показания приборов. Нина смотрела в мертвый экран телевизора, слыша, как тихонько шелестят занавески на открытых окнах. Это напоминало шипение белого шума, и она медленно погружалась в транс. С тех пор как они приехали сюда, она все время как будто находилась в дреме – непрекращающемся тягучем и очень скучном сне, из которого она не могла вырваться: то ли кошмар, то ли просто видение.











