Читать онлайн Что я помню
- Автор: Вген Форестовски
- Жанр: Современная русская литература
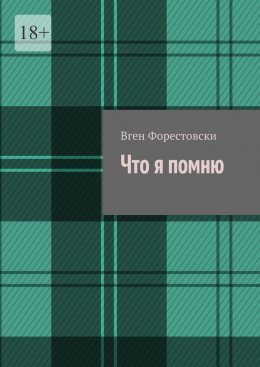
© Вген Форестовски, 2025
ISBN 978-5-0068-0467-8
Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero
Вген Форестовски
Что я помню
- повесть
- Публикуется в сокращении. Некоторые собственные имена и названия намеренно изменены.
Если бы я всё назвал, чем я располагаю,
да вы бы рыдали здесь!
В. С. Черномырдин
Обращение к читателю
Наверно, нет ни одного человека, который бы не задумывался над вопросами собственного бытия. Нет, нет, я не о том, о чём вы сейчас, вероятнее всего, подумали. Глобальные проблемы смысла жизни всерьёз меня никогда не интересовали. Всегда считал их пафосными, провокационными и пошлыми. К чему выдумывать и ставить вопросы, на которые не бывает ответа. А то, что же получается? Не спросив моего разрешения, меня зачем-то произвели на свет, и теперь я же должен мучиться вопросами собственного предназначения? Я имел в виду всего лишь наше отношение к прожитой нами жизни. Что же касается её высокого смысла, по-моему, лучше всех на этот философский вопрос ответил Бурратино. Помните диалог из сказки?
– А для чего же тебя выстругали?
– На радость людям!
Ну, не красавчик?
С возрастом мы всё чаще мысленно возвращаемся к своему прошлому. Оцениваем совершённые нами поступки, о чём-то сожалеем, грустим, ностальгируем. С чего всё началось? Где оно, самое первое, самое раннее воспоминание, та точка отсчёта, до которой вообще возможно добраться, спустившись в самую бездну своего сознания?
Люди, которые говорят, что они ничего не помнят лет до семи, вызывают у меня смешанные чувства. Что-то среднее между недоверием и жалостью. Что значит «не помню»? Это же не включённый утюг, а годы вашей сознательной жизни. Каким же скучным, серым и однообразным должно быть у ребёнка детство, чтобы он ничего из него не запомнил!? Вся наша жизнь состоит из воспоминаний, человек не может существовать без памяти о прошлом, она гораздо важнее планов на будущее, ведь наши воспоминания это наши знания и опыт. Отталкиваясь от них, мы делаем свой выбор и принимаем все важные решения. Можно сколько угодно читать, или слушать рассказы опытных людей о том, как правильно соединять контакты в высоковольтных электроцепях, что в стужу нужно тепло одеваться или, что лучше не нарываться на неприятности там, где без них можно обойтись, но только когда нас хорошенько шибанёт электротоком, когда мы однажды, по собственной глупости обморозим уши, или наживём другие неприятности, только после этого мы начинаем делать всё так, как надо. Нам очень важен именно собственный опыт, мы доверяем ему гораздо больше, чем чьим-то советам или книгам, написанным другими людьми.
Как оказалось, тема поиска первых воспоминаний весьма популярна. Сотни людей задают себе те же вопросы, пытаясь вспомнить хоть что-нибудь о начале своих мироощущений, так что в этом жанре я далеко не первопроходец. Меня огорчило лишь то, что прочтение чужих воспоминаний оказалось довольно-таки скучным занятием, они не будили во мне личные переживания. Очень жаль но, вероятнее всего то, что я предлагаю читателям, будет так же не слишком интересным для людей, не участвовавших в описываемых событиях по тем же самым причинам.
Когда я рассказывал своим друзьям и знакомым о моём литературном опыте, их первая реакция была вполне предсказуема: «Ха, ты чё, писатель, что-ли?», или: «О-о-о! Да ты у нас за мемуары засел!» Причём, чем более интеллигенты и образованы были эти люди, тем более саркастична и язвительна была их усмешка. Народ, что называется, попроще, первым делом интересовался, где можно почитать то, о чём я говорю.
Любой мало-мальски грамотный человек в определённый период своей жизни в состоянии критически осмыслить прошлое и написать книжку, основанную на личном опыте и восприятии пережитого. Не для издания с целью продажи её тиража, или выставления на всеобщее обозрение в интернете. Вероятность любых публикаций в данном случае совершенно вторична. В конце-концов, я же не Юрий Гагарин, чтобы всем нравиться. Даже если у этой книги будет всего один читатель, – тот, кому ты по настоящему дорог, или искренне интересен, она стоила потрачен- ных сил, времени и средств.
Не люблю слово «мемуары». У меня оно ассоциируется с дорогим коньяком, креслом – качалкой и генеральскими бурками. Я всего лишь попытался собрать хронологическую цепь из наиболее запомнившихся событий собственной жизни. Решил написать правду о том, что меня вело, что сопровождало, к чему пришёл. Я просто поделился фактами. В отличие от воспоми- наний сильных мира сего, отшлифованных перьями литератур- ных негров, простое описание жизни обычного человека, несомненно, ближе такому же рядовому читателю. Здесь вас не будут мучить глобальными проблемами, вы не станете чувствовать себя песчинкой мироздания и вам уж точно не придётся завидовать автору. Вспомните, сколько раз вы заворожённо слушали рассказы своих ничем, на первый взгляд, не примечательных случайных собеседников, оказавшись с ними наедине. В купе поезда, в больничной палате, в армейском наряде за совместной чисткой картошки… Люди из обычной жизни нам более понятны, мы легко ставим себя на их место, когда речь идёт о чём-то приятном, и облегчённо вздыхаем, если проблемы рассказчика не коснулись нас и наших близких.
Данная повесть, по крайней мере в том виде, в котором она представлена здесь, не может быть опубликована для широкого читателя. Слишком очевидны последствия. У меня нет никакой уверенности в том, что кто—то оценит мой труд, не говоря уже о каком—то глубоком понимании и осмыслении чужой жизни сторонними людьми. Не рекомендовал бы читать эту книжку юношам и девушкам, находящимся в максималистско-юном возрасте, я ориентируюсь на взрослого читателя, прожившего бoльшую часть своей жизни и познавшего то, что приходится познать человеку к пятидесяти и более годам. К этому возрасту люди, как правило, имеют достаточные познания о добре и зле, имеют представление о семье, отношениях между мужчинами и женщинами вне брака, имеют вполне подросших детей, многие проходят через разводы, теряют близких. Обычно, в зрелом возрасте люди становятся более прагматичными. Они уже не склонны огульно навешивать ярлыки, или осуждать других за неблаговидные поступки, поскольку сами много раз совершали их в своей жизни. Определённо, это книга для них.
Представьте, что вас снимают несколько камер одновременно. Какие—то ракурсы будут более удачны, какие—то менее, но всё-равно это будете вы. Неправда начинается там, где есть фотошоп. Вот этого самого «фотошопа» я, как мог, старался избежать в своём изложении событий. Возможно, отдельные факты были освещены с неожиданной, или неприглядной с точки зрения читателя стороны, однако мной они воспринимались именно так, и не иначе. К сожалению, после 50-ти, люди на 3/4 состоят из собственного негативного опыта, при этом они довольно сильно фонят своей отрицательной энергией, и с этим ничего не поделаешь.
У данного текста не было редакторов, я записал его, как сумел, поэтому заранее прошу простить меня за мою орфографическую самобытность, тем более, что на литературные достижения я вовсе не претендую. Не стоит так же обращать внимание на мелкие и не принципиальные неточности, ведь я не создавал исторически- беспристрастный документ. Как любой человек, я бываю подвержен эмоциям и так же, как и вы, уважаемый читатель, могу в чём—то искренне заблуждаться. Я прекрасно отдаю себе отчёт в том, что написанное – графомания в её классическом виде, но мне очень хотелось зафиксировать как можно больше событий и фактов, которые никто кроме меня не знает, не помнит, или не расскажет. Я был бы счастлив найти подобную рукопись, написанную рукой отца, мамы, бабушек и дедушек. Хранил бы её, перечитывал, пытался понять. Может быть, и у моих потомков когда-нибудь возникнет подобное желание. И, последнее, для особо чувствительных. В тексте вам повстречается несколько нецензурных слов, употреблённых мной исключительно в виде цитат. Александр Сергеевич писал, что не бывает плохих и хороших слов, бывают слова уместные и неуместные. По мнению автора, использованные цитаты в имеющемся контексте были совершенно незаменимы.
Выражаю благодарность всем, кто так, или иначе участвовал в моей судьбе, повлияв на мою жизнь и на моё мировоззрение. Так же прошу иметь в виду, что основной текст данной повести написан в 2010-м году и охватывает период от моих первых детских воспоминаний до начала текущего тысячелетия. Вот, пожалуй, и всё моё напутствие. Приводите спинки ваших кресел в вертикаль- ное положение, усаживайтесь поудобнее и, как писала известная афористка, «Не забывайте, ваше мнение обо мне на вашей совести.»
Отсчёт времени (первые воспоминания)
Каждый раз, когда очередной кадровый работник давал мне чистый лист бумаги и ручку для написания автобиографии, я терялся и несколько минут сидел за столом в полной прострации, не зная, с чего начать. Автобиография может рассказать о человеке гораздо больше, чем любые характеристики, сведения о поощрении и приказы о наказаниях. Опытный глаз быстро выведет вас на чистую воду, составив объективное впечатление о ваших профессиональных, деловых, личных и моральных качествах. Когда соискатель, указавший наличие у себя одного, или нескольких высших образований пишет: «Мне нравиться», согласитесь, невольно закрадываются некоторые сомнения в его компетентности, и профессиональной пригодности. Автобиография может быть формально-небрежной, или наоборот, излишне подробной, но по тому, какие события в своей жизни человек считает главными, какие второстепенными, а какие вовсе не заслуживающими внимания, можно довольно точно воссоздать его психологический и социальный портрет.
Беседуя с работодателями, я всегда чувствую некое психоло- гическое противостояние, как на допросе у следователя, – не взболтнуть лишнего, не забыть о главном… Хочется обратить гнетущий официоз в шутку, завернув что-нибудь в стиле главного героя советского фильма «Курьер», но строгие кадровики вряд ли оценили бы подобный юмор, как не оценили шутку моего приятеля на собеседовании в службу безопасности местного коммерческого банка. Широко улыбнувшись, парень развернул стул спинкой вперёд, и, усевшись на него, как на коня, весело представился: «Здравствуйте! Меня зовут Дмитрий, и я – алкоголик!» Кажется, на том собеседование и закончилось. С чего же мне начать рассказ о себе?
Мама сохранила клеёнчатую бирочку из роддома, которая болталась у меня на руке в первые дни моей жизни. Из надписи, сделанной голубыми чернилами, следовало, что я появился на свет в родильном доме №3 Железнодорожного района города Красноярска. Под трёхзначным номером были указаны фамилия, вес, рост и пол новорождённого. Внизу стояла подпись медработника, принявшего роды, дата и время, – «3 апреля 1965 г., 13 ч. 14 мин.»
В тот день была обычная для начала весны погода: +6, без осадков, дул едва заметный западный ветерок. К полудню лёд, подёрнувший за ночь серые городские лужи растаял, проснулись и зажурчали сверкающие в лучах слепящего солнца ручейки, громко, наперебой друг-другу загалдели прилетевшие с юга перелётные птицы, и жизнь вошла своё привычное русло. Я никогда не любил это время года. До настоящего тепла и первых клейких зелёных листьев на деревьях в наших местах оставалось ещё, как минимум, пять, или шесть недель.
Мама вспоминала, как за день до моих родов в отделении, где она находилась, родился ребёнок с огромным багровым родимым пятном в пол-лица, после чего все будущие роженицы с замиранием сердца ожидали своей участи. К счастью, я появился в назначенный срок, здоровым, кудрявым, светловолосым мальчиком, без каких—либо патологий, инфекций и других соматических проблем. Роды прошли легко, и уже на третий день, во вторник, шестого числа, нас выписали домой.
Меня никогда всерьёз не интересовали ни астрология, ни гороскопы, но однажды, зайдя на некий сомнительно-оккультный сайт, я поинтересовался, кто из известных людей родился в день третьего апреля. Ими оказались наследник Британской короны, принц Уильям, советский силач, Валентин Дикуль, актёры: Алек Болдуин, Эдди Мёрфи, Джуд Лоу, Марлон Брандо, Джоди Фостер. В этот день родились бывший канцлер Германии, Гельмут Колль, светская львица, Пэрис Хилтон, и множество персонажей, чьи фамилии основной массе людей, включая меня, не слишком, или совсем не известны. Среди них четырнадцать композиторов, восемь министров, тридцать пять писателей, девять поэтов, кардинал, пара принцесс и одиннадцать (?!) шахматистов.
3 апреля 1965 года родились всего два известных википедии человека: актриса Энджела Фезерстоун и японский режиссёр, по имени Ацуси Такэути. Недавно я с удивлением обнаружил, что в городе Владивостоке живёт мой тёзка, родившийся так же, 3 апреля, правда, 1967г., имеющий такие же, как у меня имя, фамилию, и даже аналогичное профессиональное образование. Правда, есть одно «но». Носимая мной фамилия не является исконной для нашей семьи. Она пристала к нам в пятидесятых годах прошлого века, и мы с ней смирились. Рассказывали, что в раннем детстве я несколько раз болел воспалением лёгких, лежал в стационарах, где приходилось принимать массу неприятных и болезненных процедур. Я этого не помню.
Припоминаю, как бабушка водила меня в детскую поликлинику на Яковлева 27. Это медицинское учреждение и сейчас на своём месте. Уверен, посетив его спустя пол-века, я покажу вам помещения, где мне приходилось бывать, и даже опишу их былую обстановку. В кабинете участкового педиатра, у входа, на невысокой деревянной тумбе стояли массивные чугунные весы с изогнутым стальным лотком для взвешивания младенцев. Каждый раз, когда я видел этот многократно покрашенный белой масляной краской измерительный прибор, мне очень хотелось поиграть его подвижными блестящими гирьками на двух плоских шкалах из толстой хромированной стали.
Хозяйка кабинета, доктор Савушкина, миловидная улыбчивая блондинка лет двадцати семи в тонких очёчках с четырёхугольными стёклами без рамки, послушав мои лёгкие с помощью своей слушалки-фонендоскопа, делала какие-то записи в моей медицинской карте. В процедурной, расположенной в правом торце клиники, делали уколы. Я обречённо ложился голым животом на стоящую за ширмой холодную дерматиновую кушетку, накрытую белой простерилизо- ванной тканью, после чего дежурная медсестра вводила тупой многоразовой иглой в мою сжавшуюся от страха ягодицу болючий антибиотик, или какой-нибудь витамин.
Годам к трём необходимость в уколах отпала. В следующий раз внутримышечные инъекции потребовались мне через семнадцать лет, в военном госпитале. Я лёг на такую же, как в детской поликлинике, кушетку и непроизвольно напрягся в ожидании боли. Повернувшийся ко мне с набранным шприцем военный фельдшер потерял дар речи, увидев лежащего перед ним двадцатилетнего бойца со спущенными штанами…
Не помню боль своего первого вдоха, первые погремушки, первые купания и первые прогулки. Помню лишь рыжую кондовую коляску с фанерным каркасом.. Она потом долго стояла никому не нужная, в стайке. Помню стеклянную бутылочку с мерными делениями и тёмно-красной резиновой соской, из которой я когда-то потягивал сладкий кефир. Года в четыре я увидел её среди хлама на чердаке нашего дома, и вспомнил тот желанный и забытый вкус. Пустая пыльная бутылка с рваной соской. Я ходил с ней за мамой и бабушкой, упрашивая их наполнить ёмкость таким же сладким и тёплым кефиром, каким он остался в моих ранних воспоминаниях. Взрослые лишь посмеялись надо мной. Может быть, это была первая в моей жизни ностальгия?
Воспоминания не текут, как полноводная река, они прерывисты и неравномерны. Какие—то отрезки жизни в памяти совершенно невосполнимы, иные эпизоды напротив, как ни старайся, забыть невозможно. Я помню до мельчайших подробностей некоторые картины из детства, но могу запамятовать, куда минуту назад положил мобильник, или связку ключей. В моей жизни случались отдельные периоды, исчисляемые годами, все воспоминания о которых умещаются всего в нескольких общих фразах и паре десятков стоп-кадров, хранящихся в мозгу. Меня всегда ставил в тупик вопрос киношного следователя: «Что вы делали такого-то числа между четырнадцатью и пятнадцатью часами и, пожалуйста, по минутам!» Пожалуй, даже попав ненароком под какое-нибудь нелепое подозрение, я навряд ли смогу обеспечить себе стройное алиби. Ни за что не вспомню, чем я занимался в это же самое время даже один день назад, но какие—то совсем не примечательные события, происшедшие со мной в очень раннем возрасте, по сей день стоят перед глазами, как фрагменты недавно просмотренного кинофильма. Хотите пример?
…Жёлто-рыжая осень. Вечер. Прохладно. Недавно прошёл дождь. Мне около трёх лет, сидя на корточках, играю один в огороде нашего частного дома. На мне короткое серое клетчатое девчачье расклешённое пальтишко (донашивал за старшей сестрой) и смешная драповая шапка типа «пилот» с застёгнутыми на пуговицу ушами. Рядом, в известной позе огородника, ковыряется в грядках мама. Повернувшись, она показывает мне дождевого червяка, извивающегося на её ладони. Я с интересом беру его в руки, рассматриваю и играю с ним, присыпая червя влажной землёй. Живое существо быстро находит выход на поверхность. Меня это забавляет. Даю ему имя. Понаблюдав за нами и, очевидно, желая меня удивить, мама говорит: «Смотри, Женя!», и разрубает червяка тяпкой. Обе половинки живут, извиваясь на влажной земле, но мне всё-равно его жалко. Я не верил, что ему не больно. Да и сейчас не верю.
Куйбышева 79
Наши первые воспоминания всегда связаны с очень конкретной географической точкой, расположенной в том, или ином населённом пункте, на определённой улице, на территории всего в несколько десятков квадратных метров. Дом под номером семьдесят девять, куда меня принесли из роддома и где я прожил свои первые годы, находился на улице Куйбышева. Сегодня не составит большого труда узнать точные координаты любого места на карте планеты с точностью до одного метра.
56° 02832005563505 мин. северной широты,
92° 82966613769531 мин. восточной долготы.
Где—то там находится та самая точка отсчёта времени. Времени, с которого я себя помню.
Район, где я прожил первые годы своей жизни, был основан в позапрошлом веке. Его и сегодня называют «Николаевка». Когда—то рабочий посёлок железнодорожников «Николаевская слобода» именованный в память визита в Красноярск молодого Цесаревича и будущего самодержца, теперь – захолустный частный сектор в двух шагах от делового центра города. Изначально наша улица называлась «Нижневокзальная», затем «Вокзальный переулок», наконец, в 1936-м году, её окончательно переименовали в улицу Куйбышева, в честь скончавшегося за год до того советского и партийного деятеля. На момент написания данных строк со времён Государя Императора на «Куйбышева» мало что изменилось. Стоят те же одноэтажные срубы, на улице так и не появилось ни современных коттеджей, ни даже приличных заборов. В девяностых, начавшуюся было застройку района современными многоэтажками приостановили, в связи с чем до большинства частных домов ковш экскаватора так и не добрался. Идеальная натура для съёмок сериала по роману Горького «Мать».
Наш дом снесли в середине восьмидесятых. Теперь на его месте нестриженый газон, частные гаражи и второстепенная дорога. Я успел побывать там, когда самого дома уже не было, но вокруг всё ещё валялись сломанные доски, вскрытая ножом бульдозера яма, оставшаяся от нашего подполья, стенная рaбица, остатки штукатурки с голубоватой побелкой, битое оконное стекло и другой бытовой мусор. На своём месте стоял только полусгнивший, чёрный от времени палисадник. Местами на его влажных неокрашенных досках тускло зеленели округлые лепёшки плотного мха. Внутри невысокого забора виднелись свежие пни от спиленных почти вровень с землёй больших тополей, когда—то росших перед окнами дома. Я помню эти деревья. Один из тополей рос в виде латинской буквы «V». Я любил сидеть на месте, где эти деревья срослись между собой, как на коне, обхватив один ствол руками. Когда—то сестра Марина со своей подружкой, смешили меня возле того тополя, устроив маленькое представление. Тогда мне было около четырёх лет, а сестре, соответственно, около одиннадцати. Поставив подругу перед собой, Марина просунула свои руки под её локти, прижатые к её туловищу. Создавалось впечатление, что руки принадлежали не сестре, а впереди стоящей девчушке. Подруга что—то пела, а Марина жестикулировала за неё своими руками. Это было забавно.
Даже не представляю сколько лет было нашему дому и кто в нём проживал до нас. Возможно, это постройка начала прошлого века, а может быть, дом старее, чем я думаю. Наверняка кого-то из прежних жильцов репрессировали в сталинские времена, кто-то уходил оттуда на фронт. В этом доме рождались, женились, выходили замуж и умирали какие-то люди со своими судьбами и своими историями. Старые дома хранят много тайн. Мама рассказывала, как однажды во время уборки на чердаке она нашла под половицей револьвер с россыпью патронов, завёрнутые в старую тряпку. Рассудив по-женски, мама унесла свою находку на Енисей, и забросила её в воду, от греха подальше…
Примечательный факт. После сноса нашего дома произошла его архитектурная реинкарнация. Адрес «Куйбышева-79» передали восемнадцатиэтажному человейнику, построенному в 2016-м году, в сотне метров к югу от его предшественника. Вероятнее всего, наш почтовый адрес просуществует ещё, как минимум, до 3-го тысячелетия. По выходным мы с бабушкой ходили в продуктовый магазин, расположенный неподалёку, в Пороховом переулке, в просторечье, – «Пороховушку». Когда—то в Пороховом переулке (название сохранилось до настоящего времени) был целый комплекс зданий казематной планировки с глухими толстостенными подвалами, где в царские времена располагались пороховые склады. Старики рассказывали, что здание «Пороховушки» в довоенные годы выставляли на продажу под частное жильё, но цена была высокой и никто не решился его купить, боясь показать своё финансовое положение. В советское время в этом здании располагался богатый по тем временам ОРСовский (ведомственный) магазин, принадлежавший Управлению железной дороги. Аббревиатура «ОРС» расшифровывалась, как «Отдел Рабочего Снабжения».
Поначалу в ОРСах отоваривались все желающие, не зависимо от места работы, но со временем в ряде ведомственных магазинов была введена система отпуска дефицита по пропускам. «Пороховушка» имела два входа. Один располагался в центре здания и вёл в продуктовую лавку. Второй вход, с правого торца, вёл в хлебный ларёк в котором всегда имелось множество видов самого разнообразного чая, в том числе развесного и прессованного, из южных республик СССР и дружественных ему стран: Индии, Китая, Монголии, Вьетнама… Такого натурального аромата у чая, находящегося в свободной продаже теперь уже нет. Здесь же продавалась халва, обычно, трёх видов, зефир и другие сладости. В нулевых здание отремонтировали, наскоро закрыв крепкую кирпичную кладку дешёвой облицовочной плиткой и устроили там адвокатскую контору.
Жилые дома, надворные постройки и частные заборы на Куйбышева были не покрашены. От времени и близкого соседства с железной дорогой, они сделались совсем тёмными, и глаз не радовали. Чтобы хоть как-то украсить унылые жилища, жильцы белили кирпичные печные трубы и подкрашивали ставни своих окон в приятные глазу, белый, синий, или зелёный цветa. Под окнами некоторые хозяйки сажали цветы, рябину, или сирень. В огородах выращивали овощи и зелень, ставили теплицы, было всё, как у нас принято, вплоть до мака и подсолнухов. Запомнились цветы со смешными названиями, росшие на грядке: «львиный зев» и «анютины глазки».
В середине 60-х по всей округе активно велись земельно-строительные работы. Помню, как дымила соляркой и лязгала гусеничными трaками техника, копошащаяся неподалёку от нашего дома. Мне нравилось смотреть на то, как работают подъёмные краны, экскаваторы, трактора и бульдозеры, встречавшиеся на пути прогулки по нашему району, особенно, когда при рытье котлованов, их долбили огромной, то падающей, то вновь поднимающейся на толстой стал ной лебёдке кайлой. Такой способ земляных работ уже не применяется, а раньше смотреть на него можно было бесконечно, как на огонь, или воду. Для прогулок трёхлетнему пацану пейзаж – что надо!
Мы с бабушкой часто ходили смотреть на проезжающие автомобили к ограждению бетонного парапета на проспекте «Свободный». Ровно через 45 лет, в августе 2013-го года случилась трагедия. Именно тот парапет, то место возле того самого столба, где мы с бабушкой любили подолгу стоять, обрушилось на проезжавшие внизу машины. Погибли люди.
У нас было две проходные комнаты, в одной из которых жили родители, а в другой, поменьше, мы с сестрой и бабушкой. Вместо дверей комнаты прикрывались занавесками. Стены, печку и потолки мама белила гашёной известью. Сейчас эта, обычная для тех лет, практика уже в прошлом. Люди, помнящие былые времена меня поймут. Свежесть в доме после побелки была особенной, никакие современные технологии не дают ощущения той чистоты и лёгкости дыхания. На полу в прихожей и сенях лежали тканые дорожки, а в комнатах, – ковры из натуральной шерсти, которые, между прочим, дожили до наших дней. В сенях имелось добротное подполье, где хранились овощи и соленья с нашего огорода. Конечно, при этом, приходилось бороться с грызунами. Отец ставил в подполье капканы «двойки». Нередко, сработав, капкан вышибал крысе мозг, или кишки. С тех пор у меня стойкое отвращение и к крысам и к капканам.
Все частные дома в Николаевке имели ставни, и люди не ленились ими пользоваться. В полной темноте переход в состояние сна происходит гораздо быстрее, а сам сон протекает намного спокойней и глубже. Поскольку водопровод в домах отсутствовал, умываться приходилось при помощи рукомойника. Колонка, куда взрослые ходили за водой, находилась в полусотне метров от калитки. Для удобства люди пользовались коромыслами. В нашем доме имелись старинные чугункu и ухваты на длинных ручках. Была даже древняя ручная прялка («самопряха») Примерно так жили все наши соседи независимо от их социального положения, и эта жизнь казалась всем абсолютно нормальной. Ну, подумаешь, неудобства, – нет водопровода с ванной, и туалет в конце огорода. Зато по вечерам уютно трещала печка, взрослые были всегда чем—то заняты, а я мог спокойно покопаться в земле возле стайки, строя сооружения для игр из камешков и щепочек от поленницы.
В большой комнате у стены, справа от входа, стояло чёрное пианино, там же находились стол-книжка производства ГДР, шифоньер, тумба с ламповым радиоприёмником, телевизор «Рубин», диван и несколько венских стульев. Потолок украшала тяжеленная люстра в стиле ампир, вероятно, 30-х годов прошлого века, из толстого матового стекла в виде еловых шишек, на пять плафонов. Думаю, эта люстра вполне могла бы украсить салон второго класса на «Титанике». Запомнился один из вечеров. Я, отец и сестра ждали маму, которая задерживалась, видимо, на работе. Марина играла на пианино, мы пели «Марш Сибирского полка» на стихи Гиляровского и музыку Александрова. Эта песня времён гражданской войны тогда была очень популярна. Кто помнит, подпевайте:
- По долинам и по взгорьям
- Шла дивизия вперёд
- Чтобы с боем взять Приморье,
- Белой армии оплод.
Потом я боролся с папой на ковре. Конечно, он мне поддавался, но я думал, что на самом деле укладывал его на лопатки, чем был очень горд. Почему мне запомнился тот уютный и спокойный вечер? Может, быть потому, что таких вечеров в моем детстве было не слишком много.
В голове ещё звучит весёлый отроческий голос сестры. Она задорно пела:
- Смелó мы в бой пойдём
- За суп с картошкой,
- И повара убьём
- Столовой ложкой!
- Или театрально декламировала:
– Ась?
– А ну, вылазь!
– Щёё?
– Сиди ещё!
Запомнилось множество смешных прибауток Марины из нашего с ней детства, сказав которые один, или два раза, она их больше никогда при мне не произносила. Я никогда не озвучивал их, но услышанное не забывается, продолжая лежать среди пыльного хлама воспоминаний на чердаке моей памяти. Отлично помню, как двухлетним ползуном сидел под столом и жевал тетрадный листок в клеточку. Сестра, застав меня за этим занятием, громко нараспев ябедничала: «Ма-ам, а Женька опять ест бума-агу».
В маленькой комнате стоял полированный платяной шкаф, два табурета, самодельная тумбочка и две железные кровати с панцирными сетками. Сегодня эти воспоминания не вызывают у меня ничего, кроме тоски и уныния. Жители Николаевки даже не задумывались о том, что из достижений цивилизации XX века у них в доме не было абсолютно ничего, кроме чёрно-белого телевизора Единственное окно в кухне-сенях выходило на Кум—Тигей (Караульную гору) с одиноко торчащей на её вершине остроконечной часовней. Сегодня этот символ города, растиражированный на бумажных российских червонцах, знаком каждому. Ежедневно, садясь за стол обедать, я рассматривал эту каменную башенку и, болтая не достающими до пола ногами, представлял отражение набегов на неё полчищ средневековых киргизов. Если верить Googlemaps, от нашего дома до сооружения по прямой было ровно два километра и четыре метра. В оконной раме маленькая одинокая часовня на лысой горе с кроваво-красными обрывами смотрелась, как на картине, прямо в центре. Ничего лишнего. Как-то раз мы с бабушкой сходили туда, и я с изумлением увидел, что внутри каменной башни, не имевшей тогда дверей был, мягко говоря, общественный туалет с характерными надписями и неприличными рисунками на стенах.
В девяностые символ города восстановили. Часовню ассенизи- ровали, подсветили прожекторами, установили золочёный купол с православным крестом, и поставили у входа списанную армейскую гаубицу. Каждый день, ровно в полдень по указанию городского головы из пушки палили холостыми зарядами, возвещая о новом дне.
Помню худого плешивого соседа, дядю Лёву в майке-алкоголичке и трико с вытянутыми коленками, курящего папиросу в пожелтевшем от никотина белом костяном мундштуке. Дядя Лёва жил в соседнем, доме. Наши участки разделял высокий забор из неокрашенного горбыля с множеством витиеватых щелей. Иногда я подсекал через эти дыры в заборе за нашими соседями. Кстати, во времена моего детства в ходу было совершенно забытое ныне слово «заплoт», а не «забор», как мы все привыкли говорить сейчас. Есть даже фотография, запечатлевшая такой момент, – я стою возле нашего заплота в одной полосатой рубашке и ботинках, с голой задницей, и подглядываю в щелочку. На снимке мне меньше двух лет и, что совершенно поразительно, я, хоть и довольно смутно, но всё же припоминаю тот очень бытовой эпизод. Конечно, можно возразить, что моя память зафиксировала события полувековой давности благодаря фотоснимку, сделанному отцом, ведь я видел эту фотографию и в три, и в четыре, и в пять лет… Но перед моими глазами всплывает не просто стоп-кадр, а увиденное ЗА забором, чего на наших семейных фото нет и никогда не было, – видеоряд с копошащимся в своём огороде худым лысым дядькой, напоминающим Небберкрякера из мультфильма «Дом-монстр», пыхтящим папироской возле стопки шифера у деревянной теплицы.
Соседкой по дому была жившая за стенкой одинокая тихая и милая старушка, баба Нина. Помню, она носила на голове белый платок в мелкий чёрный горошек, завязывая его, как бандану. В углу её комнаты, на полочке стояла, очевидно, очень старая, почерневшая от времени православная икона, написанная на деревянной доске без оклада. По воскресеньям Баба Нина ходила в единственную действующую в городе Троицкую церковь и тихонечко верила в Бога. Изредка я с мамой, или бабушкой бывал у неё в гостях. Взрослые неторопливо беседовали, и мы все вместе пили чай со сладостями.
Мама очень уважала бабу Нину. Я не задавал лишних вопросов. Достаточно сказать, что на моей памяти до смерти бабушки, мама была на одних-единственных похоронах, на похоронах бабы Нины, умершей лет через пять после того, как мы уехали из Николаевки. Я хорошо запомнил кисти рук бабы Нины. Худые, веснушчатые, с высоко выступающими сухожилиями и крупными извилистыми венами, обтянутые тёмным пергаментом кожи. Такие руки любят изображать художники на портретах стариков, проживших нелёгкую жизнь, старательно выписывая каждую морщинку и пигментное пятнышко.
В углу маленькой кухни стоял неубиваемый временем холо-дильник «Бирюса». Не удивлюсь, если он и сейчас где-то исправно служит. Напротив холодильника находилась печка. Я обожал, сидя на корточках, смотреть сквозь щели вокруг чугунной дверцы на мерцание в ней огня. Зимой, по утрам, бабушка грела над тёплой печкой нашу с Мариной детскую одежду, которую мы быстренько одевали, пока не остыла, собираясь в садик и в школу.
Соседских мальчишек не помню вообще. Разве что, Славку, но он был старше года на три. Раз, или два мы с бабушкой бывали у Славки дома, она навещала там свою знакомую, вероятно, его бабулю, мне было не больше четырёх лет, но я мог бы и сейчас максимум со второго раза найти тот дом на чётной стороне улицы, в низине, по дороге к путепроводу. Славка уже вырос, но делал вид, что ему со мной интересно. Помню, как Славка показывал мне свои игрушки, хранящиеся в большом старинном сундуке. Такие сундуки позапрошлого века ещё встречались в домах деревянной Николаевки. Некоторые были такими огромными, что на них можно было спать, чуть поджав ноги.
Не припомню, чтобы я маялся от скуки и безделья. Места в доме было, конечно, маловато, но в моём распоряжении был огород, поленница под навесом, стайка с бытовым хламом и отцовская мастерская. Я рано научился забивать молотком гвозди. Сначала криво и не красиво, загибая их в бок, травмируясь, но многократно повторяя неудачные попытки, постепенно добился весьма сносного результата. Мне нравилось что—нибудь строгать, заколачивать, закручивать, или пилить. Такие вот развлечения были у четырёхлетнего пацана, жившего в частном подворье. Даже как-то странно, что у меня на руках остался полный набор из десяти пальцев.
В сотне метров от дома проходила железная дорога. По рельсам стучали проходящие мимо поезда, а по ночам, в тишине, были слышны строгие голоса женщин-диспетчеров, оповещавших по громкой связи о передвижении составов, и действиях рабочих—путейцев.
Долгое время я не любил поезда за их шум и исходящую от них опасность. Особенно мне не нравились пыльные, вечно спешащие куда—то товарняки, летевшие, как угорелые на всех парах с длинными пронзительными гудками, неся за собой перепачканные мазутом цистерны, загадочные контейнеры с непонятными надписями и открытые платформы с углем и щебнем. С возрастом я привык, и даже полюбил звуки поездов. Есть в них что—то умиротворяющее, вероятно потому, что это то немногое, что совсем не изменилось со времён моего детства.
На ночь бабушка закрывала оконные ставни, от чего становилось совсем темно и тихо. Хочешь—не хочешь, приходилось спать. Когда лёжа в кровати один я долго не мог заснуть, в полной темноте мне казалось, будто кто-то жутковатым низким голосом монотонно повторял одно и то же слово: «…след, след, след, след…» До сих пор не знаю, что это было, детское воображение, или отзвуки железной дороги.
Одними из моих первых игрушек были рычаг от мясорубки с красной деревянной ручкой, и резиновый надувной олень, подаренный дедом. Рычаг был моим «пистолетом», мне часто прилетало им по голове во время «прицеливания», когда его ручка, прокручиваясь на своей оси, делала оборот вокруг неё. Помню лавочку у калитки, высокие ворота и жестяной номер на доме, с подсветкой и названием улицы. Недавно я видел подобный в антикварном магазине. Об асфальте в таких районах не было и речи. Что там творилось весной…
В хорошую погоду мы с бабушкой гуляли по Куйбышева, прихватив с собой машинку на верёвочке, или пластмассовый лук со стрелами и колчаном. Бабушка стреляла из лука вверх, потому что у меня ещё не получалось пустить стрелу высоко. Я просто стоял, задрав голову и смотрел на то, как она это делает.
Оказывается, если напрячь память, перед глазами всплывают и, как фотокарточки в кюветке, начинают медленно проявляться такие картины из прошлого, о наличии которых у себя в голове я даже не подозревал. Когда-то я думал, что если о чём-то очень долго не вспоминать, память о событии навсегда стирается за ненадоб- ностью. При работе над книгой открылась ещё одна особенность памяти. Вспомнив, казалось бы, давно забытое и выплеснув свои воспоминания на бумагу, мысленно вернуться к тем же событиям вновь становится намного труднее. Как будто зрительные образы из прошлого, едва возникнув перед глазами, медленно растворяются в тумане. Я читал, что наши воспоминания каждый раз перезапи- сываются при обращении к ним, как магнитная лента в «чёрном ящике» самолёта.
Припоминаю зиму в Николаевке. Замёрзшие окна с ледяными узорами, подвывающая вьюга, потрескивание дров в печке, клубы белого пара по полу из-под закрывшейся за кем-то двери в сенях… Одно из первых воспоминаний, – раннее утро, бабушка везёт меня на санках в садик. Я вижу только её спину в поношенном тёмно-синем пальто с рыжим лисьим воротником и слушаю, как под её валенками хрустит снег. На улице ещё совсем темно. Колко светят звёзды, я полулежу, укутанный до глаз пахнущей козой шалью, и обречённо смотрю, как на фоне фонарных ламп холодной белой мошкой суетливо кружат мелкие снежинки. Мы пересекаем деревянный настил, сколоченный вровень с рельсами специально для пешеходов с колясками и санями. Попутные острые камешки на промёрзших досках с противным скрежетом царапают металлические полозья. Наконец, санки бесшумно выкатываются на утоптанную дорожку. Тёмный ряд гаражей, пара попутных пятиэтажек, и вот он, «красный дом», детский сад-ясли железно- дорожного района, чёрт бы его побрал.
Помню большого снеговика у дверей дома. С глазами из уголь- ков и носом из настоящей морковки. Было всё, как полагается, – и метла, и дырявое ведро на голове. Снеговика делали совсем ещё молодые отец с мамой, чтобы порадовать нас с сестрой. Светлое воспоминание.
Жизнь – игра. Сюжет так себе,
зато графика ох… ительная!
Геймерская шутка 90-х
Осень 68-го
В шестидесятых годах родители запросто отпускали погулять во дворе близлежащих домов совсем маленьких детей не боясь, что ребёнка кто—то куда—то заманит, что он выбежит на дорогу, травмируется на качелях, или его покусает бродячая собака. Никто не считал это безответственным, это было нормально. Советская идеология внедряла в сознание масс идею о том, что маньяки это явление, присущее исключительно загнивающему Западу, в СССР их быть не может по определению.
Заблудиться в Николаевке было невозможно. Система улиц была простой и понятной даже ребёнку, пересекались они строго перпендикулярно, как стрит и авеню. Под присмотром пятилетнего ребёнка родители запросто могли отпустить гулять его младшего брата, или сестрёнку. Подходить к железнодорожным путям было строго-нaстрого запрещено взрослыми.
Я застал времена, когда мальчишки кое-где ещё поигрывали в чижа, в городки, гоняли колёса на палочке с крючком, но в основном практиковались игры с мячом: футбол, волейбол, одно касание, и им подобные. Девочки играли в «выжигала», классики, крутили обручи, прыгали со скакалками, или болтали о чём—то своём, собравшись в тени, под тополем, на соседской лавочке. Беззаботно хохочущие девчонки в самодельных веночках из дворовых одуванчиков и ромашек были непременным атрибутом летних николаевских двориков. Теперь те забытые игры кажутся экзотикой, а слово «жмурки» ассоциируется только с плохим фильмом про карикатурных бандитов. Я уже и не помню, когда в последний раз видел разлинованные мелом клеточки на асфальте.
В сухие жаркие летние дни на Куйбышева бывало очень пыльно. Стоило подняться даже небольшому ветерку вдоль незаасфальти- рованной дороги, как приходилось щурить глаза, прикрывая лицо рукой. Пару раз я был свидетелем, как, перед грозой, ветер поднимал вверх тонкие кривые столбики пылевых вихрей. Точно такие я видел на кадрах, снятых американским марсоходом «Perseverance».
Жизнь в посёлке полна бытовых забот. Колка дров, доставка воды, уход за огородом. Поскольку водопровод в домах отсутствовал, а стиральные машины были далеко не у всех, бельё в Николаевке стирали большей частью вручную, на стиральных досках, в серых цинковых ваннах, или эмалированных тазиках. Затем его сушили во дворах, на длинных верёвках, приподнятых жердью. В нашей стайке с незапамятных времён хранилось старое деревянное корыто с чёрной трещиной по всей его длине. Вероятно, оно тоже когда-то использовалось при стирке, пока не превратилось в реквизит для сказки о Рыбаке и Рыбке.
Запомнилась женщина-инвалид, лет сорока с высоко ампути- рованной ногой. На женщине была болоньевая куртка и юбка выше колена. Было странно, непривычно и даже, как-то жутковато видеть одну ногу в юбке. Стоя на крыльце детского сада, женщина о чём—то беседовала с воспитательницей, опираясь на деревянный костыль.
Дядя Толя Кучерук. Грубоватый пьющий шофёр старенького зелёного грузовичка иногда захаживал к нам в гости. Он был очень худой и болезненный. Мама говорила, что дядя Толя алкоголик. Кучерук, вроде бы, рано умер. Откуда этот человек и что могло быть у него общего с моими родителями я не знаю. Вероятно, этот дядька с забавной фамилией был наш сосед.
Взрослые люди в шестидесятых годах прошлого века были куда спокойнее и учтивее. Они никуда не спешили, охотно общаясь друг с другом. Женщина-почтальон, лет сорока, носила на плече большую кожаную сумку поверх форменной куртки с почтовой эмблемой, выданную ей явно не по размеру. Видимо, женщина работала в нашем районе уже давно, так как все знали её по имени и жители посёлка могли подолгу о чём—то разговаривать с этой неприметной тётенькой, остановившись у дороги на пол-пути в «Пороховушку», или с вёдрами, наполненными водой, у колонки.
Иногда в наши края наведывался участковый милиционер, – худой дядька с рыжими пшеничными усами, в голубой форменной рубашке, галифе, пыльных хромовых сапогах и в портупее. Сотрудники МВД в шестидесятые годы продолжали восприни- маться взрослыми людьми, скорее, как угроза, нежели, как блюстители порядка. Время от времени родители, увидев милиционера в форме, пугали своих непослушных детей: «Будешь себя плохо вести, дядя милиционер заберёт в милицию.» Дети, не заставшие прежние времена, милиционеров совершенно не боялись, видя в них образ михалкoвского Дяди Стёпы, который и защитит, и поможет, и воробушка достанет, если нужно. Насколько я припоминаю, милиция в моём детстве вполне соответствовала описанию книжного героя. Местные мальчишки, завидев инспектора, бежали за ним и кричали: «Дяденька милиционер, а покажите, пожалуйста, пистолет!» Участковый со вздохом останавливался, расстёгивал висящую на ремне коричневую кобуру и, показывая её внутренности, говорил: «Да нет у меня никакого пистолета, вот видите? Пусто!»
Интересно, как отреагировали бы мы в детстве на нынешних ОМОНовцев, или гвардейцев. В мирное время, средь бела дня, в центре города, эти блюстители общественного порядка в кирзовых берцах напоминают, скорее, «коммандос» из компьютерных стрелялок, вышедших на задание в тыл врага.
Летом николаевские улицы утопали в зелени. В основном это были старые тополя. Под окнами, люди высаживали рябину, черёмуху, берёзки и яблони. Зимой деревья стояли в снегу, красивые, как на новогодней открытке. Мне всегда нравилась осень. Когда ещё слепит солнце, но воздух уже прохладен, листья на деревьях меняют свой цвет, и небо из голубого становится ярко-сиреневым. С большой вероятностью то, о чём я сейчас расскажу, произошло в конце сентября 1968-го года.
Практически всё детство, где бы мы ни жили, я был самым младшим среди нашей дворовой компании, поэтому, как правило, меня никто не обижал, иногда я даже имел какие—то поблажки и фору в командных играх. Вечером, уже на закате, мы с местными мальчишками пошли гулять и наткнулись на копошившихся в жидкой грязи слепых котят. Они беспомощно барахтались в луже, на дороге у частного дома. Не могу припомнить, что за ребята были со мной. Всего их было человека три, или четыре, вероятно, самому старшему из нас было лет восемь, или девять. Не помню ни одного имени, не могу описать внешность, или ещё как—то индивидуализировать этих пацанов, но я помню их голоса, интонации, их отношение к увиденному. Мы понимали, что если мы уйдём, беспомощные животные погибнут от голода, их раздавит случайно проезжающий автомобиль, или разорвут местные собаки. Кто-то из мальчишек сказал, что котят выбросила бабка, жившая по соседству. Человеческая жестокость шокировала своей непосредственностью. Сегодня, глядя на карту, я совершенно убеждён, что события, о которых сейчас вспоминаю, происходили у дома номер два на улице Невской, в полутора сотнях метров от наших окон. Мы смотрели на котят, жалели их и сердились на взявшую грех на душу неизвестную старушку. Предвидя реакцию своей мамы, я не решился принести домой живность, а мальчишки постарше взяли с собой двух, или 3-х из 4-х, или 5-ти котят. Я подумал: что, если я принесу котёнка домой, а меня заставят отнести его обратно? Или выкинут его у меня на глазах теперь уже за нашу ограду? «Отпустят», так сказать. Весь мой маленький жизненный опыт подсказывал мне, что скорее всего именно так и произойдёт. Хоть мы и жили в частном доме, почему-то у нас никогда не было ни собак, ни кошек. Мама не раз повторяла, что содержание животных -«большая ответственность», давая тем самым понять, что это не наш вариант.
Вернувшись домой в подавленном настроении, я рассказал об увиденном маме. Она ничего не ответила. Потом она меня мыла. На столе у печки стоял эмалированный таз, в тазу – голый и чумазый я. Мама поливала меня тёплой водой из синего эмалированного кувшина. Пожалуй, это моё первое длящееся во времени серьёзное воспоминание о детстве, как сказали бы сейчас, в формате «5D», – со звуком, запахами и ощущениями собственного тела, не говоря уже о проявлении обычных человеческих эмоций и детских душевных метаниях. Мне было три с небольшим года. Примерно, сорок месяцев отроду.
Бытовые подробности
Моё поколение застало множество архаичных предметов из навсегда ушедшего прошлого. Вещи которыми на протяжении веков повседневно пользовались наши предки, вдруг стали ненужными, или были вытеснены современными аналогами. Людям, видевшим угольные утюги только в кино, или музее, кажется, что пользоваться такими могли разве что до революции. На самом деле в ходу они были достаточно долго и выпускали их вплоть до 60-х годов прошлого века. Я видел, как таким утюгом пользовалась наша соседка.
Летом, чтобы не топить печь, для приготовления пищи многие жители Николаевки пользовались примусом, или керогазом. В каждом доме на случай отключения электричества имелась керосиновая лампа. Уют создавали своими руками. Женщины шили скатерти, вышивали салфетки, постельное бельё, занавески на окна. Вышивка с обмётанными по краям дырочками, под красивым названием «ришелье» имелась в каждом доме, два одинаковых узора встретить было невозможно. Умение вышивать считалось естественным и передавалось из поколения в поколение. Любая девушка с детства умела управляться с пяльцами, нитками мулине, крючком и спицами. Я не знал ни одной семьи, в доме которой не было бы ручной немецкой швейной машинки «Singer» довоенного производства.
На моих глазах произошла революция письменных приборов. До 1970 года шариковые ручки в СССР были редкостью. При средней зарплате 110, стоила самая простенькая ручка 2 рубля. Сменные стержни с чернилами являлись огромным дефицитом, к тому же среди них был высок процент производственного брака, поэтому большинство людей по-старинке продолжали пользоваться перьевыми ручками с пипеточной, или поршневой заправкой чернил. Избегая социального неравенства и стремясь к единообразию, советские школы так же не спешили переходить на шариковые ручки, запрещая ими пользоваться до тех пор, пока они не стали общедоступны. Пару раз в неделю сестра доставала из тумбочки угловатые стеклянные баночки с фиолетовыми, или синими чернилами, садилась за стол, и прилежно заполняла ими колбы своих письменных приборов. Обычно у учеников имелось две ручки, – основная, и запасная. Для начала ручки нужно было разобрать, помыть от остатков чернил и тщательно высушить. Только после этого следовал ритуал заполнения чернилами с неизбежными кляксами на подстеленном листочке, протиранием ручек специальной тряпочкой и обязательной окончательной пробой пера. Кстати, перьев было великое множество, в зависимости от целей и назначения они производились под различными номерами и имели отличное друг от друга строение и форму.
В школе мне довелось немного пописать перьевой ручкой с пером №11, в просторечье – «звёздочка». Сколько пиджаков, портфелей и фартуков пострадало от протекания чернил, история умалчивает.
К середине семидесятых годов советские школы окончательно перешли на шариковые ручки. Очень жаль. По моемy мнению, именно перьевые ручки необходимы для правильного обучения письму. Те, кто учился обращаться с пером, писали определённо иначе, не спеша, старательно, чувствуя нажим, изменяющуюся ширину линий, понимая красоту каллиграфии. Я уже не говорю о том, что с раннего возраста ученики приучались к аккуратности и чистоте, ведь им приходилось постоянно думать и заботиться о том, чтобы не испачкать пером пальцы, парту, или одежду. Даже сам предмет обучения владению пером назывался завораживающе-красиво, – «чистописание». Сначала в школах шариковыми ручками разрешалось писать только в старших классах. Как минимум до девяти лет детей обучали письму пером. Никаких левшей при этом быть не должно. Всех учили писать строго правой рукой и, надо сказать, переучивали всех. Письмо перьевой ручкой обязывало к аккуратности, неторопливости и отдалённо напоминало традиции древневосточной культуры «сёдо».
Обычно, в школьной тетради имелись разноцветные промокашки. По ним можно было судить о степени радuвости ученика. В идеале промокашка (мягкая бумажка по форме тетрадного листа с зубчиками по краям, напоминающая по фактуре туалетную, только потолще) должна быть абсолютно чистой, хотя её прямое предназначение – промакивание написанного, чтобы чернила не размазались, и не испачкали соседнюю страничку. Промокашка вкладывалась в тетрадь в единственном экземпляре, отдельно промокашки не продавали. На практике промокательная бумага обычно служила другим целям. На ней рисовали, на ней писали записочки, можно было оторвать кусок промокашки, пожевать его, смять в плотный комок и, пока учитель отвлёкся, запулить его в отвечающего у доски товарища. Промокашка идеально подходила для изготовления «боеприпасов» для бесшумной стрельбы из трубочек во время урока. Наконец, из неё получались отличные лёгкие самолётики.
От наших родителей, чьё детство выпало на военные и после- военные годы мы, школьники семидесятых, переняли умение делать из бумажных листков различные советские оригами. Мы складывали трёхмерные гармошки, несколько видов корабликов и самолётов, хлопушки, лягушки и другие полезные вещички, заменявшие нам современные китайские безделушки во время общения на переменах.
У старьевщика (я застал и их!) на макулатуру или старое тряпьё можно было выменять яркий мячик—мандарин из папье—маше на резинке, поролоновый клоунский нос, керамическую свистульку, или ещё какую-нибудь детскую радость. Летом, и в тёплые осенние дни, на пустыре, недалеко от нашей школы несколько сезонов подряд стоял увешанный гирляндами из разноцветных лампочек раскрашенный во все цвета радуги старинный троллейбус, стилизованный под цирковой фургон. Внутри его переоборудованного салона располагался пункт приёма вторсырья. Нутро фургона было увешано разноцветными воздушными шариками, сладкими петушками на палочках, бумажными хлопушками и другими игрушками кустарного производства.
Старьевщик с безразличным видом бросал принесённый ему хлам в угол фургона и выдавал свистульку или пару шариков в тальке, в зависимости от пожеланий малолетнего заказчика. При желании игрушку можно было просто купить, стоила она не дорого. Приходили к старьёвщику и взрослые. Они тоже несли с собой старую ненужную дребедень: радиоприёмники, мелкую деревянную рухлядь, бижутерию, одежду. Однажды я видел, как кто-то принёс и сдал атласную чёрную шляпу «шапокляк» с пружиной, видимо, начала прошлого века. Коротко поторговавшись, люди получали какую—то совсем небольшую денежную сумму, после чего удалялись без признаков радости от удачно проведённой сделки.
В те, уже очень далёкие времена, я не видел ни бомжей, ни алкашей, которым бы не хватало на сиюминутную выпивку. О том, кто такие наркоманы, обычные люди даже не догадывались. Деньжонки у народа, хоть и не великие, водились всегда. За двадцать килограммов сданной бумажной макулатуры можно было получить талон на приобретение дефицитных книг какого—нибудь плодовитого француза. Книги с диссидентским подтекстом либо не печатались вообще, либо издавались такими тиражами, что купить их было просто невозможно.
Пару раз на дни рождения мне дарили самиздатовские книги, отпечатанные на печатной машинке, вручную: булгаковского «Мастера» и «Лебедей» братьев Стругацких. Как я радовался этим подаркам! Постойте. Это было… В конце восьмидесятых…
Во времена российской империи образ горничной конца XIX века, ассоциировался с честностью скромностью и трудолюбием. Чтобы не навредить репутации людей, у которых она служит, домработница должна быть образцом целомудрия и чистоты. Классическая униформа горничных состояла из закрытого платья с длинными рукавами, белого фартука и белого воротничка. Поскольку девочек готовили к роли матери и хозяйки, именно этот консервативный стандарт был взят за основу при создании единой одежды для гимназисток в 1896 году. Позднее, эта же форма в неизменном виде была принята, как единая одежда для учениц советских школ. Все мои одноклассницы, без исключения, начиная с третьего класса, носили только такую. Коричневое шерстяное платье, чёрный (повседневный) и белый (для торжественных случаев) фартуки, белый кружевной воротничок, белые манжеты, чёрные атласные, или белые шёлковые ленты в косах, обувь на низком каблуке. Сестра застала времена, когда с формой носили нарукавники, так, как ткань на локтях быстро истончалась. При мне такого уже почти не встречалось. С течением времени, моды, и сексуальной революции 70-х, форменные юбки старшеклассниц становились всё короче и короче, а каблуки их туфель всё выше и выше, поэтому особо строгим советским завучам приходилось стоять у главного входа и измерять расстояние от верхней границы колена до края юбки учениц линейкой. По их мнению оно должно было быть не более восьми сантиметров. Так же нельзя было приходить в школу в обуви с каблуком высотой более четырёх сантиметров, носить капроновые чулки, распущенные волосы, иметь длинные ногти, и пользоваться косметикой. Нарушительниц не допускали до занятий, вызывали в школу родителей, в особо тяжёлых случаях грозили выгнать из комсомола. Настоящей отдушиной для девчонок были различные внешкольные мероприятия; субботники, демонстрации, походы на природу, или праздничные чаепития. Здесь можно было было одеться и накраситься так, как им хотелось.
Отдельная история с физкультурной формой. Я застал период, когда девочек обязывали ходить на занятия в обтягивающих купальниках, а мальчиков, практически, в нижнем белье. «Пусть думают, что мы – спортсмены», – шутили в раздевалке пацаны-третьеклашки, заправляя майки на лямках в чёрные сатиновые трусы, не забывая при этом карикатурно щуриться на один глаз, подражая голосу и манерам рецидивиста Доцента из кинофильма «Джентельмены удачи». Занимаясь в спортивном зале в полураздетом виде, девочки и мальчики стеснялись друг-друга. Ни для кого не секрет, что, многие физруки страдают латентной педофилией. Им, будто бы, доставляет удовольствие наблюдать за тем, как мальчишки и девчонки выполняют упражнения, типа «ножницы», кувырки, или дурацкие махи на четвереньках без трико. Я ненавидел уроки физкультуры, особенно в младших классах.
Советскую школьную форму на девочках сегодня можно увидеть разве что в день последнего звонка, когда ностальгирующие по собственной юности мамаши наряжают своих 17-летних дочерей в кружевные воротнички и белоснежные фартуки. Не хочу сказать ничего плохого, но выглядит всё это уже не так гармонично, как пол-века назад.
В начале семидесятых годов в СССР появилась школьная форма для мальчиков. Рассмотреть во всех подробностях её можно в советском детском художественном фильме «Приключения Электроника». Сине-фиолетовая укороченная куртка из немнущейся ткани с эмблемой из кожзама на левом рукаве в виде раскрытой книжки и восходящего солнца. Одежда была крепкая и не побуждающая к её чинному ношению. Скорее, разработчики видели предназначение данного изделия для школьных потасовок и валяния на полу. Внешний вид учеников их заботил в последнюю очередь. Впрочем, в отличие от девочек, которым было категорически запрещено появляться на занятиях в альтернативной одежде, мальчикам не возбранялось носить цивильный костюм. В старших классах школьную форму носили, как правило, дети консервативных родителей, или мальчики из неблагополучных семей. Девчонки парней в такой одежде не воспринимали категорически. Посещение школы в джинсах приравнивалось чуть ли не к идеологической диверсии.
Первые ковбойские штаны появились у меня в девятом классе. У спúкуля на рынке фирменные джинсы стоили примерно две сотни. Мамина знакомая, проживавшая в закрытом городке со спецобеспечением, достала две пары, кажется, по сорок пять. Ткань была качественная, импортная, правильно линяющая в процессе носки и стирки. Шили джинсы по лицензии, в городе Калинине (Твери). По-сути это была советская реплика классических американских «Levi’s-501», зафигаченная на итальянском оборудовании из настоящего денима, только без использования оригинальных заклёпок, молний и пуговиц. Первым делом я отпорол позорную кожаную нашивку с надписью «Тверь» с заднего кармана. Затем, с помощью ниток мулинe вышил американский флаг, на котором вместо звёзд красовался большой серп и молот (на пятьдесят маленьких сeрпиков и мoлотиков не хватило терпения). Подумав, я сделал ещё вышивку на заднем кармане, которую тоже придумал сам: белую чайку, пролетающую сквозь спасательный круг на фоне адмиралтейского якоря, и“флажок» с надписью «Pravi’s» вместо «Levi’s». Это был мой ироничный советский ответ загнивающей Америке и лично президенту Рональду Рейгану. Первые фирменные джинсы «Super perry’s» мне раздобыл мой университетский приятель, Игорь Стороженко. Штаны прослужили всё студенчество, и даже дольше. В девяностые годы Сторожeна стал известным криминальным авторитетом, но после нескольких обвинений в организации заказных убийств он, попав в федеральный розыск, бесследно исчез. Парень был круглым отличником, мастером спорта по боксу и моим соседом по двору. Отчим Игоря служил в КГБ, Насколько я знаю, Игорь тоже метил туда, поэтому, не удивлюсь, если мой приятель работал под прикрытием, а теперь проживает где—нибудь в тёплой загранице на заслуженную пенсию офицера. Кто знает. Кто знает.
Я помню пожилых людей, носивших калоши поверх обуви в ненастную погоду, скорую—универсал на базе автомобиля ГАЗ-21, брезентовый цирк—шапито на площади Революции, билеты местных авиарейсов по 17 рублей, запонки и подтяжки для носков. Я лично знал старика, который работал извозчиком в дореволю- ционном Красноярске, при мне некоторые взрослые продолжали бриться опасными бритвами и пользовались одеколоном с устройством для ручного нагнетания воздуха. В детстве мы играли мячами из натуральной кожи на шнуровке, с резиновыми камерами внутри. Страшно подумать, при мне доживали свой век дети участников Бородинского сражения. Дед одного из мальчишек в нашем дворе, вполне ещё шустрый 104-х летний старичок по фамилии Шапошников, прогуливающийся с красной деревянной палочкой в начале семидесятых, родился в 1870-м году! По возрасту он вполне мог бы быть, например, сыном Александра Сергеевича Пушкина, поживи поэт подольше на этом свете. Мой родной дед застал живого Жоржа Дантеса. Вдумайтесь, не прадед, а дед!!! Мне может не поверить молодёжь, но ещё в моём детстве редкостью были застёжки—молнии. На мужских брюках их стали массово практиковать только в семидесятых. В парках по выходным играли духовые оркестры, а во дворах домов постройки тридцатых годов, были установлены летние лепные фонтанчики в виде фигурных чаш, или морских раковин. В скверах стояли статуи молодых строителей коммунизма самых разных профессий сталинской эпохи от балерин и физкультурников, до шахтёров и сталеваров в натуральную величину. Во многих дворах имелись двухэтажные деревянные голубятни. При моей жизни родились и умерли кассетные аудио и видео магнитофоны, появились отечественные шариковые ручки и фломастеры, бытовые компью- теры, небьющиеся грампластинки, стереозвук, оптические диски, сотовые телефоны и рок—музыка. Три из одиннадцати денежных реформ проведённых в России за последние 500 лет, начиная от Елены Глинской, случились у меня на глазах, при мне рухнул Советский Союз.
Без радости вспоминаю унылые советские магазины. Полупус- тые прилавки, правда, при этом, в каждом гастрономе всегда имелось несколько видов натуральных соков в вертикальных стеклянных конусовидных колбах, на розлив. Продавщицы носили белые халаты с фартуками, на голове непременный высокий накрахмаленный колпак в форме цилиндра, иногда покрытый тюлем, или гипюром. Полиэтиленовые мешки появились гораздо позже, продукты, даже сливочное масло, паковали в бумажные пакеты, они были уже готовые, но если нужна была тара бoльшего размера, продавец ловко сворачивала кулёк из грубой бумаги. Каким—то неуловимым движением затыкался низ кулька, одна рука при этом без всяких гигиенических предрассудков молниеносно просовывалась внутрь.
Подсолнечное масло продавалось на розлив. С помощью воронки продавец наливала его в поданную покупателем бутылку, которая затыкалась пробкой из скомканной серой бумаги. За молоком и сметаной люди ходили с бидончиками. Некоторые даже с целлофановыми пакетами, которые были большой редкостью. Их мыли, за ними ухаживали, иногда их даже ремонтировали. Кстати, пиво на розлив отдельные категории советских граждан так же приобретали в собственные видавшие виды мятые целлофановые пакетики. Бывало, что уже после розлива в пакетике обнаруживалась небольшая течь, и покупатель был вынужден бежать с фонтанирующей тарой до места распития бегом. О существовании йогурта, пиццы и кетчупа жители глубинки даже не догадывались.
В восьмидесятых годах появились автобусы «ЛИАЗ». Огромные, с большими стёклами в сравнении с ходившими до этого «ПАЗиками». Их сразу же стали называть «аквариумы». Обтекаемые троллейбусы шестидесятых годов марки «ЗиУ», с раскаляющимися до красна спиральными зимними электрообогревателями лобовых стёкол в кабинах постепенно сменили угловатые «буханки». Проезд в автобусе стоил шесть копеек, в троллейбусе – пять, а в трамвае и того меньше, всего «троячок». Кондукторы в транспорте обычно отсутствовали, поэтому ездить на автобусах, троллейбусах и трамваях бесплатно для детей и подростков было обычным делом. Взрослые всегда оплачивали проезд, поскольку цены за него были безоговорочно доступными. «Совесть – лучший контролёр» – слоган того времени, размещаемый в виде трафаретных надписей в салонах общественного транспорта. Даже при зарплате в 120 рублей это было совершенно не накладно. «На дорогу» (в среднем) тратилось около двух с половиной за весь месяц. При желании можно было купить проездной билет на автобус, или вообще на все виды городского общественного транспорта. Для студентов проездной стоил в буквальном смысле копейки. Кроме того существовала огромная масса льготников, освобождённых от оплаты проезда при наличии соответствующих удостоверений. Весь этот расклад омрачался банальной нехваткой автобусов. Ходили они практически без всякого графика, переполненные, почти не обогреваемые в зимнее время и не проветриваемые в летнюю жару. Сначала в каждом салоне находились две стационарные опломбированные кассы (на передней и на задней площадках), куда пассажиры сами бросали монеты и, покрутив круглое колёсико сбоку, сами отматывали и отрывали билет. В конце семидесятых годов кассы убрали и весь общественный транспорт оснастили компостерами. Покупая «книжечку» из десяти или двадцати билетиков, честный по умолчанию пассажир сам должен был их закомпостировать во время проезда. Пойманного редкими контролёрами «зайца» штрафовали на один рубль и отпускали. Так продолжалось до начала девяностых годов.
Есть одно странное воспоминание, которое, как оказалось, не даёт покоя не мне одному. В шестидесятых годах у меня и многих моих сверстников имелись стеклянные шарики, диаметром около полутора сантиметров. Говорят, они были разного цвета, но я помню только тёмно—фиолетовые. При падении эти тяжёлые шарики не разбивались и не трескались, иногда от них откалывались небольшие кусочки, как от карамельки. Одним из главных достоинств шариков была загадка их происхождения. Я так и не докопался до истины, но абсолютно точно, эти шарики не продавались в магазинах, их можно было только найти, выменять, или получить в дар. Версия о том, что стеклянные шарики являлись полуфабрикатом для выработки стекловолокон различного назначения, меня не устроила. Уж больно те шарики были правильными и красивыми. Хотя, пожалуй, именно это объяснение ближе всего к правде. Пусть тайна происхождения и предназ- начения шариков, появившихся непонятно откуда, и пропавших неведомо куда, останется не раскрытой.
В шесть лет мне очень хотелось иметь игрушечный подъёмный кран за одиннадцать рублей, он несколько лет ждал своего покупателя в магазине «Северо-западный». Этот кран был пределом моих мечтаний, пока я не вырос и он не перестал меня интересовать. Памятуя о своей детской мечте, я никогда не экономил на игрушках своим детям. Если вы не застали те времена, сообщаю, что практически все детские игрушки в СССР были отечественные, их производили строго в соответствии с имеющимися тогда ГОСТами, поэтому зачастую у разных детей были одинаковые куклы, машинки или конструкторы.
Заходя в интернет и просматривая картинки с советскими игрушками, я крайне редко встречаю незнакомые мне экземпляры. Причём некоторые игрушки производили без каких-либо изменений по 25 и более лет. Вплоть до 90-х годов бывали случаи, когда дети, в буквальном смысле, играли игрушками полностью идентичными игрушкам собственных родителей. Электронные игры отсутствовали, но при помощи пластилина, цветных карандашей, картона и красок можно было создавать мир, полный приключений, загадок, и сказочных существ.
За счёт подвижных игр на свежем воздухе, дети прошлых поколений были более спортивны. Санки и лыжи имелись в каждом доме, зимой они не простаивали без дела в углу, и не залёживались на балконе. Слава богу, в выходные мы не валялись сутками на диванах со смартфонами, не сидели долгими часами за мониторами компьютеров, телевизор нас тоже мало интересовал. Наспех сделав уроки, мы бежали на улицу, к друзьям. За летние каникулы кеды стирались в пыль. Шлёпнуться на асфальт во время дворовых игр и продырявить колено на новых штанах, или разодрать локоть у единственной куртки было обычным делом, поэтому заплаты, напоминающие творение доктора Франкенштейна на одежде у пацанов ни у кого не вызывали лишних вопросов.
Советские артефакты
В Советском Союзе времён моего детства не было такого разнообразия товаров, как сейчас. Однако, если что—то делалось, то делалось на совесть. Долгое время вся обувь в СССР изготовлялась из натуральной телячьей кожи, шерстяные вещи были без химических примесей, мебель производилась не из спрессованных отходов, а из настоящего дерева, чугунная кухонная посуда служила не одному поколению, утюги и дрели работали десятилетиями. Несмотря на некоторую внешнюю серость и убогость товаров, в них не закладывалось время на эксплуатацию. Вещи покупали дорого и не часто, поэтому служить они должны были долго. Примерно с середины семидесятых годов качество производимых отечественных товаров начало стремительно падать, поэтому советские граждане старались приобретать дефицитные импортные вещи. В основном это была продукция стран так называемого «соцлагеря».
Глядя на нынешнее изобилие, в голову приходят риторические вопросы: неужели наша экономика разорится, если панели для радиотехники производить не из крашеной пластмассы, а из полноценных алюминиевых сплавов? Или: Kакого чёрта в фонарях, люстрах и линзах для лазерной техники используется дешёвая пластмасса! Вам что, стекла жалко? Я не в том смысле, что раньше трава была зеленее, и солнце ярче. Во все времена существуют более и менее качественные вещи, просто в сегодняшнем мире потребления уже не так важно, сколько вам прослужит ваша покупка, как это было ещё несколько десятилетий назад, теперь считается, что у всего должен быть разумный, то есть не слишком большой срок годности. В интернете можно найти и посмотреть в реальном времени на лампочку, которая горит где—то в калифорнийской пожарной части с 1901-го года двадцать четыре часа в сутки и никогда не выключается. Почему мы все не пользуемся такими? На самом деле, всё очень просто.
Какой—то американец ещё в начале двадцатых годов прошлого века осознал, что чем усерднее учёные и изобретатели трудятся над продлением срока работы, к примеру, электрической лампочки, тем меньше прибыли идёт в карман её изготовителям и продавцам. В итоге картельного сговора лампочки стали производить более низкого качества, со сроком работы не более тысячи часов, вследствие чего была снижена их себестоимость и повышена отпускная цена. В 30-х годах, подобная история произошла с женскими нейлоновыми чулками, которые оказались чересчур прочными. Говорят, их можно было использовать даже для буксировки автомобилей. Химикам было дано указание ухудшить качество волокон, чтобы повысить спрос на товар. И пошло—поехало…
Когда-то в нашем доме активно использовался ламповый приёмник «Festival», подаренный маме с папой отцовскими родителями к их свадьбе и современный по тем временам телевизор «Рубин—102». На ткани передней панели «Фестиваля» чётко просматривалась овальная тень от широкополосника. В детстве она у меня ассоциировалась с лицом улыбающегося шкипера в берете, с круглым носом и бородой, как у Розенбoма из мультфильма «Заколдованный мальчик». Наш телевизор представлялся мне почти одушевлённой квадратной головой робота, каких я рисовал в детстве. В утренние часы из нашего приёмника звучали весёлые джинглы популярных юмористи- ческих радиопередач «Опять двадцать пять», или «С добрым утром». Ежедневно пели свои хиты Аида Ведищева, Вадим Мулерман, Эдита Пьеха, Марк Бернес, Владимир Макаров, Эдуард Хиль… Могу запросто напеть песни, которые слышал последний раз лет в пять-шесть..
Передача «Опять двадцать пять» нравилась даже мне, четырёхлетнему пацану. Я прекрасно понимал юмор и смысл коротких интермедий, с удовольствием слушал смешные анекдоты и весёлую музыку. В семидесятых, купив новый транзисторный телевизор, папа отвёз ещё рабочий «Рубин» на моих санках туда, где его купили и разобрали на детали. Мне было жаль расставаться с нашим роботом. Громоздкий «Фестиваль» украли, когда родители увезли его на дачу.
Почему у нас не получается серийное производство хороших современных телевизоров, телефонов, или автомобилей? Не получается даже качественно скопировать чужое. Мне сейчас возразят, мол, «зато мы делаем ракеты, а так же в области балета…» К сожалению, и это всё в прошлом. У меня нет сложного ответа на вопрос, – «почему», а простой ответ, думаю, многим не понравится.
Переезжая в новую квартиру, старую мебель с Куйбышева мы увезли на дачу, которая была продана в начале восьмидесятых и давно находится в чужой собственности. Несколько раз проезжая мимо Пугачёво, я видел вдалеке крышу нашего двухэтажного дома, прошло уже пол-века, а он всё ещё стоит, и даже не перекрашен. Трудно представить, что пригодные для использования вещи в дачном домике заменят на новые. Было бы очень интересно побывать там, увидеть знакомые предметы и вспомнить подробности семейного прошлого.
Наверняка там висит наша старинная люстра, и стоит добротный платяной шкаф, отделанный рельефным шпоном из ж/д вагонов первого класса николаевских времён. Возможно, уцелел круглый обеденный стол с массивными резными ножками, сделанный так же руками папиного отца. За этим столом в военные годы отец делал уроки, за ним собирались родственники, вели разговоры, пили чай из бабушкиного фарфора. Может быть, и наши железные кровати всё ещё скрипят под кем-то своими многострадальными пружинами…
Найти семейные реликвии у современных горожан почти невозможно, ведь, как правило, мы выкидываем их при приобретении новых вещей, от банальной нехватки жилого пространства, но, как хочется иногда вспомнить детство и ощутить запах давно забытой игрушки, открыть ящик, где много лет назад лежали детские секреты, покрутить ручки старенького дедовского радиоприёмника, или послушать уютное урчание папиного лампового магнитофона.
Штампованная жесть
Я помню события, про которые никогда никому не рассказывал, не расскажу и уж, тем более, о которых ни за что не напишу. Нередко воспитатели в детском саду оставляли детей одних, в связи с чем начинали происходить совершенно непотребные вещи. Дети были разные, но как ни крути, первые драки, матерные словечки, излишний интерес к интимным органам, бытовое воровство, – это всё оттуда. По сути, детсад – первая в жизни школа выживания, вполне сравнимая по жёсткости с армейской. Именно самый физически крепкий и драчливый, а не самый умный и воспитанный будет задавать тон в коллективе. Воспитательницы вмешивались в детские разборки лишь в крайних случаях, пресекая насилие, совершаемое у них на глазах. Чтобы избегать неприятностей в садике необходимо было научиться хитрить. Личного пространства у ребёнка быть не должно, у него нет возможности уединиться даже в туалет, – горшки стоят у всех на виду, в дальнем углу помещения группы. Когда есть, спать, гулять, как одеваться, во что и с кем играть, решать так же не детям. За непослушание следует наказание, вид которого единолично определяет воспитательница, сообразно её представлениям о добре и зле. Главная задача воспитанника одна, – продержаться до прихода своих родителей и поскорее убыть домой.
За последние пол-века я ни разу не переступал порог бывшего дошкольного учреждения на улице Маерчакa, хотя проезжал в нескольких десятках метрах от него сотни, если не тысячи раз. Сейчас там, где я отбывал длинные скучные дни, находится магазин саженцев, но я во всех деталях помню внутренний интерьер огромного, на пять высоченных окон, помещения младшей группы. В голове до сих пор звучат голоса детей, которых я не слышал и не видел с весны 1968 года! Кого—то из них и нет уже на этом свете, я не помню их имён, совершенно не помню лиц, но голоса всё—равно живут у меня в голове. И звучат.
Среди гула десятков голосов в памяти далёким эхом звучит скрежет железных осей игрушечных машин, которыми дети играли в садике, катая их по лакированному паркетному полу. В позднем СССР выпускали довольно «топорные» и уродливые игрушки из штампованной окрашенной жести. Порой нужно было иметь довольно абстрактное мышление, чтобы узнать в подобных образцах их истинные прототипы. Мне посчастливилось застать времена, когда ещё встречались игрушечные самосвалы, пожарные машины и стреловые краны с лебёдкой, сделанные максимально близко к оригиналу. Их уже не было в продаже, но иногда подобные экземпляры встречались в детсадах, или у знакомых повзрослевших школьников.
Из штампованной жести делали самые разнообразные игрушки. От автоматов и пистолетов для мальчиков, до кукол и зверюшек с заводными механизмами для девочек. Но основную массу железных игрушек составляла всё же моторная техника: грузовики, легковые автомобили, подъёмные краны, бетономешалки, трактора и погрузчики. Дети с малых лет приучались к мысли о том, что многие из них получат рабочие специальности и пересядут с виртуальных сидений своей игрушечной техники за рули, педали и рычаги самой что ни на есть настоящей. Ни у кого из моих друзей в семьях не было автомобиля, я лишь изредка ездил на заднем сиденье такси с кем-нибудь из взрослых, мечтая посидеть на водительском месте. Помню, как однажды мне разрешили это сделать.
Вместе с мамой на кафедре философии работал её коллега, фронтовик, орденоносец, Юрий Георгиевич Мaнышев. Один раз Юрий Георгиевич возил нас с мамой куда-то за город на своей двадцать первой «Волге». Помню, как заворожено я смотрел на её бирюзовый спидометр, с каким восторгом трогал блестящую фигурку бегущего оленя на выпуклом капоте. Когда на какое—то время меня оставили в кабине одного, я оторвался по—полной: нажимал на всё, что нажималось, бибикал клаксоном, пытался крутить руль, урчал, подражая звуку мотора, наверняка залил бензином свечи и израсходовал весь запас воды из бачка омывателя «дворников». Это было просто счастье! Пожилой калмык не обращал на меня никакого внимания. Он был спокоен, как тибетский Лама. Это был мой первый и единственный опыт общения с настоящим автомобилем вплоть до получения собственного водительского удостоверения.
Машинки, сделанные из железа, быстро ржавели, издавали ужасный скрежет при движении, но играть ими было чрезвычайно интересно, ведь они максимально приближали ощущения от игры к реалиям взрослой жизни. Мы строили города и дороги, ездили «домой, обедать», «проведать семью», помогали друг—другу в сложных ситуациях, разыгрывали самые невероятные житейские и рабочие сценки, придумывали дорожные приключения и прожи- вали сотни жизненных историй, казавшихся нам актуальными. Для меня было важно, что в игрушечной кабине есть руль и сиденье, а при наличии открывающихся дверей можно было имитировать посадку и высадку шофёра. При помощи специальной рукоятки, приводящей в действие червячный механизм, можно было плавно, именно так, как это происходит у настоящего самосвала, поднимать и опускать кузов. Такие игрушки имели просто чудовищный запас прочности. Сломать их было невозможно, их можно было только разобрать при помощи пассатижей, молотка и отвёртки.
Помню жаркое лето шестьдесят девятого. Я устало плетусь за бабушкой мимо теперь уже не существующего кинотеатра «Мир», пыля сандалиями и везу за собой на верёвочке игрушечный пикап, купленный в попутном магазине. Машинка, то и дело, падает на бок. Мне надоедает ставить её на колёса. Какое-то время игрушка волочится за мной, громыхая по неровной дороге. Жестяной пикап гремит и скрежещет, а бабушка идёт рядом, как будто не замечая этого…
ВРEДНЫЙ:
1. причиняющий вред, опасный,
2. неприязненно настроенный.
Толковый словарь Ожегова
Вредный
«Вредными» некоторые взрослые из моего детства называли упрямых, своенравных и непослушных детей. Не захотел пить тёплое молоко с жирной плавающей пенкой, – «вредный», не лёг вовремя в постель, не так сделал, как кому-то хотелось, – «вредный!» Чем—то не угодил старшей сестре, опять «вредный». Но что такое «вредный» на самом деле? Это приносящий кому-то вред. А кому я навредил тем, что не люблю пенки в молоке, не могу вовремя заснуть, или не хочу закатывать рукава у своей рубашки?
Воспитывая собственных детей, я видел в них всё то же самое, что взрослые видели во мне, когда мне было несколько лет от роду. Уж каких только истерик детки в этом возрасте мне не закатывали. Я, конечно, не дипломированный педагог, и уж точно, не психолог, я прекрасно отдаю себе отчёт в том, что мои дети именно такие, какими воспитал их я, и претензии нужно предъявлять только к себе. Детсад на Маерчакa располагался в жилой сталинке, он занимал левое крыло первого этажа могучей четырёхэтажки. В названии улицы, носившей имя местного еврея-революционера, расстрелянного колчаковцами в 1919 году, слышалось забавное словосочетание, многие её так и называли, – улица имени майора ЧК.
Помню единственное помещение с высоченным потолком. В нём размещалась наша младшая группа, в ней мы проводили всё отведённое на наше воспитание время, там же мы и спали во время дневного сон-часа, места для этого было предостаточно.
Я был обычным сереньким, не претендовавшим на роль лидера и сторонившимся конфликтов неприметным ребёнком. Запомни- лось имя самого непослушного пацана. Его звали Олег Москалёв. Не то, чтобы он шибко докучал, или дрался со всеми, нет. Он демонстративно не подчинялся взрослым и делал, что хотел. Втайне я завидовал этому смелому мальчику. Во время тихого часа все дети делали вид, что спят, а Москалёв мог сидеть и шумно играть на своей кровати, изображая из деревянной указки и своего кулака машину для забивания свай. Он мог бегать и орать, когда и где ему вздумается. Уж не знаю почему, но воспитательницы даже не пытались его приструнить. То ли блатной, то ли псих.
Периодически озвучивая в СМИ сюжеты о безалаберности педперсонала в дошкольных детских учреждениях, нам говорят, что в СССР ничего подобного не происходило. Да было всё то же самое. И то же отношение к детям, и та же халатность. Однажды в нашем садике воспитательница надолго оставила детей без присмотра. Ребятишки стали баловаться, раскачивая стоящее у стены пианино, которое, в конце-концов, упало и убило пятилетнюю девочку. Молоденькая воспитательница объяснила своё отсутствие в группе тем, что дети её не слушались. «Вредничали».
Ниже, в одной из глав, я упомяну парней-студентов, приходив- ших в гости к моей сестре, во времена, когда она училась в университете. Мне было 11-ть, а им уже по девятнадцать, или двадцать лет. Согласитесь, разница в возрасте и жизненном опыте колоссальная. Но парни никогда не подтрунивали надо мной, не задавали провокационных вопросов, а на мои всегда отвечали серьёзно и без тени насмешки. Почти все люди поколения моих родителей, посещавшие наш дом, вели себя ровно противопо- ложно. Их интересовало два вопроса: кого я больше люблю: маму, или папу, и на к ом женюсь, когда вырасту. На вопрос про папу и маму, когда мне его задали впервые, я ответил честно и не задумываясь: «Бабушку!» Потом меня, конечно, научили, как надо отвечать «правильно и политкорректно»: «и маму, и папу». Не понимаю, что могло побуждать взрослых людей задавать подобные вопросы маленькому ребёнку, да ещё в присутствии обоих родителей.
Закомплексованное поколение людей, то ли недолюбленное из-за своего военного детства, то ли недолюбившее, в связи с «отсутствием секса в СССР», державшее свои тайные желания в строгом ошейнике на коротком поводке, как будто отыгрывалось на собственных детях. Эти люди, как старая дева-гувернантка, заставшая воспитанницу за рукоблудием, громко осуждали других за то, чем в тайне регулярно занимались сами.
В шестом классе одна из девочек принесла в школу толстый западно-немецкий рекламный журнал с очень откровенной, даже по сегодняшним мерками, рекламой нижнего женского белья. Естественно, пацаны тут же принялись его рассматривать, хохоча, и живо обсуждая увиденное. Наша классная руководительница быстро пресекла процесс греховного созерцания и вызвала в школу родителей его участников. «Не ожидала от своего сына… И смех у тебя какой-то не детский…", – стыдила меня за моё отроческое любопытство мама, – Самое ужасное, что мне тогда на самом деле было очень стыдно, как будто я был пойман на воровстве, или за подглядыванием в женскую раздевалку. Открыто интересоваться противоположным полом в подростковом возрасте по мнению наших родителей и педагогов было верхом пошлости и бесстыдства.
Семнадцатилетнюю Женю Л из десятого «А», заподозренную в связях с двадцатилетним парнем, принявшую, в ответ на унизительную травлю горсть таблеток элениума, откачали лишь чудом.
Очевидным фактом является то, что с уходом советского поколения, сами-собой начали разрешаться многие проблемы взаимоотношения детей и взрослых, как в семьях, так и в учебно-воспитательных учреждениях. Перестали быть нормой физическое насилие и пошловатые сaльности в отношении общения мальчиков и девочек, вышло из обихода совершенно неуместное прилага- тельное «вредный» по отношению к детям, но унижение, как метод воспитания, как был, так и остался в тренде.
Книжки из детства
Конечно, в детстве мне, как и большинству советских детей, читали книжки, в том числе, достаточно много стихов, но учить их наизусть не требовали, поэтому какое—то время я обходился без публичной демонстрации своих драматических способностей. Но однажды нашей воспитательнице в детском саду в голову пришла идея занять мающихся от скуки детей чем-нибудь полезным, при этом, особенно не напрягаясь самой. Умастив попу на маленький детский стульчик и расположив нас возле себя полукругом, воспитательница попросила каждого рассказать стишок, кто какой знает. Рассказали все. Я до последнего надеялся, что очередь до меня не дойдёт, а когда дошла, почему-то не смог признаться, что не знаю наизусть ни одного приличного стихотворения. Прочитал очень серьёзно и громко, почти прокричал на одном дыхании стих, услышанный ранее от сестры:
Жили-были дед да баба,
Ели кашу с молоком,
Рассердился дед на бабу,
Бац! По пузу кулаком.
Баба не стерпела,
В подполье улетела.
А в подполье – рак.
Кто слушал, тот дурак!
Припоминаю, как наша молодая воспитательница хохотала, а потом сбегала на кухню за бабушкой, которая работала в садике поваром, привела её в группу и рассказала ей о моём публичном фуроре. Я готов был провалиться сквозь землю от стыда…
Наверняка, каждый помнит любимые книжки своего детства. Для меня это были стихи Пушкина, Есенина, Барто, просил бабушку перечитывать по много раз кавказскую сказку «Дзег, сын Дзега», Волкова, Олешу, сборник индийских сказок…
Стишок Эдуарда Успенского «Академик Иванов» я воспринял совершенно буквально, и какое-то время на полном серьёзе побаивался постригаться в парикмахерской, ведь стих, несмотря на предостережение об опасности, никак не объяснял, ПОЧЕМУ нужно бояться этих самых парикмахеров!
Запомнились цветные комиксы из детских журналов «Весёлые картинки» и «Мурзилка». История про мальчика по имени Ань Тхо, вою- ющего со злыми американцами была жёсткой сатирой на войну США с коммунистическим режимом в северном Вьетнаме. Следом шли не менее патриотические саги про заграничные похождения советского паренька, Пети Рыжика, и милую карикатурную малолитражку, которой высокомерные «Мерседесы» и «Кадиллаки» жадничали капельку бензина для участия в гонках. Я обожал рассматривать эти картинки и, конечно же, был на стороне униженных и бедных героев.
Дети народ аполитичный, поэтому первостепенное значение я придавал забавным и динамичным картинкам, не шибко вникая в надписи под ними. От нарисованных историй у меня остались тёплые мальчишеские воспоминания, просто, как о красочных вестернах из далёкого прошлого. Каково же было моё разочарование, когда спустя много лет я отыскал их, пересмотрел, и осмысленно перечитал текст…
Первой толстой книжкой, которую я прочитал самостоятельно, была «Сказка о ветре в безветренный день» Софьи Прокофьевой. В книжке имелись иллюстрации, помогающие представить облик главных героев и действующих лиц. Именно иллюстрации сподвигли меня на самостоятельное чтение.
До начала 70-х годов издавалось довольно много книг для детей, с красочными, или чёрно-белыми картинками, которые было приятно взять в руки. Их можно было просто листать, легко догадываясь о том, что в них написано, не читая. Постепенно картинки в книжках деградировали и к середине 70-х исчезли окончательно.
Не представляю, как можно воспринимать «Волшебника Изумруд- ного города», или «Бурратино» без иллюстраций Леонида Владимирского.
В юности я обожал серию «Библиотека приключений и научной фантастики» с репродукциями Евгения Мигунова. Без его иллюстраций многие не осилили бы довольно слабые по содержанию «Приключения капитана Врунгеля» Андрея Некрасова, или пенталогию Евгения Велтистова про Электроника и собаку Рэсси. Совершенно непонятно, почему у нас в стране перестали иллюстрировать художествен- ную литературу. После чтения книжек вслух кем-то из взрослых, можно было часами рассматривать нарисованные сюжеты, в сотый раз прокручивая в голове их содержание. Бывали, конечно, и исключения. Например, за цветные иллюстрации к советскому восьмитомнику Чехова, или визуализацию глав самого известного романа Дефо, неким столичным художникам стоило бы, по-хорошему, руки оборвать, но, пожалуй, пусть уж лучше так, чем совсем без картинок.
Сегодня, в считанные секунды можно получить доступ к любому интересующему нас тексту. Но разве могут сравниться ощущения от электронных копий с бумажными оригиналами, тем более с книжками, которые мы держали в руках много лет назад.. На страницах этих книг всегда можно отыскать следы, и отметины, сделанные нами в детстве. Щелчок секундомера, и в мыслях мы уносимся со своими воспоминаниями, как будто падая в головокружительную пропасть на невидимой тарзанке. Достаточно пары секунд, чтобы «вспомнить всё». То самое время, ту обстановку, и сопутствующие ей события, чтобы почувствовать что—то необъяснимое, эти самые «бабочки в животе».
Повесть Владислава Крапивина «Тень каравеллы» я прочитал летом 1973-го года, а затем перечитывал и в третьем, и в четвёртом классах. Эта книжка и сейчас физически существует. На её твёрдой обложке имеется большая клякса от пролитой зелёнки. Сестра обрабатывала пуповину котёнку, которого я принёс домой, и нечаянно пролила пузырёк с брильянтином. На полях книги остались нарисованные мной кораблики и пятиконечные звёзды, а на её обратной стороне сохранился коричневый полукруг от кружки с чаем, или кофе. Не подумайте, что я так обращался со всеми книжками, просто «Тень каравеллы» была особенной, я даже спал с ней. На сборнике стихотворений Агнии Барто, имеются мои совсем ранние каракули и росчерки, оставленные явно в отсутствие взрослых, во времена, когда я ещё, пожалуй, не умел как следует говорить. На одной из страниц неумело вырезана ножницами иллюстрация со щенком. Соглашусь, варварство, зато какие эмоции возникают теперь, при просмотре этих детских художеств!
Была такою страшной сказка,
что дети вышли покурить…
В. Вишневский
Верлиока
Когда мне было три года, мама купила детскую брошюру со сказкой про некое исчадье ада, по имени «Верлиoка». Я называл его «Вилёка». Это был первый «хоррор» в моей жизни. Вот фрагмент той сказки, который оставлю без комментариев и правки («Интернет»).
«Жили-были дед да баба, а у них были две внучки-сиротки, такие хорошенькие да смирные, что дед с бабушкой не могли ими нарадоваться. Вот раз дед вздумал посеять горох. Посеял – вырос горох, зацвел… Как назло деду, воробьи и напали на горох. Дед видит, что худо, и послал младшую внучку прогонять воробьев. Внучка села в поле гороха, машет хворостиной да приговаривает: „Кишь, кишь, воробьи! Не ешьте дедова гороху!“ Только слышит: в лесу шумит, трещит, – идет Верлиока, ростом высокий, об одном глазе, нос крючком, борода клочком, усы в пол-аршина, на голове щетина, на одной ноге в деревянном башмаке, костылем подпирается, сам страшно ухмыляется. У Верлиоки была уже такая натура: завидит человека, да еще смирного, не утерпит, чтобы бока не поломать. Не было спуску от него ни старому, ни малому, ни тихому, ни удалому. Увидел Верлиока дедову внучку – такая хорошенькая, ну как не затрогать ее? Верлиока сразу убил ее костылём. Дед ждал-ждал, – нет внучки, послал за нею старшую. Верлиока и ту прибрал. Дед ждет-пождёт, – и той нет! И говорит жене: „Иди-ка ты, старуха, да скорей тащи их за ухо“. Старуха с печки сползла, в углу палочку взяла, за порог перевалилась, да и домой не воротилась. Дед ждет внучек да старуху – не дождется. Встал он из-за стола, надел шубку, закурил трубку, помолился богу, да и поплелся в дорогу. Приходит к гороху, глядит: лежат его ненаглядные внучки, точно спят, только у одной кровь, как алая лента, полосой на лбу видна, а у другой на белой шейке пять синих пальцев так и оттиснулись. А старуха так изувечена, что и узнать нельзя вся в крови лежит и кости переломаны…»
Правда, весело? В советское время по этой сказке был снят мультфильм. В книжке имелись картинки. Знакомый отца, наш сосед по даче, дядя Лёня, на лицо был вылитый Верлиока. Я даже побаивался его из-за такого сходства. Однажды, когда я укладывался спать, Леонид Иванович зашёл к нам в гости. Страшный, как чёрт. Я опасливо выглядывал из-под занавески комнаты, а когда он ушёл, сбивчиво объяснял маме, кто это был, – ну, Вилёка, же! Мама не поверила. Посмеялась и строго отправила меня спать.
С четырёх лет я не ходил в садик. Уходя на работу, родители оставляли меня дома одного. Это было моё любимое время суток. Доставал бумагу, краски, карандаши, и садился за маленький столик у дивана. Мне нравилось моё творчество. Не отвлекали ни телевизор, по которому нечего было смотреть, ни компьютеры, которых ещё не существовало, ни друзья, поскольку на новом месте я не успел ими обзавестись. Завидую детям, – им почти никогда не бывает скучно. При этом кажется, что время впереди нескончаемо много. С годами всё наоборот, оно льётся впустую, как вода из открытого крана, будто ждёшь, когда оно уже перестанет течь, и всё закончится.
Помните, как скрипел карандаш в детстве? Его вкус на языке, как вы радостно принесли только что нарисованный рисунок родителям, как мама, или папа, чтобы не обидеть, попросили у вас картинку, якобы, на память, как вы снизошли до того, чтобы подарить её, сделав наивную дарственную надпись с повёрнутыми в другую сторону буквами «Е» и «Я».
Вам было жалко расставаться со своим «шедевром», но как откажешь родным? В четыре с половиной года я рисовал комиксы, наверно под впечатлением серий, увиденных в детских журналах. Про придуманного мной цыплёнка-мотоциклиста, в каске из яичной скорлупы, про роботов и рыцарей, про солдат, побеждающих фашистов. Жаль, те рисунки не сохранились.
Barbiе: Я за советские мультфильмы. Они учат добру.
Rebel: Да ничему они не учат. Это видно по взрослым,
выросшим на советских мультфильмах.
(из обсуждения на интернет—форуме)
Мультфильмы
Говоря о книгах и комиксах моего детства, стоит хотя бы вскользь упомянуть о мультфильмах и телевидении конца шестидесятых – середины семидесятых годов прошлого века. Программ было всего две, – центральная и местная, вещание велось в строго отведённые дневные часы. Ждать разнообразия не приходилось, часто повторяли одни и те же сюжеты, Мультфильмы показывали еженедельно, но длились они обычно не более 10—15 минут, как правило, шедеврами назвать их было сложно. При том, что художников в данной сфере хватало, качественную продукцию производили в основном в 50-е годы. Полнометражные мультфильмы показывали редко. О муль- типликации компании Уолта Диснея до перестройки в нашей стране люди знали лишь понаслышке.
В семидесятые годы встречались, мягко говоря, странные анимационные продукты. «Голубой щенок», «В синем море, в белой пене», «Шкатулка с секретом», «Загадочная планета». Заслуженный успех музыкальных мультяшек «Бременские музыканты», или «В порту» напрочь нивелировался низким качеством прорисовки персонажей. Хуже двухмерных тяп—ляп дешёвок, вроде «Лоскутик и облако», были только неуклюжие кукольные мультфильмы про зайку Петю. В восьмидесятые годы появились интересные пластилиновые технологии, но просуществовали они недолго. Мне нравятся мультфильмы Гарри Бардина, например, «Банкет», или «Брак», но при чём здесь дети? Это анимация для взрослых, причём, ещё и не для всех.
Мне никогда не нравились тупые малобюджетные мульт- сериалы, типа: «Ну, погоди!», «Трое из Простоквашино», или история про каких-то гламурных котов и собак-мушкетёров. Адресно-детскую продукцию не производят уже несколько десятилетий. Получается то мрачная «Шинель» по Гоголю, опять же, совсем не для детей, то потужный эрзац в чёрно—синих тонах по мотивам сказки Гaуфа. Несколько пожилых бородатых художников заперлись в студии и, видимо, забыв про то, что главным потребителем мультипликационных фильмов являются дети от 3-х до до 10-ти лет, трудятся над экранизацией «Старика и моря» по Эрнесту Хемингуэю. Зато в алчной и бездуховной Америке: «Спирит-душа прерий», «Белоснежка», «Русалочка», «Wall-E», «Роботы», «Дом-монстр», «Душа»… Неужели американцы, «пендосы», какими их нам пытаются представить, на самом деле такие «тупы-ы-ые»?
Воспоминания о книгах, звуках, или картинках из моего детства тесно связаны с восприятием мира всеми органами чувств. Я помню запах, который со временем перестал ощущать. Не потому, что его больше нет. Это запах детства, он ушёл вместе с ним. Его уже нельзя почувствовать, как раньше, его можно только вспомнить. Запах влажных акварельных красок, или голых детских коленок, поджатых к лицу, запах полыни. Её полно вокруг, но только в детстве она бывает такой высокой и ароматной. Запах прибрежных водорослей на закате, у реки, запах мокрой дворняги, её щекотный шершавый язык у себя на виске… Взрослые не чувствуют запахов и ощущений детства, но они никуда не делись, они остались прежними. Если вспомнить. Если опуститься на колени.
Два клёна
Однажды, где-то в конце шестидесятых годов, мама сводила меня в городской театр драмы имени Пушкина на детский спектакль по сказке Евгения Шварца «Два клёна». Если кто-то не знает, это сказка про материнскую любовь, о том, как Яга заколдовала двух братьев, превратив их в два клёна, и о том, как мать спасала их, жертвуя собой.
Спектакль оставил не самые приятные воспоминания. Кстати, удовольствия от театральных постановок я не испытываю до настоящего времени просто потому, что мне не нравится театр, как вид искусства. Мы с мамой сидели на нижнем правом двухместном балконе, у самой сцены. В разгар постановки прямо перед нами выскочила злобная Яга в лохмотьях, с огромным носом, она стала громко кричать, расставив тощие ноги и когтистые руки: «Где здесь ма-а-лень-кие дети? А ну по-да-а-йте мне их!!!» Старуха стара- тельно высматривала мелюзгy в зале, наконец, её жуткий взгляд впился прямо в меня. Видимо, актриса была от бога, я по-настоящему испугался и спрятался за ограждением балкона, присев на корточки, схватив маму за ноги, чем очень её рассмешил. Наверно, это было и правда смешно, увидеть испуг ребёнка, впервые оказавшегося в театре в метре от сцены.
Лет через двадцать я ещё раз побывал в том театре на выступлении Юрия Горного, демонстрирующего возможности человеческой памяти. Сидя в зале, я смотрел сквозь сверхчеловека на сцене и вспоминал спектакль, увиденный в четырёхлетнем возрасте, в этом самом театре на этой самой сцене.
Отрывок из спектакля «Два клёна» по сказке Е. Шварца
Василиса: А ты себя, видно, любишь?
Баба-Яга: Мало сказать люблю, – я в себе, голубке, души не чаю. Тем и сильна. Вы, людишки, любите друг дружку, а я, ненаглядная, только себя самоё. У вас тысячи забот – о друзьях да близких, о детишках своих, а я только о себе, лапушке, и беспокоюсь, никто мне не нужен.
Василиса: Освободи моих сыновей.
Баба-Яга: Смотрите, что выдумала! Оживлять их ещё! Они деревянные куда смирнее. Уж такие послушные, из дому шагу не ступят, слова не скажут дерзкого! Одного я только понять не могу: как детишки не прискучили тебе, пока маленькими были да пищали с утра до вечера без толку? Я, красавица, давно бы таких, – раз, да и за окошко!
Василиса: Вот и видно, что ты баба-яга, а не человек. Разве малые дети без толку пищат? Это они маму свою зовут, просят по-своему: «Мама, помоги!» А как поможешь им, тут они и улыбнутся. А матери только этого и надо.
Баба-Яга: А как подросли твои крикуны да стали чуть поумнее, разве не замучили они тебя своеволием, не обидели непослушанием? Ты к ним – любя, а они тебе – грубя. Я бы таких сразу из дому выгнала!
Василиса: Вот и видно, что ты баба—Яга, а не человек. Разве они нарочно грубят? Просто у них добрые слова на донышке лежат, а дурные на самом верху. Тут терпение надо иметь…
Текст удалён…
Что солдаты носят под пилотками?
Раз в неделю, по выходным, мы всей семьёй ходили в старую депoвскую баню. Она была неподалёку, на нашей улице. Я шёл впереди, с папиным фонариком, светя в темноте куда угодно, только не на дорогу. Следом, вступая в попутные лужи и чертыхаясь, плелась наша семья. После бани мама заставляла меня надевать косынку под шапку, закрывая уши, которые в детстве у меня часто болели. Я очень стеснялся, но когда мама, наклонившись ко мне, сказала шёпотом, что у солдат, которые тогда выходили строем из той же бани, под пилотками «повязаны косыночки» я, поверив, согласился и больше не перечил.
Мальчишки всегда тянутся к оружию и военным играм. Дети совершенно по-взрослому целятся друг в друга из своих игрушечных автоматов, нажимают на спусковой крючок, падают, изображая смерть, совершенно не понимая, что это такое. Взрослые всячески поощряют мальчишеские стремления казаться «большими», умиляются, глядя на собственное чадо: «Ну, совсем солдат у меня стал!» Правда, когда дело доходит до реальных боевых действий, не все с радостью отправляют своих мальчиков в окопы.
Я носил солдатский ремень, бабушка покупала мне звёздочки и кокарды в местном «Военторге», которые я, как умел, пришпан- доривал себе на шапки. Как и все мои ровесники я судил о службе в армии по фильмам «На дальней точке», «Солдат Иван Бровкин», «Максим Перепелица»… Ещё встречались инвалиды с ампути- рованными конечностями. Они не носили наград, ограничиваясь орденскими планками на своих пиджаках. Значение планок было понятно лишь узкому кругу посвящённых. Юбилейной мишуры в те годы было выпущено не много, поэтому увидев пятидесятилетнего мужчину в пиджаке с орденскими планками можно было не сомневаться, что перед нами фронтовик. Долгое время слово «ветеран» относилось исключительно к людям мирного труда, но со временем ветеранами стали называть всех, имеющих хоть какое-то отношение к военному периоду 1941—1945 годов. В какой-то момент мне даже казалось, что ветеранов в нашей стране больше, чем просто людей зрелого возраста.
Знаю лично с десяток молодых парней, награждённых орденами и медалями. Ни один из них не вызывал у меня чувства зависти. В моём представлении получить медаль «За отличие в охране государственной границы СССР» мог только человек, благодаря действиям которого была пресечена реальная попытка нарушить государственные рубежи. На моих глазах такую награду вручили отличнику боевой и политической подготовки, находящемуся на хорошем счету у командования. Просто потому, что из округа пришла разнарядка и указание наградить какого-нибудь хорошего парня для поднятия воинского духа среди личного состава и авторитета части. Потом этот достойный человек появится со своей медалью где-то на гражданке, где люди будут думать, что он герой-пограничник, ведь на лбу у него не написано, что он всего лишь бывший штабной писарь, точно такими же медалями награждали героев-защитников острова Даманский в 1969 году.
Другого моего знакомого наградили медалью «За спасение утопающих» при совершенно комичных обстоятельствах. Он спрыгнул с пирса и вывел буквально за руку на берег стоящих по пояс в воде жену и десятилетнюю дочь офицера, наблюдавшего за процессом с берега. При этом «утопающие» ухохатывались над своей неловкостью при подъёме по трапу, не оснащённому леерами. Парень, безусловно, достоин всяческих похвал, возможно даже отпуска на малую родину, но причём здесь спасение утопающих. Увидев героя с такой наградой, вы наверняка представите его в образе Шараваша Карапетяна, спавшего десятки жизней с десятиметровой глубины, и потерявшего вследствие своего гражданского подвига здоровье.
Между тем, в моём окружении были люди, действительно достойные наград. Больше двух суток чинить и собирать корабельные турбины во время шторма в открытом море вызвались не отнюдь не отличники боевой и политической подготовки, а пять недисциплинированных старослужащих во главе с «пьяницей» мичманом, пока остальной экипаж ждал, чем закончится дело. В качестве поощрения героям ограничились вынесением благо- дарностей.
Когда я вижу чёрный крест ордена «За личное мужество», возникает ощущение, что он был специально создан для того, чтобы им награждать посмертно. Хорошего парня, моего ровесника и коллегу в 90-х убил наркоман. Совершенно неожиданно для всех, во время рядового рейда, пьяный подонок пальнул из ружья через окно частного дома в ничего не подозревающего, единственного среди всех присутствующих милиционера в форме. Трагическая случайность. Чертовски жаль парня, но точно таким же орденом посмертно наградили отстреливающегося до последнего патрона героя, подорвавшего себя вместе с пытающимися пленить его врагами. Может, я чего-то не понимаю, но мне никогда не хотелось иметь ни медаль, ни орден, ни прижизненно, ни посмертно.
Текст удалён…
В конце шестидесятых годов в городе находилось много солдат, призванных на переподготовку, так называемых «партизан». Эти солдаты резко отличались от солдат-срочников своим зрелым возрастом и странной формой одежды. Почему-то им выдавали обмундирование старого, фронтового образца. Причём, форма на этих солдатах выглядела потрёпанной и выгоревшей на солнце. Создавалось впечатление, будто этих людей телепортировали к нам из прошлого. Парней в форме десятками перевозили по городу в грузовиках с брезентовым верхом. Вроде бы, «партизан» задействовали на строительстве объектов, связанных с реактором в закрытом городке-спутнике. Мама научила меня махать рукой им вслед. Мне это нравилось, потому, что всегда кто-то из этих солдат в ответ махал мне. Я был уверен, что они делают это так же искренне, как и я. Зато я терпеть не мог хлопать в ладоши в цирке. Доходило до ругани и угроз, что если не буду, как все, в цирк больше не пойду. И сейчас, когда дело доходит до аплодисментов, я делаю это формально и неохотно. Теперь в обществе прижилось ещё американское одобрительное улюлюканье в процессе хлопанья в ладоши, – хоровое гудение на высокой ноте: «Уууууууууу»… Апофеоз массового идиотизма.
Мне не комфортно находиться в толпе. Чувствую, что мной манипулируют. Никогда не смеюсь в кинотеатре, когда гогочет весь зал, я вообще не умею бурно выражать своё настроение на публике, мне это не свойственно, но временами я могу испытывать такие сильные эмоции от увиденного или услышанного, что на несколько секунд глаза наполняются слезами и становится трудно дышать. Главное, чтобы никто этого не заметил.
Мечты о прошлом
Настоящие горы я увидел во втором классе. Недалеко от города имеется целый комплекс скал причудливой формы под общим названием «Столбы». Одну из этих скал, «Токмак», хорошо видно с набережной Енисея, из центра города. Думаю, что нет ни одного взрослого красноярца, хоть раз не бывавшего на «Столбах». Со стародавних времён столбисты ходили в горы в широких шароварах, не стесняющих движения, и в самых обычных резиновых галошах. Восхождения не прекращались даже зимой. В таких же точно галошах я застал столбистов семидесятых. То, что эти люди вытворяли без страховки на высоте многоэтажных высоток впечатляло своим безумием. В первые же мои походы в заповедник с отцом мы побывали на вершинах Первого и Второго столбов. Это, конечно, не Гималаи, и даже не Альпы, но скалы всё же достаточно высокие, опасные, и местами труднопроходимые. На «Столбах» проходят серьёзные соревнования по скалолазанию, там имеются свои легенды и свои герои. На Троицком кладбище, справа от церкви, метрах в десяти от неё, находится могила молодого парня, погибшего при восхождении на «четвёртый столб» в шестидесятых годах. На памятнике, сооружённом в виде скалы, имелась старая пожелтевшая фотография того паренька и «столба», с которого он сорвался. Я помню ту могилу с раннего детства и всегда останавливаюсь возле неё, когда бываю у Святотроицкого храма. В 2018 году я побывал там в очередной раз и увидел, что надгробье отреставрировали. Теперь там нет ни фотографии, ни сходства памятника со скалой, его просто заляпали бетоном, загладив поверхность ладонями, после чего он стал похож на нелепое подтаявшее эскимо.
По мнению учёных, «Столбы» относительно молоды в геологическом смысле, поэтому они крепкu, там нет осыпей и камнепадов, они не так высоки, чтобы на них могли образоваться ледники, хорошо проветриваются и не имеют острых краёв. Для того, чтобы при падении свернуть себе шею, достаточно даже нескольких метров, а чтобы разбиться в лепёшку уже наверняка, необходимо два, или три десятка саженей. Именно на таких высотах происходят самые активные и массовые перемещения дилетантов по «Столбам» без страховки.
На самой вершине Первого столба, куда мы поднялись с отцом, словно гигантское овальное яйцо, возлежал валун, размерами с внедорожник. Отец, бывавший на этих скалах много раз, подошёл к камню, лежащему на возвышении, уперся в него плечом и с небольшим усилием покачал его. Амплитуда была весьма приличная. Увиденное произвело на меня впечатление. На высоте сорокаэтажного дома, соприкасаясь со скалой площадью, измеряемой несколькими квадратными дециметрами, почти на самом её краю лежит огромный, абсолютно гладкий выветренный валун, который можно покачать даже одной рукой. И он не падает!
Мне всегда нравилось рассматривать горы и выветренные скалы с выступающими глыбами древних пород, огромные сопки, и просто камни, попавшие ко мне в руки. В детстве, проезжая на поезде, или в автобусе по дикой пустынной местности, разглядывая через окно неровности ландшафта, я мечтал не просто узнать, а увидеть собственными глазами, как и из чего миллионы лет назад они образовывались, приобретая известные очертания. Не менее интересно было бы посмотреть на все эти нагромождения камней, когда им было несколько сотен, или тысяч лет, когда они только-только остыли от лавовой деятельности планеты и стали пригодны для восхождений.
Я абсолютно убеждён в том, что поверхность Земли в далёкие времена была совершенно другой, не такой, какую нам показывают в научно-популярных фильмах про динозавров. Представить себе не могу, как образовывались Гималаи с их восьмитысячниками, или одиннадцатикилометровая яма на дне Тихого океана. Меня так же совсем не устраивают теории возникновения углеводородов. Какими же должны были быть леса, чтобы погибнув, они образовали многометровые слои угля, а так же способствовали образованию гигантских залежей нефти и газа. При этом кости динозавров возрастом в сотни миллионов лет где-нибудь в Аризоне, валяются практически на поверхности, недалеко от тех же угольных шахт.
В мечтах мне хотелось быть свидетелем того, как зарождалась жизнь на Земле, увидеть, как по знакомым мне местам бродили динозавры, в небе парили летающие монстры, а в непроходимых тропических лесах ползали огромные насекомые. Я бы очень хотел увидеть Антарктиду до её обледенения и то, что было на месте великих пустынь, узнать, откуда там взялся весь этот песок, и чем он был раньше. Почему в одной и той же местности, например, в бассейне моей родной реки столько мелких круглых, или плоских камешков, и почти все они разного цвета? Но, даже если бы каким—то чудом я оказался в доисторических временах, то с большой вероятностью не прожил бы в том мире и нескольких часов, настолько он представляется опасным и агрессивным.
Если бы я мог воспользоваться машиной времени, куда бы я переместился, куда бы отправился путешествовать при условии, что времени у меня не много? Могу сказать определённо, первым делом в середину 60-х годов прошлого века. Туда, где я родился, где ещё живы мои молодые родители. Очень хотелось бы посмотреть на них счастливых и любящих друг—друга. Ведь было же когда—то такое время. Мечтаю поговорить с отцом, увидеть бабушку, просто помолчать, понаблюдав за ними со стороны.
Когда я смотрю фильм «Назад в будущее», всегда завидую главному герою, оказавшемуся в недалёком прошлом. Интересно было бы взглянуть на то, что останется от нашей цивилизации после её исчезновения. На заброшенные города, на все эти «Эйфелевы башни», «Кремли» и «Капитолии», на вид из моего окна через миллион лет. Не сомневаюсь, что человеческая цивилизация просуществует не слишком долго.
С какого места, с какого возраста я хотел бы начать свою жизнь заново? До какого момента я не наделал серьёзных ошибок, таких, что не будь их, моя судьба могла бы сложиться намного удачней? Мне нравились старшие классы, но в то время со мной уже не было отца. Весёлое было время в девяностых, но я не хочу снова оказаться в паутине тех бытовых и личных проблем. Очень хотелось бы избежать случайных браков, причём, слово «очень» в данном случае можно употребить несколько раз. Но, даже чудом попав в те, или иные времена, я вряд ли смог бы изменить своё окружение, а соответственно, не мог бы в необходимой степени повлиять на собственную судьбу.
Когда-то я мечтал о медицинском образовании и соответ- ствующей моим интересам работу. Вполне возможно, что юридический факультет и был той бабочкой, наступив на которую я изменил ход собственной жизни не в лучшую для себя сторону. Наверняка стоило бы посерьёзней относиться к своему здоровью, пересмотреть свою демографическую программу и уехать в начале девяностых годов куда-нибудь подальше от Евразии.
Кого из ранее живущих я мечтаю увидеть? Прежде всего, своего отца. Потом бабушку, интересно было бы познакомиться с дедом, которого я не застал, пообщаться с прадедами и прабабками, спуститься вглубь истории своей семьи хотя бы на несколько поколений. Очень хотелось бы увидеть древних художников, расписавших пещеру Альтамира, понаблюдать со стороны за неандертальскими людьми, встретиться с Сократом, или Василием Блаженным. Из более поздних я хотел бы повидать Александра Сергеевича. Пушкин мне очень интересен. Гораздо интересней всех императоров, царей, философов и полководцев вместе взятых. К сожалению, нельзя вырвать три волоска из своей бороды, сказать «трах-тибидух», хлопнуть в ладоши, и получить желаемое. На последнем месте основатели основных религий. Но я очень боюсь разочароваться в этих людях, если они действительно когда-то жили и были.
Отец
Когда я учился во втором, или в третьем классе, у моей одноклассницы, Оли Туктаровой, умер папа. Девочка всё же пришла в школу. О трагедии в её семье наш класс предупредила наша учительница, обратив внимание, что вести себя по отношению к Оле в этот и ближайшие дни надо с пониманием, и «не ходить на ушах на переменках», как это у нас обычно бывало. Я был мал, но запомнил тот день. Я невольно наблюдал за Олей со стороны, пытаясь понять её чувства. Ребёнок вёл себя, как обычно. Если бы не предупреждение учительницы, никто бы не догадался о том, что у девятилетней девочки случилось горе. Я с ужасом пытался ставить себя на её место. Мне казалось, что если бы, не дай бог, подобное случилось с моим отцом, бабушкой, или мамой, я не смог бы отвлечься на уроки, или будничное общение с соседом по парте. В девять лет я хорошо представлял ужас потери близкого человека, хоть ещё и не сталкивался с ним в своей жизни лицом к лицу. Смерть отца в раннем возрасте ребёнка случается, как правило, не часто. В подавляющем большинстве мои одногодки оставались без отцов по иным причинам. Это считалось естественным ходом жизни. Родители развелись, эка невидаль. Вон сколько, так называемых, «неполных» семей. В молодости многое кажется поправимым, но чем старше я становлюсь, тем категоричнее осуждаю семейные разводы, как формы решения проблем.
Отец работал на серьёзном заводе, так называемом «почтовом ящике», всю жизнь на одном месте, до самой смерти. Завод выполнял заказы для оборонки, там делали детали для космических спутников и, вероятно, кое-чего ещё. Работа отца была, как у Гоги (он же Жора, он же Гоша, он же Юра, он же Гoра) из фильма «Москва слезам не ве- рит». КБ, состоящее из десятка сотрудников было закрытым, я видел лишь одну фотографию, где папа стоял с коллегами. Все в одинаковых халатах, штанах и бахилах, с одинаковыми шапочками на голове. По местному телевидению не раз показывали, как на первомайских и ноябрьских демонстрациях несли огромный отцовский пор- трет. У отца имелись десятки рацпредложений и патентов на изобретения, он хорошо зарабатывал, дважды избирался депутатом в районный Совет. Статус его был однозначно высок.
Друзей у папы в общепринятом понимании не было, в гости к нам никто не приходил, за исключением одного странноватого, часто безработного таёжника, дяди Миши Николаевского. Это был человек без специального образования, внятной профессии и постоянного места работы. Глядя на танцующего Челентано в фильме «Блеф», всегда вспоминаю нашего знакомого.. Дядя Миша читал философскую литературу, смело рассуждал на околона- учные темы, и тщательно следил за своим здоровьем, постоянно изготавливая и принимая различные природные стимуляторы, добытые им в тайге.
Николаевский был старше отца лет на семь, и прожил до 89-ти лет. Во времена, о которых идёт речь, дядю Мишу и отца связывала страсть к охоте, рыбалке и таёжным приключениям. Надо признать, Николаевский был неплохим дядькой, не пил, не курил, не сквернословил, вёл активный образ жизни, увлекался фотогра- фией, был аскетичен и неприхотлив в быту. Мне нравилось слушать его таёжные байки. Папин друг был очень жизнелюбивым человеком, с ним было весело и интересно. Иногда, по пути домой, возвращаясь из тайги со своим огромным неподъёмным рюкзаком, пропахшим костром, он заходил к нам и угощал нас грибами, ягодами, орехами, или ещё какой-нибудь лесной снедью.











