Читать онлайн Стая забытых богов
- Автор: Анела Калинор
- Жанр: Триллеры, Мистика, Фольклор
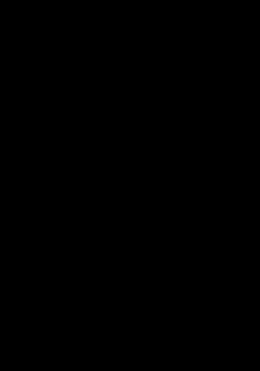
Я никогда не был из тех, кто клюёт на деревенские сплетни. Пятьдесят лет на спине – половина в армии, где пуля свистит честно, без всяких "духов" или "кары небесной". Видел я смерть: в пыли афганских барханов, в грязи учений, в глазах парней, что не вернулись. Всё это – от людей, от ошибок, от голода или злости. Никаких теней из тайги, никаких голосов с гор. Когда в нашей алтайской дыре зашептались о медведях, что стаями сползают с хребтов, я только фыркнул: "Голодные твари. Отстреляем – и порядок".
Всё закрутилось в тот сентябрьский вечер – конец месяца, когда воздух в горах становится острым, а листья желтеют. Мы собрались за ужином всей оравой: жена моя, Таисия, с её вечными руками в муке от теста; дочь Настя с мужем, тихим инженером из Барнаула; и внуки – Алёшка, семилетний сорванец, и малышка Аня, что ещё в пелёнки путается, но уже глазёнки таращит на всех. Печь пыхтела, от неё шёл жар, смешанный с запахом тушёной говядины, картошки из погреба и свежих огурцов с грядки – последних в сезоне.
Настя хвасталась, как в городе на работе её повысили – "теперь зарплата, как у твоего бывшего капитана, пап", – и я посмеивался, наливая всем по стопке самогона: прозрачного, с привкусом полыни и можжевельника, что сам гнал в сарае. Таисия подкладывала еды, приговаривая: "Ешьте, ребятки, зима на носу, сил набирайтесь". Чувствовал я себя в ладу с миром: семья цела, дом полон, а завтра, глядишь, на реку с удочкой сгоняю – хариус ещё должен клевать. Но вот Настя вдруг осеклась, уставилась в окно, где за стёклами уже густела тьма, и произнесла, ковыряя вилкой в тарелке:
– Пап, а вы в курсе, что медведи опять шастали? С гор прут, как никогда. Старики у магазина сегодня говорили: целая орава прошла через верхний луг. Никто такого не помнит – обычно по одному шастают, а тут стаями.
Таисия замерла, ложка в её руке дрогнула, и она быстро, почти тайком, осенила себя крестом – старый обычай, от матери перешедший. Я заметил, но промолчал.
– Верно, – подхватила она, голос тихий, но с той дрожью, что выдаёт бабьи страхи. – У Ивановых вчера ночью корову нашли – в клочья. Шкура висит лохмотьями, мясо обгрызены до костей, а кишки… ну, лучше не вспоминать. Следы такие, что собаки от них шкуру топорщат.
Алёшка, старший внук, подскочил на стуле, глаза округлились:
– Дедушка, а они нас не сожрут?
Я отхлебнул самогона, откинулся назад и усмехнулся, похлопав пацана по плечу мозолистой ладонью.
– Да бросьте вы эти сказки, – отрезал я. – Медведи и медведи, голодные, как чёрт. Лето сухое было, пожары в тайге половину ягод спалили, орехи сгинули – вот и спускаются. Ничего тут мистического. Завтра с ружьём пройдусь по тропам, гляну, что к чему. А если припрутся – патрон в башку, и привет. Не впервой.
Настя нахмурилась, её муж, Сергей, поправил очки и кивнул, но в глазах его мелькнула тень – городской, он всегда был осторожен, как кот на крыше.
– Пап, не всё так просто, – упёрлась Настя. – Дед Пётр вчера на завалинке сидел, травил: это духи гор озлобились. Шахтёры вверху, на перевале, роют без меры – землю ковыряют, как червяки, реку химией травят. А медведи – стражи, вот и послали. Никто в памяти не держит, чтоб столько сразу. В прошлом году – пара шатунов, и то по весне.
Я махнул рукой, налил себе добавки – самогон обжёг глотку, как надо. В груди что-то шевельнулось – не страх, а раздражение, как от назойливой мухи. За окном ветер и впрямь зашумел, хлестнув по стеклу жёлтым листом, и Алёшка прижался к матери, а Аня захныкала в колыбельке. "Чушь собачья, – подумал я. – Климат меняется, вот и всё. А бабы – они всегда в панике". Ужин доели молча: обнялись и разошлись по комнатам. Таисия прилегла с головной болью, а я вышел на крыльцо, закурил. Ночь была густой, безлунной, тучи сползали с хребтов, как тяжёлая шкура, и с реки доносился плеск – ровный, успокаивающий. "Медведи, – буркнул я себе под нос, выдыхая дым. – Просто медведи. Утро разберёмся".
На рассвете, когда небо ещё серое, а иней на траве хрустит под сапогами, я набрал по старому телефону Мишу – кореша с армии, теперь егеря в заповеднике. Борода у него седая, глаза – цепкие, как капкан. "Сгоняем на реку, – сказал я. – Удочки кинем, проветрим мозги. А то эти байки про духов уже в печёнках сидят". Он хмыкнул в трубку: "Давай, Никол. Только винтовку не забудь. Нынче в тайге неспокойно – вчера следы свежие видел, стая прошла".
Собрались мигом. Мой УАЗ – "буханка" старая, с вмятинами от службы, – заурчал у калитки, фары прорезали туман. Кинул в кузов снасти: удочки с катушками, свинец для грузиков, термос с чаем и бутеры с салом; патроны в карман – на всякий пожарный. Миша подкатил на моторе, ввалился в кабину – пахнуло потом, хвоей и табаком. Поехали по ухабам: через деревню, где избы дремали под серым небом, дымки из труб стелились низко, а собаки лениво тявкали из-за заборов; потом вверх, по серпантину, где скалы торчали, как кости из земли, а сосны смыкались над головой.
Дорога тянулась, колёса скребли по камням, воздух в кабине был сырым, с привкусом мокрой коры. Болтали о ерунде: о цене на бензин, что кусалась, как клещ; о том, как Настя в Барнауле устроилась, но всё равно тянет в горы; о внуках моих, что растут не по дням, а по часам. Миша курил, выдыхая в щель окна, и вдруг посерьёзнел, сбросил газ – УАЗ зафыркал на подъёме, как обиженный конь.
– Слышь, Никол, – начал он, не глядя на меня, пальцами барабаня по баранке. – Ты про этих медведей… не чушь же это? Я вчера в патруле был, следы насчитал – штук десять. Не шатуны одиночки, а как волчья стая: лапы в ряд, когти глубокие. И не просто спустились – прошли через луг, где коровы пасутся, и корову одну утащили. Шкуру оставили висеть на заборе, как флаг.











