Читать онлайн Достопочтенное общество искателей основания. Краткая история двухтысячелетнего недоразумения
- Автор: Сергей Кирницкий
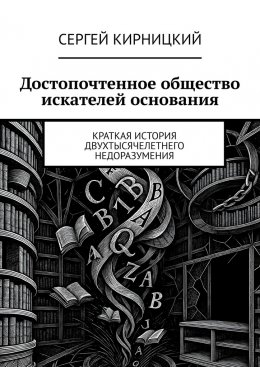
© Сергей Кирницкий, 2025
ISBN 978-5-0068-0523-1
Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero
ПРЕДУВЕДОМЛЕНИЕ АВТОРА
Дорогой читатель,
Позвольте начать с необходимого признания: эта скромная работа ни в коем случае не претендует на оригинальность. В конце концов, указать на отсутствие того, что две с половиной тысячи лет ищут лучшие умы человечества, – это примерно как заметить, что король голый. Требуется не особая проницательность, а лишь некоторая… скажем так, непочтительность к академическим мантиям.
Мы всего лишь берём на себя смелость зафиксировать одно небольшое недоразумение, начавшееся, по-видимому, в тот момент, когда первый философ решил, что у всего должно быть основание. «Должно» – чудесное слово, не правда ли? Особенно когда произносится с той непоколебимой уверенностью, которая отличает профессора философии от, скажем, сантехника. Последний, по крайней мере, знает, где находятся трубы.
Представленное исследование – если позволительно употребить столь громкое слово – представляет собой нечто вроде вежливого некролога. Не отдельному мыслителю, упаси Боже, а целой традиции поиска того, что барон Мюнхгаузен продемонстрировал как логическую невозможность. Примечательно, что философы восприняли его рассказ не как предостережение, а как методологическое руководство. Это примерно как если бы физики две тысячи лет совершенствовали технику хождения по воде, каждый раз объясняя неудачу недостаточной скоростью шага.
Должен предупредить: в процессе чтения некоторые академические репутации могут оказаться слегка… как бы это сказать… скорректированы. Автор приносит свои искренние сожаления всем, чьи портреты украшают университетские коридоры. Впрочем, не очень искренние. В конце концов, если человек две тысячи лет ищет чёрную кошку в тёмной комнате, особенно когда кошки там нет, определённая доля иронии представляется уместной.
Но – и это важно – в нашей истории есть подлинные герои. Те немногие честные души, которые имели мужество заявить: «Послушайте, а что если мы ищем то, чего нет?» Давид Юм, осмелившийся усомниться в самой возможности обоснования, и поплатившийся за это вежливым академическим остракизмом. Ницше, превративший отсутствие основания из трагедии в танец. Античные скептики, которые с самого начала всё правильно поняли, но были проигнорированы с той настойчивостью, с какой британцы игнорируют плохую погоду – то есть абсолютной.
Этим благородным отступникам, отказавшимся участвовать в коллективном самообмане, мы отдаём должное с искренним восхищением. Они предпочли неудобную правду комфортной иллюзии, интеллектуальную честность – академической карьере. В мире, где успех философа измеряется толщиной написанных томов, они имели смелость сказать: «А король-то голый!» За это им – наше уважение и бокал хорошего портвейна.
Остальным – искателям несуществующего, строителям воздушных замков, изобретателям всё более изощрённых способов вытягивания себя за волосы – мы предлагаем то, что полагается в приличном обществе: чай с печеньем и вежливую британскую улыбку. Ту самую, которая может означать всё что угодно, от «как интересно» до «Боже, какая чушь», но всегда остаётся безупречно корректной.
Следует также отметить, что данная работа ни в коем случае не является атакой на философию как таковую. Философия прекрасна в своей донкихотской решимости найти то, чего нет. Она трогательна в своём упорстве, достойна восхищения в своей изобретательности и, безусловно, развлекательна в своих неудачах. Где ещё можно наблюдать столь захватывающее зрелище, как блестящие умы, столетиями бьющиеся над задачей, которая по определению не имеет решения?
Автор просит прощения у всех, кто потратил жизнь на поиски философского основания. Утешением может служить то, что вы в хорошей компании. Платон, Аристотель, Кант, Гегель – все они искали с bewundernswerter Gründlichkeit… простите, с достойной восхищения основательностью. То, что искомое отсутствовало, ни в коей мере не умаляет благородства попытки. В конце концов, сэр Персиваль тоже не нашёл Святой Грааль, но это не делает его менее рыцарем.
И последнее. Если после прочтения этой книги вы всё ещё убеждены, что философское основание где-то существует и просто ждёт своего открывателя, автор может лишь позавидовать вашему оптимизму. Это как вера в то, что где-то есть край у круга – трогательно, поэтично и совершенно безнадёжно. Но пожалуйста, не позволяйте нашему скептицизму помешать вашим поискам. В конце концов, кто-то же должен обеспечивать занятость философских факультетов.
С совершенным почтением к вашему интеллекту
и лёгким сомнением в здравомыслии тех, кто всё ещё ищет,
Автор
P.S. Чай будет подан после прочтения. Печенье – экзистенциальное, существует только пока вы в него верите.
ВВЕДЕНИЕ: О БЛАГОРОДНОМ ИСКУССТВЕ ВЫТЯГИВАНИЯ СЕБЯ ЗА ВОЛОСЫ
Дорогой читатель, позвольте начать с небольшого признания. Эта книга родилась из простого недоумения, которое, осмелюсь предположить, посещало многих, кто имел несчастье… простите, честь изучать философию в университете. Недоумение это можно сформулировать в виде невинного вопроса: а что, собственно, все ищут?
Представьте себе следующую сцену. Вечер в оксфордском клубе, камин потрескивает, херес разлит по бокалам. Почтенный профессор философии, седовласый джентльмен с тридцатилетним стажем преподавания метафизики, внезапно поднимает голову от трактата Канта и спрашивает: «Коллеги, а мы точно уверены, что ищем нечто существующее?» Неловкое молчание. Кашель. Кто-то неуверенно предлагает ещё хереса. Тема деликатно меняется на погоду.
Но вопрос остаётся. И чем дольше размышляешь над ним, тем более… занимательной становится вся ситуация.
Видите ли, существует одна поучительная история, которую рассказывают детям, но почему-то забывают рассказать аспирантам философских факультетов. История о бароне, который, увязнув в болоте, решил проблему с истинно аристократической элегантностью: ухватился за собственные волосы и вытащил себя вместе с конём. Физики используют эту историю как пример невозможного. Инженеры – как предостережение. Дети – как повод посмеяться.
Философы же, похоже, восприняли её как инструкцию.
Две с половиной тысячи лет – срок, достаточный для того, чтобы построить и разрушить несколько цивилизаций, изобрести колесо, порох, книгопечатание и интернет, долететь до Луны и вернуться обратно. За это время человечество научилось расщеплять атом, редактировать гены и создавать искусственный интеллект. Чего человечество не научилось делать за эти два с половиной тысячелетия? Правильно – находить философское основание, которое само не нуждалось бы в основании.
Не то чтобы не пытались. О, как пытались! С упорством, достойным лучшего применения, каждое новое поколение философов бросалось на штурм этой крепости, вооружённое новой терминологией и свежей уверенностью в том, что предшественники просто что-то упустили. Какая-то мелочь. Деталь. Нюанс. Вот сейчас, с правильным подходом…
Результаты этих героических усилий собраны в тысячах томов, которые украшают университетские библиотеки от Оксфорда до Гарварда. Величественные фолианты, написанные на дюжине языков, включая несколько изобретённых специально для этой цели. Немецкие философы, например, с особым энтузиазмом подошли к созданию слов длиной в абзац – видимо, надеялись, что если сделать термин достаточно длинным, никто не заметит отсутствия основания под ним.
Любопытная деталь: чем сложнее становилась философская система, тем дальше она уходила от исходного вопроса. Как если бы архитектор, которого попросили укрепить фундамент дома, в ответ построил бы великолепную башню рядом и заявил: «Смотрите, какая высокая! Теперь фундамент первого здания точно не нужен!»
Платон, славный афинянин, предложил элегантное решение: поместить основания в другой мир. Мир идей, где обитают совершенные формы всего сущего. Прекрасно! Но возникает скромный вопрос: а у мира идей есть основание? Платон предпочёл эту тему не развивать. Две тысячи лет его последователи искали лестницу в мир идей. Поиски продолжаются. Лестница, по всей видимости, тоже идеальная – настолько, что существует только в теории.
Аристотель, ученик Платона и человек значительно более практичный, решил проблему по-македонски: прямолинейно. Есть первые принципы, заявил он, которые самоочевидны. Почему именно эти принципы самоочевидны? Потому что очевидно, что они самоочевидны. Блестяще! Вот только разные философы находили самоочевидными совершенно разные вещи. Неловко.
Средневековые схоласты передали эстафету Богу. Он – основание всего. А основание Бога? Тсс, не богохульствуйте. Удобная позиция, особенно в эпоху, когда за неудобные вопросы можно было познакомиться с инквизицией. Правда, Фома Аквинский написал пять доказательств бытия Божия, каждое из которых в критический момент делает элегантный логический пируэт и заявляет: «А дальше очевидно». Пять разных способов сказать «потому что».
Новое время принесло свежий энтузиазм. Декарт решил усомниться во всём, чтобы найти несомненное. Усомнился так основательно, что единственное, в чём не смог усомниться, – это в том, что сомневается. «Мыслю, следовательно, существую». Прекрасно, месье Декарт, но откуда следует «следовательно»? Из логики? А откуда мы знаем, что логика… Впрочем, не будем мучить покойного.
К восемнадцатому веку философы достигли такого уровня изощрённости в попытках вытащить себя за волосы, что сам барон Мюнхгаузен мог бы поучиться. Кант написал восемьсот страниц о границах разума, используя разум для доказательства этих границ. Это как измерять длину линейки той же самой линейкой – технически возможно, но что-то в этом процессе вызывает лёгкое головокружение.
Гегель пошёл ещё дальше и заявил, что противоречие – это не проблема, а движущая сила развития. Если не можешь решить парадокс, объяви его диалектикой! Абсолютная идея познаёт себя через своё отрицание и снятие этого отрицания в синтезе. Или что-то в этом роде. Честно говоря, после третьего прочтения «Феноменологии духа» начинаешь подозревать, что непонимание – это не баг, а фича.
Британские эмпирики, люди практичные, решили, что основание нужно искать в опыте. Прекрасная идея, если не задаваться вопросом об основании доверия к опыту. Дэвид Юм, благослови его господь, имел мужество признать: никакого основания нет, причинность – это привычка, индукция не работает, и вообще пойдёмте лучше играть в бильярд. За такую честность его, разумеется, не любят до сих пор.
Девятнадцатый век принёс новую надежду. Наука! Вот что станет основанием! Позитивисты с энтузиазмом принялись строить философию на фундаменте научного метода. Небольшая проблема: научный метод сам нуждается в философском обосновании. Круг замкнулся с викторианской основательностью.
Двадцатый век… что ж, двадцатый век был особенно изобретателен. Феноменология попыталась добраться до чистого сознания. Аналитическая философия решила, что всё дело в языке – нужно просто правильно определить термины. Экзистенциалисты заявили, что отсутствие основания – это и есть основание, превратив философскую неудачу в философскую позицию. Остроумно!
Постмодернисты честно признали, что ничего не работает, и устроили по этому поводу праздник деконструкции. По крайней мере, весело.
И вот мы здесь, в двадцать первом веке, с суперкомпьютерами, квантовой физикой, нейросетями и… всё той же проблемой основания. Технологии шагнули так далеко, что скоро, возможно, искусственный интеллект будет искать философское основание вместо нас. Интересно, сколько ему потребуется времени, чтобы понять тщетность этого занятия?
В этой скромной книге мы предлагаем совершить увлекательное путешествие по истории этих попыток. Не для того, чтобы посмеяться – упаси боже! – но чтобы с подобающей вежливостью рассмотреть, как именно лучшие умы человечества раз за разом наступали на одни и те же элегантные грабли.
Мы проследим, как каждая эпоха изобретала свой способ вытягивания себя за волосы, искренне веря, что именно этот способ – правильный. Как каждый философ начинал с критики предшественников за то, что они не нашли основания, и заканчивал… не найдя основания, но объяснив, почему именно его неудача качественно отличается от всех предыдущих.
Особое внимание мы уделим тем редким мыслителям, которые имели мужество сказать: «А король-то голый!» Их немного, этих интеллектуальных героев, осмелившихся признать очевидное. История философии помнит их имена, но предпочитает не праздновать их правоту. Слишком неудобная правда для дисциплины, вся идентичность которой построена на поисках того, чего, по всей видимости, не существует.
В конце концов, что такое философия без вечных поисков основания? Возможно, что-то более честное. Возможно, что-то более полезное. Но определённо что-то менее… философское.
Итак, устраивайтесь поудобнее, наливайте чай (или что-то покрепче – для некоторых глав это будет не лишним), и давайте вместе проследим эту удивительную историю. Историю о том, как человечество две с половиной тысячи лет пыталось сделать невозможное и каждый раз находило новый, всё более изощрённый способ потерпеть неудачу.
История эта, при всей её комичности, исполнена своеобразного величия. Есть что-то трогательное в этом упорстве, что-то глубоко человеческое в отказе принять ограниченность собственного разума. Философы, при всех их заблуждениях, демонстрируют замечательное качество человеческого духа: способность биться головой о стену с таким достоинством и изяществом, что это становится искусством.
Барон Мюнхгаузен был бы горд. Или, скорее, вежливо удивлён тем, что его очевидная пародия была воспринята как руководство к действию. Впрочем, барон был человеком светским и, несомненно, оценил бы иронию ситуации.
В конце концов, если уж вытягивать себя за волосы, то почему бы не делать это с академическим достоинством, в мантии и квадратной шапочке, цитируя древних греков на языке оригинала?
Почему бы и нет, в самом деле.
Добро пожаловать в Достопочтенное общество искателей основания. Членство автоматическое, выход – через осознание.
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ: КАТАЛОГ ДОСТОПОЧТЕННЫХ ПОПЫТОК
Глава I. Античность: Когда всё пошло не так
В которой мы с сочувственным интересом наблюдаем, как лучшие умы человечества с энтузиазмом первопроходцев бросились искать то, чего не существует, и заложили традицию, которая продержится две с половиной тысячи лет
Представьте себе солнечное утро в Милете, примерно шестой век до нашей эры. Достопочтенный Фалес, человек несомненно образованный и проницательный – он ведь предсказал солнечное затмение, что по тем временам было сродни волшебству – внезапно задался вопросом, который испортит жизнь всем последующим поколениям философов. «Из чего всё состоит?» – спросил он себя и, не долго думая, ответил: «Из воды!»
Казалось бы, невинное начало. Что может быть естественнее для жителя портового города, чем предположить, что вода – основа всего? В конце концов, она повсюду: падает с неба, течёт в реках, окружает землю, содержится в живых существах. Логично? Безусловно. Обосновано? Вот тут, как сказала бы Алиса, всё становится страньше и страньше.
§1. Предыстория катастрофы: Досократики
Фалес, надо отдать ему должное, хотя бы выбрал что-то осязаемое. Воду можно потрогать, попробовать на вкус, в ней даже можно утонуть – солидное эмпирическое основание, не правда ли? Правда, когда его спросили, а из чего состоит сама вода, почтенный мудрец предпочёл сменить тему. Возможно, у него было предчувствие, что он только что открыл ящик Пандоры философских вопросов.
Его ученик Анаксимандр оказался сообразительнее. Он понял подвох: если всё из воды, то вода из чего? И с восхитительной греческой изобретательностью придумал решение – апейрон, что переводится как «беспредельное» или, если быть совсем честным, «непонятно что». Гениально! Если не можешь определить основание, назови его неопределимым. Это как если бы детектив объявил: «Убийца – тот, кого мы не знаем!» Технически правильно, практически бесполезно.
Анаксимен, ученик Анаксимандра (милетская школа явно не страдала от недостатка воображения в именах), решил, что апейрон – это слишком абстрактно даже для философов. Он вернулся к чему-то более приземлённому – воздуху. Всё есть воздух разной плотности: разрежённый воздух – огонь, сгущённый – вода, ещё плотнее – земля. Изящно, почти научно. Единственная проблема: а воздух-то откуда взялся? «Он всегда был,» – ответил бы Анаксимен. Ах, если бы всё было так просто!
Но настоящее веселье началось с Гераклита, того самого тёмного философа из Эфеса, который прославился изречением, что нельзя войти в одну реку дважды. Впрочем, его ученик Кратил справедливо заметил, что и один раз нельзя – пока входишь, река уже другая. Так вот, Гераклит заявил, что всё течёт, всё меняется, и основание всего – это… изменение! Основание, которое не стоит на месте. Как если бы фундамент дома постоянно переезжал, а дом почему-то оставался на месте. Барон Мюнхгаузен оценил бы такую диалектическую ловкость.
Парменид из Элеи возмутился таким легкомыслием. «Какое ещё изменение?» – вопрошал он. – «Бытие есть, небытия нет, и точка!» Его аргумент был безупречен в своей круговой простоте: бытие не может возникнуть из небытия (ибо небытия нет), следовательно, бытие вечно и неизменно. А почему бытие есть? Потому что оно есть! Quod erat demonstrandum, как сказали бы позже римляне, если бы не были заняты более практичными вещами вроде строительства дорог.
Ученик Парменида, Зенон, прославился своими парадоксами, доказывающими невозможность движения. Ахиллес никогда не догонит черепаху, стрела не летит, а покоится в каждый момент времени. Современники, наблюдавшие, как Зенон приходит на агору (явно двигаясь), вежливо покашливали. Но Зенон был невозмутим: если логика противоречит опыту, тем хуже для опыта. Восхитительное упрямство!
Эмпедокл попытался примирить всех, заявив, что основных элементов четыре: огонь, воздух, вода и земля. А чтобы объяснить, почему они соединяются и разъединяются, добавил ещё две силы – Любовь и Вражду. Шесть оснований вместо одного – щедрость, достойная философа! Правда, откуда взялись сами элементы и силы, Эмпедокл объяснить не удосужился. По легенде, он бросился в жерло Этны, чтобы доказать свою божественность. Вулкан выплюнул обратно только его сандалию – даже природа отказалась переваривать такую философию.
А потом явился Пифагор. О, Пифагор! Человек, который услышал музыку сфер и решил, что всё есть число. «Единица – точка, двойка – линия, тройка – плоскость, четвёрка – объём. Вот вам и вся реальность!» – провозглашал он своим ученикам, которым было запрещено есть бобы (по причинам, которые история милосердно забыла). Но когда один нечестивый ученик спросил, а что такое само число, Пифагор ответил нечто настолько таинственное, что даже его последователи не смогли договориться, что же именно он сказал. Возможно, он просто покашлял в ладонь – весьма британский способ избежать неудобного вопроса.
Наконец, появились атомисты – Левкипп и Демокрит. «Есть только атомы и пустота,» – заявили они. Блестяще! Всё состоит из неделимых частиц. А из чего состоят атомы? Они неделимы! А почему они неделимы? По определению! Если это не напоминает вам барона, вытаскивающего себя из болота, то вы, вероятно, невнимательно читали классику.
§2. Греческая трагедия в пяти актах
Но истинная трагедия началась позже, когда на сцену вышли главные герои античной философии. И как в любой приличной греческой трагедии, всё началось с пролога, в котором хор (в данном случае – скептики) предупреждает героев о тщетности их начинаний.
Пролог: Скептики видят будущее
Представьте себе сцену: Пиррон из Элиды, основатель скептицизма, спокойно сидит в тени платана, наблюдая, как другие философы с жаром спорят об основаниях мироздания. «А почему вы думаете, что основание вообще существует?» – невинно интересуется он. Тишина. Потом дружный хохот. «Конечно, существует! Иначе как бы всё держалось?»
Пиррон пожимает плечами. Его последователь Тимон записывает: «Учитель говорит, что ни о чём нельзя сказать, что оно больше такое, чем не такое.» Философы перестают смеяться. «Но это же абсурд!» – восклицают они. «Не больше, чем не абсурд,» – невозмутимо отвечает Пиррон и идёт обедать. Говорят, он был самым счастливым философом античности. Возможно, потому, что не искал то, чего нет.
Позже другой скептик, Агриппа, сформулирует пять тропов, показывающих невозможность окончательного обоснования чего бы то ни было. Особенно элегантен троп о взаимности: А обосновывается через Б, Б через А. Как два джентльмена, бесконечно уступающие друг другу дорогу в дверях клуба. Вежливо, но непродуктивно.
Секст Эмпирик, последний великий скептик, подытожит: искать основания – всё равно что искать начало круга. Можно начать с любой точки, но это не делает её первой. Академия отреагировала предсказуемо: «Интересная точка зрения, но мы продолжим искать.» Две тысячи лет спустя они всё ещё ищут.
Акт I: Сократ и его неудобное знание
Входит Сократ – босой, нечёсаный, с репутацией человека, который портит молодёжь вопросами. Его метод прост до гениальности: притвориться, что ничего не знаешь, и спрашивать других, откуда они знают то, что знают. Диалог обычно развивался так:
«Дорогой Евтифрон, что есть благочестие?» «Благочестие – это то, что угодно богам.» «А что угодно богам?» «То, что благочестиво.» «Но это же…» «О, смотрите, мне срочно нужно в суд!»
Сократ довёл искусство обнаружения отсутствия оснований до совершенства. За это его и отравили – весьма радикальный способ прекратить неудобные вопросы. Перед смертью он сказал, что смерть – либо сон без сновидений, либо переход в другое место, где можно будет задавать вопросы Гомеру. В любом случае – неплохо. Даже умирая, он троллил афинян.
Акт II: Платон строит пентхаус для оснований
Ученик Сократа Платон был потрясён казнью учителя. «Если в этом мире справедливости нет,» – решил он, – «значит, она есть в другом!» И придумал мир идей – эдакий метафизический пентхаус, где обитают совершенные формы всех вещей.
Теория была красива, как греческая ваза, и примерно так же практична. В нашем мире – несовершенные копии, в мире идей – совершенные оригиналы. Прекрасно! Но позвольте невинный вопрос: а откуда взялся мир идей? «Он вечен,» – отвечает Платон. А почему он вечен? «Потому что совершенен.» А откуда мы знаем, что он совершенен? «Потому что он вечен.»
Головокружительно, не правда ли? Как будто кто-то решил спрятать основание мира на чердаке, а потом убрал лестницу. «Но оно там есть!» – уверяет нас Платон. – «Я видел его глазами души!» Остальным предлагается поверить на слово. Или, как в знаменитой аллегории пещеры, сидеть и смотреть на тени, догадываясь об истинной реальности. Довольно удручающая метафора человеческого познания, если вдуматься.
Самое забавное в платоновской теории идей – это идея Блага, которая освещает все остальные идеи, как солнце освещает мир. Но что освещает идею Блага? «Она самосветящаяся!» – восклицает Платон. Барон Мюнхгаузен, вытаскивающий себя за волосы из болота, скромно курит в сторонке.
Акт III: Аристотель пытается быть практичным
Аристотель, ученик Платона, был человеком более приземлённым. «К чему эти метафизические выкрутасы?» – вопрошал он. – «Давайте исходить из того, что видим!» И создал систему категорий, причин и силлогизмов, которая две тысячи лет морочила головы студентам.
Его решение проблемы основания было элегантным в своей наглости: «Есть первые принципы, которые очевидны и не требуют доказательства.» Почему они очевидны? «Потому что разум их непосредственно усматривает.» А откуда разум знает, что усматривает правильно? «Это очевидно!»
Особенно трогателен перводвигатель Аристотеля – неподвижная причина всякого движения. Он движет всё, сам оставаясь неподвижным, как объект любви движет любящего. Романтично, но несколько… как бы это сказать помягче… несколько требует воображения. Это как если бы кто-то сказал: «Вот фундамент здания, он висит в воздухе, но держит всё остальное.» «Но как он висит?» – «Величественно!»
Аристотель также подарил нам учение о четырёх причинах: материальной, формальной, действующей и целевой. Каждая вещь объясняется через эти четыре причины. А чем объясняются сами причины? Достаточно сказать, что когда средневековые схоласты попытались это выяснить, они написали столько томов, что если их сложить, получится лестница до платоновского мира идей. Правда, непрочная.
Акт IV: Стоики находят утешение в космосе
После Аристотеля пришли стоики – люди, решившие, что если не можешь найти основание, надо хотя бы достойно это переносить. Их космос был пронизан Логосом – разумным принципом, организующим всё сущее.
«Что такое Логос?» – спрашивали любопытные. «Разумный огонь,» – отвечал Гераклит Стоик. «А почему огонь разумный?» «Потому что он Логос.» «Но…» «Живи согласно природе и не задавай лишних вопросов.»
Стоики были практичными людьми. Они поняли, что искать основание мучительно, и решили: давайте просто договоримся, что оно есть, назовём его Логосом и займёмся этикой. В конце концов, как правильно жить – вопрос более насущный, чем из чего всё произошло. Хотя их этика тоже основывалась на том самом неуловимом Логосе. Но это детали.
Марк Аврелий, император-стоик, записал в своём дневнике: «Вселенная – либо хаос, либо порядок. Но если хаос, откуда в тебе порядок?» Прекрасный вопрос, ваше величество. Жаль, что ответа вы не оставили. Возможно, варвары у границ отвлекли от метафизических размышлений.
Эпилог: Великое неуслышанное предупреждение
И вот финал первого акта великой философской драмы. Античность оставила нам в наследство: – Множество вариантов оснований (вода, воздух, огонь, атомы, числа, идеи, формы, Логос) – Ни одного обоснования этих оснований – Традицию искать то, что искать бессмысленно – Скептиков, которые это поняли (их вежливо проигнорировали)
Как заметил один университетский профессор за бокалом портвейна: «Греки подарили нам философию. Это как подарить ребёнку конструктор без инструкции и половины деталей. Увлекательно, но собрать что-то работающее невозможно.»
§3. Платон: Изобретатель двухэтажной Вселенной
Вернёмся к нашему дорогому Платону подробнее – всё-таки человек основал Академию, просуществовавшую девятьсот лет. Девятьсот лет искали основания! Если это не преданность идее, то что?
Платон был аристократом и, как подобает аристократу, считал, что истинная реальность должна быть где-то в более приличном районе, чем наш бренный мир. Представьте себе философа, который смотрит на грязную афинскую улицу и думает: «Нет, настоящая Улица – совершенная и чистая – существует Там, Наверху.» Очаровательный идеализм в прямом смысле слова.
Его знаменитая аллегория пещеры – это, по сути, признание в философском поражении, превращённое в победу. Мы все сидим в пещере и видим только тени истинных вещей. Чтобы увидеть реальность, надо выйти на свет. Прекрасно! Но где выход? «Философия!» – восклицает Платон. А куда ведёт философия? «К истине!» А где истина? «За пределами пещеры!» А как узнать, что мы вышли? «Вы увидите истину!» Круг замкнулся так элегантно, что даже не скрипнул.
Самое трогательное в платонизме – это учение о припоминании. Душа, оказывается, всё знала, когда обитала в мире идей, но, воплотившись, забыла. Обучение – это припоминание. Блестяще! Если не можешь объяснить, откуда берётся знание, скажи, что оно всегда было, просто мы забыли. Это как искать очки, которые у тебя на лбу, только в космическом масштабе.
Диалог «Менон» прекрасно это иллюстрирует. Сократ «доказывает» теорию припоминания, заставляя необразованного раба «вспомнить» геометрическую теорему. То, что он задаёт наводящие вопросы, подталкивая к нужному ответу, – детали. Главное, что раб «вспомнил»! Современные педагоги называют это методом Сократа. Древние скептики называли это подтасовкой. Но кто слушает скептиков?
Платоновская Академия стала первым университетом, где систематически искали то, чего нет. Над входом висела надпись: «Не геометр да не войдёт.» Почему геометрия? Потому что она имеет дело с идеальными фигурами, которых в природе не существует! Идеальный круг, идеальная прямая – всё это обитатели мира идей. В реальном мире только приблизительные копии. Как сказал бы современный студент: «Профессор, а зачем изучать то, чего нет?» – «Затем, молодой человек, что это единственная истинная реальность!» Студент уходит озадаченным. Традиция жива до сих пор.
§4. Аристотель: Первый председатель Общества
Если Платон был мечтателем, то Аристотель был систематизатором. Он классифицировал всё: от силлогизмов до морских ежей. Его девиз мог бы звучать: «Если не можешь найти основание, хотя бы разложи всё по полочкам.»
Двадцать лет он учился в Академии, а потом основал свой Ликей – прогулочную школу, где философствовали на ходу. Возможно, он надеялся, что в движении легче поймать ускользающее основание. Не поймал, но попытка была благородной.
Его «Метафизика» начинается знаменитой фразой: «Все люди от природы стремятся к знанию.» Чудесно! А откуда он это знает? Из наблюдения? Но он же не всех людей наблюдал. Из разума? Но откуда разум это знает? Уже в первой строчке Аристотель демонстрирует ту самую проблему, которую будет решать (точнее, не решать) следующие тысячу страниц.
Особенно восхитительна его теория о перводвигателе. Представьте: всё в мире движется потому, что его что-то движет. Но чтобы избежать регресса в бесконечность (А движет Б, Б движет В, и так до тошноты), нужен неподвижный двигатель. Как это работает? А вот так: перводвигатель настолько совершенен, что всё к нему стремится, как железо к магниту. Но магнит хотя бы притягивает! А перводвигатель? Он просто думает о себе, будучи мышлением о мышлении. Нарциссизм космического масштаба как основание мироздания – даже Фрейд не додумался до такого.
Аристотель также изобрёл формальную логику – свод правил правильного мышления. Все люди смертны, Сократ – человек, следовательно, Сократ смертен. Безупречно! Но откуда мы знаем, что все люди смертны? Мы же не проверили всех людей. «Индукция!» – говорит Аристотель. А индукция надёжна? «Обычно!» Обычно – это не всегда. «Достаточно часто!» Для чего достаточно? И так далее, пока собеседник не устанет и не согласится.
Влияние Аристотеля было таким огромным, что средневековые схоласты называли его просто Философ – с большой буквы, без имени. Как Господь, только в философии. Две тысячи лет его искали ошибки в его системе и… продолжают искать. Не ошибки – их нашли предостаточно. Искать продолжают основание. Аристотель был бы польщён. Или огорчён. Возможно, и то, и другое – он ведь учил о золотой середине.
§5. Стоики: Если сильно веришь, это становится основанием
После грандиозных систем Платона и Аристотеля пришли стоики – философы, решившие, что раз основание не находится, надо хотя бы достойно это переживать. Их основатель, Зенон из Китиона (не путать с Зеноном Элейским и его черепахой), потерпел кораблекрушение, потерял всё состояние и решил стать философом. Логично: потерял всё материальное – ищи духовное основание.
Стоики создали удивительную систему, где всё пронизано разумным началом – Логосом, который одновременно бог, природа, судьба и закон. Универсальная отмычка для любого философского вопроса: – Почему мир упорядочен? Логос! – Почему мы можем познавать? Логос! – Почему надо быть добродетельным? Логос! – Что такое Логос? Эээ… Логос это Логос!
Это как современная техподдержка: «Перезагрузите компьютер.» – «Не помогло.» – «Перезагрузите ещё раз.»
Стоическая физика была особенно изобретательной. Весь мир – это живое существо, пронизанное пневмой (дыханием), которая держит всё вместе. Как пневма это делает? Она напрягается! В прямом смысле – тонос, напряжение. Вселенная держится на космическом мышечном усилии. Если это не попытка вытащить себя за волосы, то что?
Но стоики были мудрыми людьми в практическом смысле. Они поняли: если не можешь найти основание мира, найди хотя бы основание для достойной жизни. Их этика проста: живи согласно природе. Какой природе? Разумной! Почему она разумна? Логос! Опять этот Логос. Он как швейцарский нож античной философии – годится для всего, но ничего толком не объясняет.
Эпиктет, раб, ставший философом, учил: «Из вещей иные в нашей власти, иные не в нашей власти.» Блестящее наблюдение! Основание мира явно не в нашей власти, так что не будем о нём беспокоиться. Займёмся тем, что в нашей власти – нашим отношением к отсутствию основания. Стоический оптимизм в чистом виде.
Марк Аврелий, император-философ, писал свои «Размышления» в военном лагере между сражениями с варварами. «Всё течёт и меняется,» – записывает он, вторя Гераклиту. – «Но Логос вечен.» Откуда он знает, что Логос вечен, если всё течёт? Император был занятой человек, некогда было задаваться такими вопросами. Варвары у ворот – более насущная проблема, чем отсутствие метафизического фундамента.
Промежуточный итог: Наследие эллинов
Итак, что же оставила нам античность? Целый каталог попыток найти основание, каждая изобретательнее предыдущей:
Материальные основания (вода, воздух, огонь, земля) – не объясняют сами себя. Абстрактные основания (апейрон, числа, атомы) – требуют обоснования. Трансцендентные основания (идеи, формы, перводвигатель) – недостижимы и недоказуемы. Имманентные основания (Логос, пневма) – определяются через то, что сами должны определять.
Как заметил один историк философии: «Греки перепробовали все возможные варианты оснований. Последующие философы просто переставляли мебель в той же комнате.»
Но самое важное наследие античности – это не ответы, а метод. Греки показали, как надо искать основание: страстно, изобретательно и совершенно безрезультатно. Они создали традицию, которой философия следует до сих пор. Это как если бы первый человек, попытавшийся взлететь, махая руками, основал школу махания руками, и две тысячи лет спустя его последователи всё ещё машут, только более изощрённо.
Скептики предупреждали. Пиррон качал головой. Секст Эмпирик документировал абсурдность происходящего. Но философский энтузиазм оказался сильнее здравого смысла. В конце концов, что такое невозможность по сравнению с красотой попытки?
И вот что самое трогательное: они искренне верили, что вот-вот найдут. Ещё одно определение, ещё один силлогизм, ещё одна классификация – и тайна будет раскрыта. Этот оптимизм первопроходцев вызывает одновременно восхищение и сочувствие. Как дети, ищущие край радуги, чтобы найти горшок с золотом.
Римляне, люди практичные, переняли греческую философию, но как-то без энтузиазма. Цицерон переводил, Сенека популяризировал, Марк Аврелий применял к управлению империей. Но искать основания? Увольте, у нас дороги строить надо. Дороги, кстати, стоят до сих пор. А основания так и не нашли.
Последний великий античный философ, Плотин, попытался объединить всё – Платона, Аристотеля, стоиков – в грандиозную систему эманаций из Единого. Единое порождает Ум, Ум – Душу, Душа – материю. Почему? Потому что Единое переполнено собой и изливается. Как чаша с водой? Нет, Единое не убывает. Как свет от солнца? Нет, Единое не действует. Как же тогда? Тайна!
Барон Мюнхгаузен хотя бы признавал, что его истории – выдумки. Философы верили в свои построения. В этом их величие. И их трагедия.
Занавес первого акта падает. Но представление только начинается. Впереди – средневековые схоласты, вооружённые Аристотелем и Священным Писанием. Если греки не смогли найти основание разумом, может, поможет вера?
Спойлер: не поможет. Но попытка будет захватывающей.
Глава II. Средневековье: Божественное вмешательство не помогло
В которой мы с прискорбием обнаруживаем, что даже апелляция к Всевышнему не решает проблему основания, а лишь переносит её на небеса
Представьте себе, дорогой читатель, следующую сцену: философ, измученный безуспешными поисками основания, внезапно восклицает: «Эврика! Если я не могу найти основание, значит, его нашёл кто-то другой!» И взор его обращается к небесам. Примерно так и поступила философия после падения Рима. Впрочем, учитывая состояние Рима в пятом веке, обращение к небесам выглядело вполне рациональным выбором.
Средневековье часто называют тёмными веками. Несправедливо! Это были века ослепительной веры в то, что если очень убедительно сказать «Бог», то дальнейшие вопросы становятся неуместными. Увы, вопросы оказались на редкость неделикатными и продолжали возникать даже в самых благочестивых умах.
§1. Августин: Техника «потому что Бог»
Блаженный Августин Иппонийский – джентльмен с бурным прошлым и философским будущим – совершил интеллектуальный манёвр поразительной элегантности. Столкнувшись с невозможностью найти рациональное основание, он объявил: основание есть, но оно превосходит человеческий разум. Гениально! Если не можешь решить проблему – объяви её священной тайной.
«Верую, ибо абсурдно» – фраза, которую Августину приписывают чаще, чем он её произносил, но которая великолепно передаёт суть подхода. По крайней мере, это было честно. Вместо попыток рационально обосновать невозможное, просто признать: да, это абсурдно, именно поэтому и требует веры. Своего рода интеллектуальная капитуляция, обставленная как победа.
Августин начал свою философскую карьеру как скептик – весьма разумная позиция, учитывая состояние философии к четвёртому веку. Затем увлёкся манихейством – дуализм всегда привлекателен своей симметрией. Потом неоплатонизм – Плотин казался таким убедительным. И наконец, христианство – окончательное решение всех философских проблем. Или их окончательное игнорирование, что, в сущности, одно и то же.
Его «Исповедь» – захватывающее чтение. Человек с поразительной искренностью описывает свои интеллектуальные метания, завершившиеся обнаружением простой истины: если Бог – основание всего, то вопрос об основании Бога задавать неприлично. Это как спрашивать у королевы о её возрасте – технически возможно, но совершенно недопустимо.
Особенно трогательна его теория времени. «Что же такое время?» – спрашивает Августин. «Если никто меня об этом не спрашивает, я знаю; если же хочу объяснить спрашивающему – не знаю.» Восхитительная честность! Жаль, что он не применил тот же подход к вопросу об основании. «Что такое основание? Если никто не спрашивает – Бог. Если спрашивают – всё равно Бог, но не спрашивайте почему.»
Проблема зла? Зло – это отсутствие добра, как тьма – отсутствие света. Изящно! Правда, возникает вопрос: если Бог – источник всего сущего, то откуда взялось это самое «отсутствие»? Августин предпочёл не развивать тему. Мудрый человек знает, когда остановиться.
Самое примечательное в августиновском решении – его влияние на последующую тысячу лет философии. Оказалось, что «потому что Бог» – универсальный ответ на любой неудобный вопрос. Почему мир существует? Бог создал. Почему Бог создал мир? Божья воля. Почему божья воля именно такая? Пути Господни неисповедимы. Безупречная защита от любого философского допроса.
§2. Ансельм: Онтологическое доказательство (основание в определении)
Ансельм Кентерберийский, итальянец на английской службе, совершил нечто поразительное: он решил доказать существование Бога чистой силой определения. Это как если бы вы определили идеальный английский завтрак как «завтрак, который обязательно существует», а затем заявили, что отныне голод по утрам логически невозможен.
Онтологическое доказательство – шедевр схоластической изобретательности. Бог, утверждает Ансельм, есть то, больше чего нельзя помыслить. Но если Он существует только в уме, можно помыслить нечто большее – то же самое, но существующее в реальности. Следовательно, Бог существует! Кружит голову, не правда ли?
Современники Ансельма отреагировали с предсказуемым скептицизмом. Монах Гаунило написал возражение от имени дурака (буквально – «Pro Insipiente»), где применил ту же логику к совершенному острову. Если мы можем помыслить совершенный остров, и существующий остров совершеннее воображаемого, то… где же этот остров? Ансельм ответил, что его аргумент работает только для Бога. Почему? Потому что Бог особенный. Круг замкнулся с поистине схоластическим изяществом.
Самое забавное в онтологическом доказательстве – его неубиваемость. Каждое поколение философов опровергает его заново, и каждое поколение находит новых защитников. Декарт попробовал свою версию. Лейбниц усовершенствовал. Кант, казалось бы, окончательно похоронил, заявив, что существование – не предикат. Но нет! В двадцатом веке Курт Гёдель, человек, доказавший неполноту математики, представил формализованную версию. Если уж математик, разрушивший основания математики, пытается доказать существование Бога через определение, что говорить о простых смертных?
Ансельм также подарил нам принцип «вера, ищущая понимания» (fides quaerens intellectum). Сначала верим, потом пытаемся понять, во что именно. Это как покупать кота в мешке, а потом убеждать себя, что именно такого кота вы и хотели. Впрочем, учитывая альтернативу – понимание, ищущее веру и не находящее – выбор Ансельма выглядит почти практичным.
Забавная деталь: Ансельм был превосходным администратором и политиком. Человек, способный управлять средневековым монастырём и вести переговоры с норманнскими королями, несомненно должен был понимать разницу между словами и реальностью. Но нет – в философии он искренне верил, что правильное определение может создать существование. Возможно, это профессиональная деформация теолога: если Бог создал мир Словом, почему бы философу не создать Бога определением?
§3. Схоласты: Тысяча страниц о количестве ангелов
Схоластика – это то, что происходит, когда очень умные люди с большим количеством свободного времени пытаются решить нерешаемые проблемы при помощи исключительно логики и цитат из Аристотеля. Результат предсказуем: монументальные трактаты, где количество различений превышает количество здравых мыслей в пропорции, достойной отдельного схоластического исследования.
Знаменитый вопрос о том, сколько ангелов может танцевать на кончике иглы, возможно, апокриф, но он прекрасно передаёт дух эпохи. Вместо того чтобы спросить, существуют ли ангелы, или зачем им танцевать, или откуда взялась игла, схоласты углублялись в тончайшие дистинкции. Материальны ли ангелы? Если нет, то занимают ли место? Если не занимают, то все могут поместиться на игле. Но если все, то в чём их различие? Четыреста страниц спустя вопрос оставался открытым.
Пьер Абеляр – блестящий ум и трагическая судьба – попытался применить диалектику ко всему подряд. Его «Да и нет» (Sic et Non) собрал противоречащие друг другу высказывания отцов церкви по ключевым вопросам. Оказалось, святые отцы согласны только в одном: в несогласии друг с другом. Церковные власти отреагировали предсказуемо. Абеляр закончил свои дни в монастыре, что, учитывая альтернативы в двенадцатом веке, было почти счастливым финалом.
Проблема универсалий – существуют ли общие понятия реально или только в уме – занимала лучшие умы столетиями. Реалисты утверждали: универсалии реальны! Номиналисты возражали: только имена! Концептуалисты пытались найти середину: существуют, но в уме! Сотни трактатов, тысячи аргументов, десятки тысяч страниц. А в это время крестьяне пахали землю, совершенно не задумываясь, существует ли «землесть» отдельно от конкретной земли. Возможно, в этом и был секрет их душевного спокойствия.
Дунс Скот, чьё имя несправедливо стало синонимом глупости (dunce), изобрёл концепцию haecceitas – «этовости», индивидуальной сущности каждой вещи. У каждого объекта есть не только универсальная природа (лошадность у лошади), но и уникальная этовость, делающая его именно этим объектом. Блестяще! Правда, объяснить, что такое этовость, кроме как «то, что делает это этим», он не смог. Но разве это проблема? В схоластике главное – дать название. Назвал – значит, объяснил.
Уильям Оккам, англичанин с бритвой наперевес, попытался навести порядок. Его знаменитый принцип – не умножать сущности без необходимости – был прямой атакой на схоластические джунгли различений. Зачем придумывать этовость, естьность, лошадность и прочие -ности, если можно просто сказать: вот лошадь? Коллеги-схоласты восприняли это как вульгарное упрощенчество. Оккам бежал к императору. История не сохранила, брал ли он с собой бритву.
Самое поразительное в схоластике – это сочетание интеллектуальной виртуозности с полным отсутствием практического результата. Это как если бы лучшие инженеры мира столетиями проектировали вечный двигатель, каждый раз добавляя всё более изощрённые шестерёнки. Работать он от этого не начинал, но чертежи получались восхитительные.
§4. Фома Аквинский: Пять доказательств того, что доказательства не нужны
Святой Фома Аквинский – философский тяжеловес тринадцатого века (в прямом и переносном смысле – современники отмечали его дородность) – предпринял титаническую попытку примирить Аристотеля с христианством. Это как пытаться скрестить английский пудинг с греческим салатом – технически возможно, но зачем?
Его пять путей к Богу – quinque viae – это вершина схоластической аргументации. Рассмотрим их с должным почтением:
Первый путь – от движения. Всё движимое приводится в движение чем-то другим. Но не может быть бесконечной цепи двигателей, следовательно, есть Перводвигатель. Почему не может быть бесконечной цепи? Фома утверждает: это очевидно. Барон Мюнхгаузен, вытягивающий себя за волосы, мог бы поспорить.
Второй путь – от причинности. Всё имеет причину, не может быть бесконечного регресса причин, следовательно, есть Первопричина. Погодите, это не тот же самый аргумент? Фома уверяет, что нет – это совершенно другое. Движение и причинность – разные вещи. Если вы не видите глубокого различия, возможно, вы недостаточно схоластичны.
Третий путь – от случайности к необходимости. Случайные вещи могут не существовать, если всё случайно, то когда-то ничего не было, но из ничего ничего не возникает, следовательно, есть нечто необходимое. Минуточку, откуда следует, что если всё случайно, то когда-то ничего не было? Фома считает это самоочевидным. Мы вежливо киваем.
Четвёртый путь – от степеней совершенства. Есть более и менее благие, истинные, благородные вещи. Но сравнительные степени подразумевают превосходную степень. Следовательно, есть нечто наиболее благое, истинное и благородное. Это… это вообще аргумент? Если есть более и менее лысые люди, должен ли существовать абсолютно лысый Платонический Лысый? Фома бы сказал, что мы упрощаем. Возможно.
Пятый путь – от целесообразности. Мир упорядочен, даже неразумные вещи действуют целесообразно, следовательно, есть разумный устроитель. Это единственный аргумент, который хотя бы внешне апеллирует к эмпирическому наблюдению. Правда, Дарвин потом покажет, что целесообразность может возникать без устроителя, но это будет через шестьсот лет. Фома не виноват, что родился рано.
Самое замечательное во всех пяти путях – их финал. Каждый заканчивается фразой: «И это все называют Богом». Все? Серьёзно? Греческие философы называли Перводвигатель совсем другими словами. Но Фома великодушно интерпретирует историю философии: все искали христианского Бога, просто не знали об этом.
После доказательства существования Бога Фома переходит к его атрибутам. Бог прост (не составен), совершенен, благ, бесконечен, неизменен, един, и так далее. Откуда это следует? Из определения! Если Бог – Первопричина, он не может быть составным (иначе его части были бы первее). Если он Перводвигатель, он неподвижен (иначе его бы двигал кто-то ещё). Логика безупречна, если принять исходные посылки. Но почему мы должны их принять?
Фома также разработал теорию аналогии – как мы можем говорить о Боге человеческими словами. Когда мы говорим «Бог благ», мы используем слово «благ» не в том же смысле, что «человек благ» (унивокально), но и не в совершенно разном (эквивокально), а аналогически. Что это значит? Примерно то же, что и «благ», но не совсем. Яснее не стало? Добро пожаловать в схоластику!
Влияние Фомы на католическую философию невозможно переоценить. В девятнадцатом веке папа Лев XIII объявил томизм официальной философией Католической церкви. Представьте: философия тринадцатого века становится обязательной в девятнадцатом. Это как если бы современные университеты объявили алхимию официальной химией. Впрочем, учитывая, что философы до сих пор ищут философский камень под названием «основание», аналогия не такая уж неуместная.
Средневековая философия завершилась примерно так же, как началась – обращением к вере. Правда, к концу периода это была вера, вооружённая тысячами страниц аргументов, сотнями дистинкций и десятками доказательств. Но в основе всё та же капитуляция разума перед проблемой основания, только обставленная с академической помпой.
Уильям Оккам в четырнадцатом веке фактически признал поражение: разум и вера – разные сферы, не надо их смешивать. Николай Кузанский в пятнадцатом добавил концепцию «учёного незнания» – чем больше мы знаем, тем больше понимаем, что не знаем. Мудрые люди, предвосхитившие Сократа с опозданием на две тысячи лет.
Ирония средневековой философии в том, что, пытаясь укрепить веру разумом, она продемонстрировала неспособность разума обосновать что-либо окончательно. Каждое доказательство требовало принятия недоказанных предпосылок. Каждый аргумент упирался в «это очевидно» или «так говорит Аристотель» или, в крайнем случае, «так угодно Богу».
Схоласты построили величественные соборы мысли – сложные, красивые, поражающие воображение. Единственная проблема: фундамент оказался не более прочным, чем у их античных предшественников. Просто теперь на зыбком основании стояла гораздо более тяжёлая конструкция.
Барон Мюнхгаузен мог бы гордиться средневековыми философами. Они не просто пытались вытащить себя за волосы – они построили сложнейшую систему блоков и рычагов, чтобы сделать это более эффективно. Что механизм принципиально не мог работать? Детали, господа, детали.
Наследие средневековья – это тысячи томов, где блестящие умы с поразительной изобретательностью избегают простого признания: основания нет, и апелляция к Богу это не решает, а просто переносит проблему на один уровень вверх. Если Бог – основание всего, то что является основанием Бога? Себя самого? Поздравляем, мы вернулись к логическому кругу, только теперь он освящён и окаждён.
Впрочем, не будем слишком строги к средневековым мыслителям. В конце концов, они делали что могли с тем, что имели. А имели они Аристотеля, Библию и непоколебимую веру в то, что правильное сочетание этих ингредиентов даст философский камень основания. Что эксперимент провалился? Ну что ж, негативный результат – тоже результат.
К концу средневековья стало ясно: нужен новый подход. Может быть, вместо того чтобы искать основание наверху, в божественной сфере, стоит поискать внизу, в человеческом разуме? Эта блестящая идея ляжет в основу философии Нового времени.
Спойлер: там тоже ничего не найдут. Но искать будут с удвоенным энтузиазмом.
Глава III. Новое время: Эпоха героического самообмана
В которой европейские джентльмены с похвальным упорством демонстрируют, что образование и здравый смысл – понятия взаимоисключающие
Если античность можно простить за юношеский энтузиазм, а средневековье – за религиозное рвение, то Новое время не имеет оправданий. Эпоха разума, научная революция, триумф математики… И что же делают философы? Правильно – ищут основание с удвоенной энергией. Как если бы изобретение телескопа заставило астрономов искать край плоской Земли с помощью более совершенных инструментов.
Особенно трогательно, что это происходило параллельно с настоящими научными открытиями. Пока Ньютон формулировал законы механики (не утруждая себя вопросом об их метафизическом основании), философы героически пытались обосновать возможность познания вообще. Результат предсказуем: физика построила паровой двигатель, философия – очередной воздушный замок.
Но какие замки! Архитектурные шедевры чистого разума, барочные соборы дедукции, готические шпили трансцендентального! Жаль только, что все они, подобно творениям известного Барона, висят в воздухе, поддерживаемые исключительно силой убеждения своих создателей.
§1. Декарт: «Я мыслю, следовательно, я запутался»
Методическое сомнение, или Как потерять мир и не найти себя
Рене Декарт – армейский офицер, ставший философом (что объясняет его тягу к порядку и дисциплине в мышлении) – решил начать с чистого листа. Похвальное намерение! Усомнимся во всём, говорит он, и посмотрим, что останется. Методическое сомнение – прекрасная идея, если не считать одной детали: сомневаться во всём, используя разум, это как пилить сук, на котором сидишь, предварительно усомнившись в существовании дерева.
«Но постойте,» – восклицает Декарт, – «я не могу сомневаться в том, что я сомневаюсь!» Cogito ergo sum – я мыслю, следовательно, существую. Браво! Нашли основание! Правда, возникает скромный вопрос: откуда уверенность, что из мышления следует существование? «Это самоочевидно,» – отвечает философ. Ах, самоочевидно… Тот самый критерий, который мы только что отвергли вместе со всем остальным.
Представьте себе человека, который решил проверить надёжность лестницы, последовательно отпиливая ступеньки снизу вверх. Добравшись до последней, он торжественно объявляет: «Вот она, единственная надёжная ступенька!» То, что она висит в воздухе, его почему-то не смущает.
Врождённые идеи: Философский преформизм
Обнаружив себя (поздравляем!), Декарт сталкивается с проблемой: как от «я мыслю» перейти к внешнему миру? Решение элегантно в своей произвольности: врождённые идеи! Бог, благой и не-обманщик, вложил в нас правильные представления о мире. Почему Бог не-обманщик? Потому что идея Бога включает совершенство, а обман – несовершенство. Почему этой идее можно доверять? Потому что она врождённая. Почему врождённым идеям можно доверять? Потому что их вложил Бог…
Даже Арно, современник и в целом симпатизирующий критик, деликатно заметил, что это рассуждение несколько… как бы это сказать… круговато. Декарт ответил тремястами страницами разъяснений, которые, если их внимательно читать, сводятся к «нет, вы не поняли, это не круг, это… спираль». Восходящая, разумеется.
Дуализм: Когда одной проблемы недостаточно
Но истинный шедевр картезианской мысли – это дуализм субстанций. Есть res cogitans (вещь мыслящая) и res extensa (вещь протяжённая). Они абсолютно различны, не имеют ничего общего, но каким-то образом взаимодействуют. Как?
«Через шишковидную железу!» – объявляет Декарт с видом фокусника, достающего кролика из цилиндра. Почему именно шишковидная железа? Потому что она одна не парная в мозгу. Логика безупречна: для связи двух субстанций нужно что-то единичное. То, что проблема взаимодействия просто переносится внутрь железы, философа не беспокоит. В конце концов, это же железа! Маленькая. Там всё проще.
Принцесса Елизавета Богемская, с которой Декарт состоял в переписке, задала невинный вопрос: «Как непротяжённое может двигать протяжённое?» Декарт написал ей несколько писем, в которых с галантностью французского джентльмена и изобретательностью философа объяснял, что женскому уму трудно постичь такие материи. Принцесса, обладавшая не только титулом, но и умом, вежливо прекратила переписку. Первая жертва картезианского дуализма.
Картезианский круг: Геометрия абсурда
Современники Декарта быстро обнаружили главную проблему его системы, получившую название «картезианский круг». Чтобы доказать надёжность ясных и отчётливых идей, Декарт апеллирует к Богу. Чтобы доказать существование Бога, использует ясные и отчётливые идеи. Это как барон Мюнхгаузен, который… впрочем, вы поняли аналогию.
Декарт отвечал на это возражение с завидным упорством до конца жизни. Его ответы можно резюмировать так: «Это не круг, потому что… потому что это не круг». Иногда он добавлял, что cogito не нуждается в божественной гарантии, оно самодостоверно. Но тогда почему другие ясные идеи нуждаются? «Потому что cogito особенное». Чем особенное? «Тем, что не нуждается в обосновании». Диалог слепого с глухим о цвете музыки.
§2. Спиноза: Геометрия заблуждений
Этика в теоремах: Когда форма важнее содержания
Барух (или Бенедикт, в зависимости от вашего отношения к латинизации) Спиноза – шлифовщик линз, что символично для философа, пытавшегося придать кристальную ясность мутным водам метафизики. Его решение проблемы основания блестяще в своей наивности: если изложить философию в форме геометрических теорем, она автоматически станет такой же достоверной, как геометрия!











