Читать онлайн Тревожное поколение. Как Великое подключение детства вызывает эпидемию душевных болезней
- Автор: Джонатан Хайдт
- Жанр: Воспитание детей, Детская психология, Зарубежная прикладная литература, Зарубежная психология
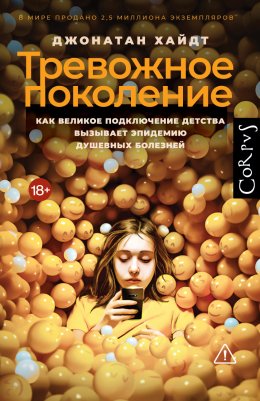
Jonathan Haidt
The Anxious Generation. How the Great Rewiring of Childhood is Causing an Epidemic of Mental Illness
© Jonathan Haidt, 2024
© Dave Cicirelli, фотография на обложке
© В. Дегтярев, перевод на русский язык, 2025
© А. Бондаренко, художественное оформление, макет, 2025
© ООО «Издательство АСТ», 2025
Издательство CORPUS ®
Учителям и руководителям P. S. 3, LAB Middle School, Baruch Middle School и Brooklyn Technical High School, посвятившим свою жизнь воспитанию детей – в том числе и моих.
Введение
Марсианское детство
Представьте: вашей дочери исполняется десять, и вдруг незнакомый миллиардер-утопист предлагает ей полететь на Марс, чтобы создать там первую человеческую колонию. Отбор проходил на основе успеваемости (и результатов генетического анализа, хотя вы не помните, чтобы давали согласие на его проведение). Заявку на участие она подала без вашего ведома – просто потому, что увлечена космосом, да и все друзья сделали то же самое. Она умоляет вас ее отпустить.
Вы решаете не отказывать сразу, а разобраться в вопросе. Выясняется, что детей набирают, поскольку они лучше взрослых способны адаптироваться к низкой гравитации и прочим необычным условиям проживания. Если они пройдут через половое созревание и связанный с ним скачок роста на Марсе, то смогут навсегда приспособиться к местной среде – в отличие от тех, кто столкнется с ней уже взрослым. По крайней мере, в теории. Однако неизвестно, смогут ли адаптированные к Марсу дети когда-либо вернуться на Землю.
У вас есть и другие причины для беспокойства. Во-первых, радиация. На Земле флора и фауна развивались под защитой магнитосферы, которая блокирует или отклоняет значительную часть солнечного ветра, космических лучей и прочих вредных частиц, бомбардирующих нашу планету. У Марса такого щита нет, поэтому тело вашей дочери будет подвержено гораздо более интенсивному воздействию ионов. Основываясь на исследованиях с участием взрослых астронавтов, у которых после года пребывания в космосе риск развития рака немного повышается[1], авторы проекта разработали защитные системы для марсианского поселения, однако для детей ситуация еще опаснее: их клетки развиваются и дифференцируются быстрее, и показатели клеточного повреждения у них будут выше. Учитывали ли организаторы эти особенности? Проводили ли они исследования безопасности для детей? Судя по всему, нет.
А еще есть гравитация. На протяжении миллионов лет эволюция приспосабливала строение живых существ к силе гравитации нашей планеты. С момента рождения наши кости, суставы, мышцы и сердечно-сосудистая система развиваются под ее неизменным воздействием. И когда оно пропадает, его отсутствие сильно влияет на организм. У взрослых астронавтов, которые проводят месяцы в невесомости, мышцы слабеют, а кости теряют плотность. Телесные жидкости скапливаются в местах, где им быть не положено: например, в черепной коробке, что оказывает давление на глазные яблоки и меняет их форму[2]. На Марсе есть гравитация, но она составляет всего 38 % от земной. Дети, выросшие в таких условиях, будут подвержены высокому риску развития деформаций скелета, сердца, глаз и мозга. Учитывали ли организаторы эту опасность для детского организма? Судя по всему, нет.
Итак, вы бы ее отпустили?
Разумеется, нет. Вы понимаете, что отправить детей на Марс, откуда они, возможно, никогда не вернутся на Землю, – идея совершенно безумная. С какой стати родители на нее согласятся? Компания, стоящая за проектом, спешит заявить права на Марс, опередив конкурентов. Ее руководство ничего не знает о развитии детей и не заботится об их безопасности. Более того: компания не требует от родителей доказательств согласия. Ребенку достаточно поставить галочку в соответствующей графе, и он волен сразу же отправляться на Марс.
Ни одна компания не может забрать наших детей и подвергнуть их опасности без нашего ведома, иначе она столкнется с огромными юридическими последствиями. Да?
На рубеже тысячелетий технологические компании, базирующиеся на Западном побережье США, воспользовались стремительным ростом интернета и создали ряд продуктов, которые изменили мир. В то время царил технооптимизм: новые технологии делали жизнь проще, увлекательнее и продуктивнее. Некоторые помогали людям общаться и налаживать связи, что вселяло надежду на их пользу для растущего числа демократий. Казалось, после падения железного занавеса начинается новая эра. В глазах общественности основатели этих компаний стали героями, гениями и благодетелями человечества, которые, подобно Прометею, принесли людям дары богов.
Однако высокие технологии изменили не только жизнь взрослых. Они начали преображать жизнь детей. Молодежь проводила много времени перед телевизором еще с 1950-х, но новые устройства оказались гораздо более портативными, персонализированными и увлекательными. Родители рано открыли для себя эту истину – как и я сам, когда в 2008 году мой двухлетний сын освоил сенсорный интерфейс моего первого айфона. Многим понравилось, что смартфоны с планшетами способны часами удерживать ребенка в состоянии радостного тихого интереса. Безопасно ли было оставлять их с ними наедине? Никто не знал, но раз все так делали, казалось, ничего страшного нет.
Однако компании либо вовсе не проводили исследований о том, как их продукция влияет на психическое здоровье детей и подростков, либо проводили их слишком мало и не делились данными с учеными, изучавшими это влияние. Столкнувшись с растущим количеством доказательств, что их продукция вредит молодежи, они прибегли к отрицанию, сокрытию информации и работе с общественным мнением[3].
Хуже всего себя проявили компании, которые стремились максимизировать «вовлеченность», используя психологические уловки, чтобы удержать внимание молодых людей. Они цепляли их на самых уязвимых этапах развития, когда мозг активно перестраивается в ответ на внешнюю стимуляцию. Среди таких компаний – разработчики социальных сетей, которые нанесли наибольший ущерб девочкам, а также создатели видеоигр и владельцы порнографических сайтов, на которые подсели в основном мальчики[4]. Создав поток вызывающего привыкание контента, проникающего через глаза и уши детей, а также вытеснив физическую активность и живое общение, эти компании перенастроили детство и изменили развитие человека почти до неузнаваемости. Самый интенсивный период этого «подключения» пришелся на 2010–2015 годы, хотя история, которую я расскажу, начинается с роста чрезмерной родительской опеки в 1980-х, захватывает пандемию коронавируса и продолжается по сей день.
Какие ограничения мы успели ввести для этих компаний? В Соединенных Штатах, которые во многом установили стандарты для остального мира, основным правовым актом стал Закон о защите конфиденциальности детей в интернете (COPPA), принятый в 1998 году. Согласно закону, дети до 13 лет могут передавать свои данные и отказываться от некоторых прав в пользу компании (то есть соглашаться на условия обслуживания) только с разрешения родителей. В итоге 13 лет стали считаться условным возрастом «интернет-взросления», хотя причины такого решения мало связаны с безопасностью или психическим здоровьем детей[5]. Однако формулировка закона не обязывает компании проверять возраст пользователей: ребенку достаточно поставить галочку (или ввести поддельную дату рождения), и он сможет зайти практически на любой сайт без ведома или согласия родителей. На самом деле у 40 % американских детей до 13 лет есть аккаунты в инстаграме[6][7], однако федеральные законы с 1998 года не обновлялись. (Великобритания, напротив, предприняла первые шаги в этом направлении, как и некоторые штаты США[8].)
Ряд компаний идут по стопам табачной и вейпинговой индустрий, где сначала разработали продукцию, вызывающую сильную зависимость, а затем обошли законы, ограничивающие маркетинг для несовершеннолетних. Их также можно сравнить с нефтяными компаниями, которые боролись против запрета этилированного бензина. В середине ХХ века появилось множество доказательств, что сотни тысяч тонн свинца, ежегодно выбрасываемые в атмосферу только в Соединенных Штатах, вредят развитию миллионов детей, ухудшая их когнитивные способности и увеличивая риск антисоциального поведения. Тем не менее нефтяные компании продолжали производить, продвигать и продавать этилированный бензин[9].
Конечно, между крупными социальными сетями сегодня и, скажем, крупными табачными компаниями середины ХХ века есть огромная разница. Продукты, которые создают разработчики социальных сетей, полезны для взрослых: они помогают находить информацию, работу, друзей, любовь и секс, делают покупки и политическую деятельность более эффективными, а жизнь – в тысячу раз проще. Большинство людей были бы рады жить в мире без табака, но социальные сети гораздо более ценны, полезны и даже любимы многими взрослыми. У некоторых, конечно, есть проблемы с зависимостью от соцсетей и прочих онлайн-активностей, но, как и в случае с табаком, алкоголем и азартными играми, мы обычно оставляем за ними возможность принимать собственные решения.
Но это не относится к несовершеннолетним. Хотя части мозга, отвечающие за систему внутреннего подкрепления, созревают рано, префронтальная кора – необходимая для самоконтроля, отсрочки вознаграждения и сопротивления искушениям – достигает полной зрелости примерно к 25 годам. Особенно уязвимы подростки: с началом полового созревания они часто испытывают социальную неуверенность, легко поддаются давлению сверстников и соблазняются любой деятельностью, которая, по их мнению, принесет социальное одобрение. Мы не разрешаем подросткам покупать табак и алкоголь и не пускаем их в казино. Использование социальных сетей для молодежи обходится гораздо дороже, чем для взрослых, при этом польза от них минимальна. Позвольте детям сначала вырасти на Земле, прежде чем отправлять их на Марс.
В этой книге я расскажу о том, что произошло с поколением, появившимся на свет после 1995 года[10], – поколением Z, которое пришло на смену миллениалам, родившимся с 1981 по 1995 год. Некоторые маркетологи утверждают, что поколение Z заканчивается в начале 2010-х, и предлагают называть детей, появившихся позже, поколением Альфа. Однако я считаю, что у поколения Z – тревожного поколения – не будет четкой конечной границы, пока не изменятся условия, из-за которых молодые люди вырастают такими депрессивными[11].
Благодаря новаторским исследованиям социального психолога Джин Твенге стало известно, что различия между поколениями объясняются не только событиями, которые они переживают (такими как войны или экономические кризисы), но и изменениями в технологиях, которые они используют с детства (радио, телевидение, персональные компьютеры, интернет, смартфоны)[12].
Старшие представители поколения Z вступили в период полового созревания примерно в 2009 году, когда сошлись несколько технологических тенденций: стремительное распространение высокоскоростного широкополосного интернета 2000-х, появление айфонов в 2007 году и начало новой эры гипервирусных социальных сетей. Последняя наступила в 2009 году с появлением кнопок «нравится» и «ретвитнуть» (или «поделиться»), которые изменили социальную динамику онлайн-мира. До 2009 года социальные сети в основном использовались для поддержания связи с друзьями, а из-за отсутствия функций мгновенных и многократных ответов они вызывали гораздо меньше токсичности, чем сегодня[13].
Четвертая тенденция начала проявляться всего через несколько лет после предыдущих, и она затронула девочек гораздо сильнее, чем мальчиков: с появлением фронтальных камер в 2010 году и приобретением Facebook[14] приложения Instagram в 2012-м, что повысило его популярность, люди начали чаще делиться в Сети личными фотографиями. Это привело к увеличению числа подростков, выкладывающих тщательно отобранные кадры из жизни на обозрение как сверстников, так и незнакомцев, которые могли не только посмотреть на них, но и высказать свое мнение.
Поколение Z стало первым в истории, кто прошел через половое созревание с карманным порталом, который заменял им живое общение и открывал проход в альтернативную вселенную – манящую, захватывающую, нестабильную и, как мы скоро увидим, совершенно неподходящую для детей. Чтобы добиться в ней социального успеха, им приходилось уделять немалое количество времени – причем постоянно – управлению, по сути, собственным онлайн-брендом. Только так они могли получить признание сверстников, которое для подростков подобно кислороду, и одновременно избежать публичного осуждения, которое всегда было их главным кошмаром.
Подростки поколения Z оказались втянуты в бесконечную прокрутку ярких и радостных постов друзей, знакомых и инфлюенсеров. Они начали проводить больше времени за просмотром пользовательских видео и потокового контента, который им предлагали автовоспроизведение и алгоритмы, разработанные для того, чтобы как можно дольше удерживать их в Сети. При этом они стали уделять гораздо меньше времени играм, общению, прикосновениям и даже зрительному контакту с друзьями и членами семьи, тем самым сократив свое участие в реальном социальном взаимодействии, которое необходимо для успешного развития человека.
Дети поколения Z испытали на себе совершенно новую систему взросления, далекую от живого общения с ограниченным кругом людей, в условиях которого развивалось человечество раньше. Назовем это Великим подключением детства. Можно сказать, они стали первым поколением, выросшим на Марсе.
Великое подключение связано не только с изменениями в технологиях, которые определяют повседневную жизнь и формируют мышление детей. Есть и второй лейтмотив: благонамеренный, но катастрофический сдвиг в сторону гиперопеки и ограничения детской самостоятельности. Как и прочим млекопитающим, для полноценного развития детям нужна свобода. Это обязательное условие. Небольшие проблемы и неудачи во время игры подобны прививке, которая готовит к более серьезным испытаниям в будущем. Однако по ряду исторических и социологических причин уровень детской свободы начал снижаться в 1980-е годы, а в 1990-е этот процесс ускорился. Взрослые в США, Великобритании и Канаде все чаще стали опасаться, что оставленный без присмотра ребенок станет жертвой похитителей и преступников на сексуальной почве. Неконтролируемые игры на открытом воздухе начали терять популярность одновременно с распространением персональных компьютеров, которые превратились в привлекательное место для проведения досуга[15].
Я предлагаю рассматривать конец 1980-х годов как начало перехода от «игрового» детства к «телефонному», а середину 2010-х, когда у большинства подростков появились собственные смартфоны, – как его завершение. Термин «телефонный» здесь используется в широком смысле и охватывает всю подключенную к интернету электронику, которая занимает время молодых людей: ноутбуки, планшеты, игровые консоли с доступом к Сети и, что самое важное, смартфоны с миллионами приложений.
В таком же широком смысле я говорю об игровом и телефонном «детстве», охватывая этим термином не только детей, но и подростков (чтобы не писать «телефонное детство и юность»). Психологи, занимающиеся развитием, часто считают началом юности период полового созревания, однако поскольку оно наступает у разных детей в разное время, а в последние десятилетия смещается в сторону более раннего возраста, было бы некорректно приравнивать юность к подростковому периоду[16]. В этой книге возраст будет классифицироваться следующим образом:
• Дети: от 0 до 12 лет.
• Молодые люди: от 10 до 20 лет включительно.
• Подростки: от 13 до 19 лет.
• Несовершеннолетние: все, кому нет 18 лет. Иногда я также буду использовать слово «дети», поскольку оно звучит менее формально и более естественно, чем «несовершеннолетние».
Пересечение между детьми и молодыми людьми сделано намеренно: дети в возрасте от 10 до 12 лет находятся на стыке детства и юности, и их часто называют подростками. (Этот период также известен как ранний подростковый возраст.) Они сохраняют игривость, характерную для детей младшего возраста, но у них уже начинают проявляться социальные и психологические сложности, свойственные подросткам.
Постепенно телефонное детство стало вытеснять игровое, и чем больше времени молодые люди проводили за телефонами, тем охотнее они оставались дома, чтобы играть онлайн. При этом, однако, они лишились сложного физического и социального опыта, который необходим молодым млекопитающим для развития базовых навыков, преодоления врожденных страхов и подготовки к самостоятельной жизни. Виртуальное взаимодействие со сверстниками не может полностью компенсировать эту потерю. Более того, дети, чьи игры и социальная жизнь переместились в Сеть, все чаще оказывались во «взрослых» пространствах: они потребляли контент для взрослых и взаимодействовали с ними образом, зачастую оказывающим на несовершеннолетних пагубное влияние. Получается, что родители, стремясь защитить детей от опасностей реального мира, неосознанно предоставляли им полную независимость в мире виртуальном – в большинстве своем потому, что не понимали его и не знали, как и что ограничивать.
Основная идея этой книги заключается в том, что именно эти тенденции – чрезмерная опека в реальном мире и недостаточная в виртуальном – стали главными причинами появления тревожного поколения детей, родившихся после 1995 года.
Несколько замечаний о терминологии. Когда я говорю о «реальном мире», то подразумеваю отношения и социальные взаимодействия, которые развивались на протяжении миллионов лет и обладают четырьмя характерными чертами:
1. Они телесны. Для общения нам требуется тело, при этом мы находимся в близости от других людей и реагируем на них как осознанно, так и на подсознательном уровне.
2. Они синхронны. Это значит, что обмен информацией происходит одновременно в порядке, на который указывают косвенные сигналы.
3. В основном они подразумевают общение один на один или в небольших группах, при этом в каждый момент времени происходит только одно взаимодействие.
4. Они возникают в группах с высоким порогом входа и выхода, что мотивирует людей вкладываться в отношения и разрешать разногласия.
Напротив, когда я говорю о «виртуальном мире», то подразумеваю отношения и взаимодействия, которые развивались на протяжении последних десятилетий и обладают четырьмя чертами, характерными только для них:
1. Они бестелесны. Тело не требуется, достаточно языка. В общении может участвовать искусственный интеллект (ИИ).
2. Они полностью асинхронны. Взаимодействие происходит через текстовые сообщения и комментарии. (Видеозвонки – исключение; они синхронны.)
3. Значительная часть коммуникации адресована потенциально огромной аудитории, то есть происходит по принципу «один ко многим». Несколько взаимодействий могут протекать параллельно.
4. Они возникают в группах с низкой планкой входа и выхода, что позволяет участникам блокировать друг друга и уходить, когда они недовольны. Такие группы часто недолговечны, а отношения поверхностны.
На практике границы размываются. Моя семья – часть реального мира, хотя мы звоним друг другу по видео и общаемся в чатах и через электронную почту. С другой стороны, отношения между учеными XVIII века, которые знали друг друга только по переписке, можно сравнить с виртуальным. Ключевой фактор – решимость поддерживать отношения. Когда люди растут в сообществе, из которого не могут сбежать, они поступают так же, как поступали наши предки на протяжении миллионов лет: учатся управлять отношениями, собой и своими эмоциями, чтобы поддерживать драгоценные связи. Безусловно, в виртуальной среде тоже можно сформировать тесные социальные узы и почувствовать себя частью коллектива. Однако дети, которые растут в многочисленных изменчивых сообществах, где не обязательно использовать настоящее имя и которые можно покинуть одним нажатием кнопки, с меньшей вероятностью овладеют нужными навыками.
Эта книга состоит из четырех частей. Они раскрывают тенденции в области психического здоровья подростков с 2010 года (часть первая); природу детства и то, как мы его испортили (часть вторая); вред, который наносит телефонное детство (часть третья); и то, что нужно делать, чтобы исправить ущерб, нанесенный нашим семьям, школам и обществу (часть четвертая). Изменения возможны, если действовать сообща.
Первая часть включает одну главу, которая показывает, насколько разрушительным стал быстрый переход к телефонному детству. В ней изложены факты об ухудшении психического здоровья и благополучия подростков в XXI веке. Оно проявляется в резко возросших с начала 2010-х годов показателях тревожности, депрессии и самоповреждений, что сильнее всего затронуло девочек. У мальчиков ситуация сложнее: рост соответствующих показателей часто менее выражен (кроме уровня самоубийств) и иногда начинается немного раньше.
Во второй части рассказана предыстория. Кризис психического здоровья 2010-х годов уходит корнями в растущую тревожность и чрезмерную опеку родителей 1990-х. Я покажу, что смартфоны наряду с чрезмерной опекой стали «блокатором опыта», лишив детей и подростков важных социальных взаимодействий реального мира: от рискованных игр и культурного познания до обрядов посвящения и романтических привязанностей.
В третьей части представлены исследования, показывающие, что детство в телефоне во многих отношениях нарушает развитие ребенка. Там я опишу четыре основных вида ущерба: лишение сна, социальную депривацию, фрагментацию внимания и зависимость. Затем я подробно остановлюсь на девочках[17]: покажу, что использование социальных сетей не просто коррелирует с психическими расстройствами, но и вызывает их, а также продемонстрирую доказательства из разных сфер жизни. Я подсвечу отличия психического здоровья у мальчиков и покажу, что Великое подключение способствовало увеличению числа мужчин, которые не смогли «вырасти» из подросткового возраста во взрослых людей с соответствующими обязанностями. Завершается третья часть размышлениями о том, что жизнь в телефоне влияет на всех: детей, подростков и взрослых. Из-за нее мы летим ко дну духовной ямы – другими словами это не описать. Я приведу шесть древних духовных практик, которые способны сделать нашу жизнь лучше.
В четвертой части я изложу план действий, которого необходимо придерживаться в сложившейся ситуации. Опираясь на исследования, я поделюсь рекомендациями, как нужно вести себя технологическим компаниям, властям, школам и родителям, чтобы преодолеть разнообразные «проблемы коллективных действий». Так социологи называют ситуации, в которых индивидуум, действующий в одиночку, сталкивается с высокими издержками, и только координированные действия группы позволяют находить решения, оптимальные для всех в долгосрочной перспективе.
Как профессор Нью-Йоркского университета, преподающий курсы для студентов бакалавриата и аспирантуры, а также часто выступающий в школах и колледжах, я заметил, что у поколения Z есть несколько сильных сторон, которые помогут им добиться позитивных изменений. Во-первых, они не склонны к отрицанию. Они стремятся к здоровому образу жизни и обычно открыты для новых взаимодействий. Во-вторых, они хотят добиться системных изменений, чтобы создать более справедливый и неравнодушный мир, и для этого готовы действовать сообща (да, используя социальные сети). За последний год я все чаще слышу о молодых людях, которые начинают осознавать, как их эксплуатирует индустрия высоких технологий. Объединившись, они обязательно найдут решения, выходящие за рамки тех, что я предлагаю в этой книге, и воплотят их в жизнь.
Я не клинический психолог, а социальный и не являюсь специалистом по медиа. Но кризис психического здоровья подростков – это актуальная и сложная тема, которую невозможно понять с точки зрения одной дисциплины. Я изучаю нравственность, эмоции и культуру и в процессе освоил подходы и инструменты, которые могу применить в исследованиях детского развития и психического здоровья подростков.
Я активно работаю в области позитивной психологии с момента ее зарождения в конце 1990-х годов, исследуя причины счастья. Моей первой книгой стала «Гипотеза счастья»[18], где я рассматриваю десять «великих истин» о том, как прожить яркую жизнь, открытых древними культурами Востока и Запада.
На основе этой книги я разработал курс «Расцвет», который читал до 2011 года, пока занимал должность профессора психологии в Университете Вирджинии. Сейчас я преподаю его в Школе бизнеса Стерна Нью-Йоркского университета студентам бакалавриата и магистратуры делового администрирования. Я видел, как растет уровень тревожности и зависимости от гаджетов, когда моими студентами стали не миллениалы с раскладушками, а представители поколения Z, использующие смартфоны. Их откровенность в обсуждении проблем психического здоровья и сложных отношений с технологиями помогла мне многое осознать.
Моя вторая книга, «Праведный разум»[19], посвящена моим собственным исследованиям эволюционных психологических основ нравственности. В ней я рассматриваю причины, по которым политика и религия разобщают хороших людей, и уделяю особое внимание общечеловеческой потребности принадлежать к моральным сообществам, с которыми они разделяют общие цели. Эта работа помогла мне понять, что социальные сети, какими бы полезными они ни были для взрослых людей, не могут быть полноценной заменой реальных сообществ, в которых дети росли, формировались и воспитывались на протяжении сотен тысяч лет.
Однако именно третья книга привела меня к изучению психического здоровья подростков. Мой друг Грег Лукьянофф одним из первых заметил резкие изменения, произошедшие в студенческих городках. Студенты начали использовать те же искаженные модели мышления, что он научился распознавать и преодолевать благодаря КПТ (когнитивно-поведенческой терапии), которую начал изучать после тяжелого депрессивного эпизода в 2007 году.
Грег – юрист и президент Фонда за индивидуальные права и самовыражение, издавна помогающего студентам отстаивать свои права перед строгостью администрации. В 2014 году он заметил нечто странное: сами студенты начали требовать, чтобы колледжи защищали их от «небезопасных» литературы и спикеров. Грег предположил, что университеты неким образом учат студентов использовать когнитивные искажения – такие, например, как катастрофизация, черно-белое и эмоциональное мышление – и что это может являться причиной их депрессии и тревожности. В августе 2015 года мы изложили эту идею в эссе для журнала Atlantic под названием «Избалованность американского разума».
Мы оказались правы лишь отчасти: некоторые университетские курсы и новые академические тенденции[20] действительно непреднамеренно способствовали развитию когнитивных искажений. Однако к 2017 году стало ясно, что рост депрессии и тревожности наблюдается в разных странах, затронув подростков всех уровней образования, социальных слоев и рас. В среднем люди, родившиеся в 1996 году и позже, психологически отличались от тех, кто родился всего несколькими годами ранее.
Мы решили расширить нашу статью для Atlantic до книги с тем же названием[21]. В ней мы проанализировали причины кризиса психического здоровья, опираясь на книгу Джин Твенге 2017 года «Поколение I»[22]. Однако в то время большинство доказательств были корреляционными: так, например, вскоре после появления айфонов подростки начали чаще впадать в депрессию. Самые активные пользователи оказывались и самыми депрессивными, тогда как те, кто проводил больше времени офлайн – занимаясь, например, спортом или участвуя в деятельности религиозных общин, – демонстрировали лучшее психическое здоровье[23]. Но поскольку корреляция не является доказательством причинно-следственной связи, мы предостерегли родителей от радикальных мер на основе имеющихся данных.
Сейчас, в 2023 году, появилось гораздо больше исследований – как экспериментальных, так и корреляционных, – которые показывают, что социальные сети вредят подросткам, особенно девочкам в период полового созревания[24]. Более того, во время работы над этой книгой я обнаружил, что проблема глубже, чем предполагалось изначально. Речь идет не только о смартфонах и социальных сетях; речь идет о беспрецедентной исторической трансформации детства. Трансформации, которая затрагивает как мальчиков, так и девочек.
За сто лет мы накопили богатый опыт в обеспечении детской безопасности. Автомобили стали популярны в начале ХХ века, и десятки тысяч детей погибали в авариях, пока в 1960-х годах не ввели обязательные ремни безопасности, а в 1980-х – и детские кресла[25]. В конце 1970-х, когда я учился в школе, многие мои одноклассники курили сигареты, которые можно было легко купить в торговых автоматах. Позже в Америке запретили эти автоматы, что создало неудобства для взрослых курильщиков, ведь теперь им пришлось покупать сигареты у продавцов, способных подтвердить возраст[26].
На протяжении десятилетий мы находили способы защитить детей, при этом стараясь не ограничивать взрослых. Но с внезапным появлением виртуального мира, где взрослые могли потакать любым своим прихотям, дети оказались практически беззащитны. По мере увеличения числа доказательств, что детство в телефонах делает наших детей психически нездоровыми, социально изолированными и глубоко несчастными, возникает вопрос: согласны ли мы на такой компромисс? Или, как это было в ХХ веке, мы наконец поймем, что иногда нужно защищать детей от вреда, даже если это доставляет неудобства взрослым?
В четвертой части я предлагаю множество идей для реформ, призванных исправить две самые большие наши ошибки: тягу к чрезмерной опеке детей в реальном мире (где им необходим богатый непосредственный опыт) и недостаток опеки в интернете (где они особенно уязвимы в период полового созревания). Все предложения основаны на исследовании, представленном в частях 1–Поскольку его результаты сложны и остаются предметом споров среди ученых, я, безусловно, могу ошибаться в отдельных моментах. Все недочеты я постараюсь исправить в онлайн-приложении к книге. Тем не менее есть четыре реформы, которые я считаю настолько важными и в которых настолько уверен, что готов назвать основополагающими. В цифровую эпоху они могут стать фундаментом для более здорового детства. Итак, эти реформы:
1. Никаких смартфонов до старшей школы. Чтобы у детей не было круглосуточного доступа к интернету, родители должны выдавать им обычные телефоны (с ограниченными приложениями и без интернет-браузера) до девятого класса (примерно до 14 лет).
2. Никаких социальных сетей до 16 лет. Прежде чем подключать детей к потоку социального сравнения и подобранных алгоритмами инфлюенсеров, дайте их мозгу пережить самый уязвимый период развития.
3. Запрет телефонов в школах. Во всех школах ученики от начальных до старших классов должны оставлять телефоны, смарт-часы и другие устройства, способные отправлять или получать сообщения, в специальных шкафчиках или закрытых сумках на время учебного дня. Только тогда они начнут уделять внимание общению друг с другом и с учителями.
4. Больше свободы и независимости в играх. Именно так дети естественным образом развивают социальные навыки, преодолевают тревогу и становятся самостоятельными взрослыми.
Эти четыре реформы несложно реализовать – если действовать сообща. Они почти не требуют затрат и будут работать даже без помощи законодателей. Я уверен: если родители объединятся со школами и примут меры, уже через два года мы увидим существенные улучшения в психическом здоровье подростков. Учитывая, что благодаря искусственному интеллекту и пространственным вычислениям (как, например, в новых очках Vision Pro от Apple) виртуальный мир вскоре станет еще более захватывающим и увлекательным, я считаю, что действовать нужно сейчас.
Когда я писал «Гипотезу счастья», я проникся большим уважением к древней мудрости и открытиям предыдущих поколений. Что бы сказали мыслители, увидев жизнь, проводимую в телефонах? Они бы призвали нас отказаться от гаджетов и вернуть контроль над своим разумом. Вот как Эпиктет в I веке нашей эры сетовал на человеческую склонность позволять другим управлять своими эмоциями:
Если бы кто-то вручил твое тело первому встречному, ты бы вознегодовал, а то, что ты доверяешь свой разум случайному человеку, чтобы, если станут тебя бранить, разум твой пришел в смущение и смятение, тебе от этого не стыдно?[27][28]
Каждый, кто проверял «упоминания» в социальных сетях или расстраивался из-за того, что о нем написали другие, поймет беспокойство Эпиктета. Даже те, кого редко упоминают или критикуют и кто просто листает бесконечную ленту, наполненную поступками, высказываниями и жизнью других, оценят совет Марка Аврелия, который он дал себе во II веке нашей эры:
Не переводи остаток жизни за представлениями о других, когда не соотносишь это с чем-либо общеполезным. Ведь от другого-то дела откажешься, воображая, значит, что делает такой-то и зачем бы, и что говорит, и что думает, и что такое замышляет, и еще много всякого, отчего сбивается внимание к собственному ведущему[29][30].
Взрослые из поколения X и старше не столкнулись с резким ростом клинической депрессии и тревожных расстройств, начавшимся в 2010-х[31], но из-за новых технологий, которые постоянно вмешиваются в нашу жизнь, многие стали сильнее уставать и чаще отвлекаться. А с появлением генеративного ИИ, способного создавать сверхреалистичные поддельные фото, видео и новостные сюжеты, путаницы в сетевой жизни наверняка только прибавится[32]. Но мы еще можем все изменить; мы можем вернуть контроль над собственным разумом.
Эта книга предназначена не только для родителей, учителей и других людей, у которых есть подопечные дети. Она для всех, кто хочет понять, как самая быстрая в истории трансформация человеческих отношений и сознания мешает нам думать, сосредотачиваться, забывать о себе ради других и строить близкие отношения.
«Тревожное поколение» – это книга о том, как вернуть человеческую жизнь людям всех поколений.
Часть 1
Приливная волна
Глава 1
Всплеск страданий
Когда я общаюсь с родителями подростков, разговор часто заходит о смартфонах, социальных сетях и видеоиграх. Как правило, все истории укладываются в несколько общих шаблонов. Один из них – история «постоянного конфликта»: родители пытаются устанавливать правила, но устройств слишком много, а неизменные попытки добиться послаблений и обойти ограничения приводят к тому, что на первое место в семейной жизни выходят разногласия по поводу технологий. Поддержание семейных традиций и простейших человеческих отношений начинает напоминать борьбу с неизменно нарастающим течением, которое захлестывает как родителей, так и детей.
В большинстве историй не фигурируют диагностированные психические расстройства. Скорее родителей беспокоит противоестественность происходящего. Они боятся, что за часами, проведенными в интернете, их дети упускают все остальное.
Но бывают и более мрачные истории. Родителям кажется, будто они потеряли ребенка. Мать, с которой я беседовал в Бостоне, рассказала об усилиях, которые им с мужем пришлось приложить, чтобы удержать свою четырнадцатилетнюю дочь Эмили[33] подальше от инстаграма. Они видели, какое пагубное воздействие он на нее оказывал, и пробовали ограничить ей доступ с помощью программ мониторинга и родительского контроля. Однако Эмили находила способы обойти блокировки, и семейная жизнь превратилась в постоянную борьбу. Особую тревогу вызвал случай, когда она залезла в телефон матери, отключила программное обеспечение для мониторинга и пригрозила покончить с собой, если родители опять его установят. Ее мама сказала мне:
Такое ощущение, что единственный способ исключить из ее жизни смартфон и социальные сети – это переехать на необитаемый остров. Раньше она каждое лето на шесть недель уезжала в лагерь, куда нельзя было привозить ни телефоны, ни прочую электронику. Когда мы ее забирали, она снова становилась собой. Но как только ей в руки попадал телефон, уныние и раздражение возвращались. В прошлом году я на два месяца забрала у нее смартфон и дала раскладушку, и все вернулось на круги своя.
В случае мальчиков подобные истории обычно связаны с видеоиграми или порнографией, а не с социальными сетями, особенно если мальчик из просто геймера становится заядлым. Один плотник рассказал мне о своем четырнадцатилетнем сыне Джеймсе, мальчике с легкой степенью аутизма. До вспышки коронавируса он хорошо учился в школе и занимался дзюдо. Но школы закрыли на карантин, когда Джеймсу было одиннадцать, и родители купили PlayStation, чтобы чем-то занять его дома.
Поначалу это улучшило жизнь Джеймса – он получал искреннее удовольствие от игр и общения. Но чем больше времени он проводил за Fortnite, тем сильнее менялось его поведение. «Тогда-то и проявились депрессия, гнев и лень. Тогда-то он и начал на нас огрызаться», – рассказал мне отец. Чтобы справиться с внезапными изменениями в поведении Джеймса, они с женой отобрали у него всю электронику. Тогда у Джеймса проявились симптомы отмены, включая раздражительность и агрессию, и он отказался выходить из своей комнаты. Хотя несколько дней спустя интенсивность симптомов спала, родители все еще не знали, что делать: «Мы пытались ограничить время, которое он проводит за гаджетами, но у него нет друзей, кроме как в интернете, так где провести черту?»
Независимо от сюжета или серьезности истории, родители часто считают, что попали в ловушку и бессильны. Большинство не хотят, чтобы их дети просидели в телефонах все детство, но ситуация в мире такова, что любое сопротивление обрекает детей на социальную изоляцию.
В оставшейся части главы я приведу доказательства того, что проблема действительно есть и что в начале 2010-х в жизни молодых людей произошли изменения, которые привели к ухудшению их психического здоровья. Но прежде чем погрузиться в данные, я хотел поделиться высказываниями родителей, которые изо всех сил пытаются вернуть детей, унесенных этой волной.
В 2000-х годах не было никаких признаков надвигающегося кризиса психических заболеваний среди подростков[34]. Но в начале 2010-х ситуация изменилась, причем совершенно внезапно. К возникновению психических заболеваний приводит много причин; у каждого случая – своя сложная предыстория, включающая генетику, детский опыт и социологические факторы. Я хочу уделить внимание тому, почему во многих странах показатели психических заболеваний среди поколения Z (и некоторых поздних миллениалов) между 2010 и 2015 годами выросли, в то время как у старших поколений остались практически неизменны. Что вызвало одновременный международный рост показателей подростковой тревожности и депрессии?
Мы с Грегом закончили писать «Избалованность американского разума» в начале 2018 года. Рисунок 1.1 основан на графике из той книги с данными по 2016 год. Я дополнил его, чтобы показать произошедшие с тех пор изменения. В исследовании, которое ежегодно проводит правительство США, подросткам задают ряд вопросов об употреблении наркотиков и психическом состоянии. Например, случалось ли им испытывать длительные периоды «грусти, опустошенности или подавленности» или периоды, когда они «утратили интерес к вещам, которые приносили им радость». Тех, кто ответил «да» более чем на пять из девяти вопросов о симптомах тяжелой депрессии, относят к категории людей, которые за последний год с высокой вероятностью пострадали от тяжелого депрессивного эпизода.
Рис. 1.1. Тяжелая депрессия среди подростков. Процент американских подростков (12–17 лет), сообщивших как минимум об одном серьезном депрессивном эпизоде за последний год на основе контрольного списка симптомов. Рисунок 7.1 из книги «Избалованность американского разума» с обновленными данными после 2016 года. (Источник: Национальное исследование употребления наркотиков и здоровья в США.)[35]
Начиная с 2012 года можно увидеть внезапный и очень большой скачок в количестве таких эпизодов. (На рисунке 1.1 и большинстве последующих графиков я добавил затененную область, чтобы вам было легче судить, изменилось ли что-то между 2010 и 2015 годами, периодом, который я называю Великим подключением.) В абсолютном выражении (количество новых эпизодов с 2010 года) прирост среди девочек был намного больше, чем среди мальчиков, и резкий подъем кривой выделяется сильнее. Однако мальчики начали с более низких показателей, поэтому в относительном выражении (процентное изменение с 2010 года, которое я всегда буду использовать в качестве исходного уровня) для обоих полов рост был одинаковым: примерно 150 %. Другими словами, депрессия стала почти в 2,5 раза более распространенной. Рост произошел среди всех рас и социальных классов[36]. Данные за 2020 год были собраны частично до и частично после карантина из-за коронавируса, и к тому времени каждая четвертая американская девочка-подросток успела пережить серьезный депрессивный эпизод. Также можно увидеть, что в 2021 году ситуация ухудшилась; после 2020 года график резче уходит вверх. Но самый большой прирост произошел до пандемии.
Что же случилось с подростками в начале 2010-х? Нам нужно понять, кто от чего страдает и в какой момент это началось. Чтобы определить причины всплеска и найти потенциальные способы обратить его вспять, крайне важно ответить на эти вопросы точно. Именно такую задачу поставила перед собой наша команда, и в этой главе будет подробно описано, как мы пришли к нашим выводам.
Важные подсказки к разгадке этой тайны мы обнаружили, углубившись в данные о психическом здоровье подростков[37]. Первая заключается в том, что самый большой прирост заметен среди расстройств, связанных с тревогой и депрессией, которые психиатры относят к интернализирующим расстройствам. В стрессовых ситуациях люди с подобными расстройствами переживают симптомы внутренне. Им присущи такие эмоции, как тревога, страх, грусть и безнадежность. Они много размышляют и часто замыкаются в себе.
Рис. 1.2. Психические заболевания среди студентов. Процент учащихся американских колледжей с различными психическими заболеваниями. Частота диагностики многих расстройств, особенно тревожности и депрессии, в 2010-х годах значительно возросла. (Источник: Американская ассоциация здравоохранения колледжей.)[38]
Напротив, экстернализирующие расстройства – это те, при которых люди направляют симптомы и реакции вовне, на других людей. Симптомы включают в себя расстройство поведения, трудности с управлением гневом и тягу к насилию и чрезмерному риску. Девочки и женщины более склонны к интернализирующим расстройствам, в то время как мальчики и мужчины – к экстернализирующим. Это не зависит от возраста, национальности и страны проживания[39]. При этом с начала 2010-х годов оба пола испытывают больше интернализирующих и меньше экстернализирующих расстройств[40].[41]
Рис. 1.3. Распространенность тревожности по возрасту. Процент взрослых в США, сообщающих о высоком уровне тревожности, по возрастным группам. (Источник: Национальное исследование употребления наркотиков и здоровья в США.)[42]
Растущее количество интернализующих расстройств можно увидеть на рисунке 1.2, где показан процент студентов колледжей, которые сообщили о диагнозе, поставленном профессиональным врачом. Данные получены из стандартизированных университетских опросов, собранных Американской ассоциацией здравоохранения колледжей (ACHA)[43]. Графики депрессии и тревожности начинаются намного выше остальных диагнозов и растут быстрее как в относительном, так и в абсолютном выражении. Почти весь прирост психических заболеваний в кампусах колледжей в 2010-х годах был вызван ростом тревожности или депрессии[44].
Вторая подсказка заключается в том, что всплеск сосредоточен в поколении Z, несколько захватывая самых молодых миллениалов. Это заметно на рисунке 1.3, где показан процент респондентов в четырех возрастных группах, сообщивших, что в прошлом месяце чувствовали тревогу «большую часть времени» или «все время». До 2012 года ни для одной из четырех групп не проявляется выраженной динамики, но затем самая молодая группа (в которую с 2014 года начинает входить поколение Z) резко уходит вверх. Следующая по старшинству группа (в основном миллениалы) тоже растет, хотя и не так сильно, а две самые старшие остаются относительно неизменны: наблюдаются небольшой рост для поколения X (родившихся в 1965–1980 годах) и небольшое снижение для беби-бумеров (родившихся в 1946–1964 годах).
Тревога связана со страхом, но это разные вещи. Диагностическое руководство по психиатрии (DSM–5–TR) определяет страх как «эмоциональную реакцию на реальную или предполагаемую неминуемую угрозу, тогда как тревога – это ожидание будущей угрозы»[45]. Оба являются здоровыми реакциями на окружающую действительность, но в чрезмерном проявлении переходят в категорию расстройств.
На сегодняшний день тревожность и связанные с ней расстройства являются преобладающими психическими заболеваниями у молодых людей. Можно заметить, что на рисунке 1.2 среди различных диагнозов больше всего выросли показатели тревожности и депрессии. Исследование 2022 года, в котором приняли участие более 37 тысяч старшеклассников Висконсина, выявило повышение распространенности тревожности с 34 % в 2012 году до 44 % в 2018 году, причем наибольший рост наблюдался среди девочек и подростков ЛГБТК[46][47]. Исследование 2023 года, проведенное среди американских студентов, показало, что 37 % испытывают тревогу «всегда» или «большую часть времени», в то время как еще 31 % чувствует себя так «примерно половину времени». Это означает, что только треть студентов колледжей испытывают тревогу менее половины времени или не испытывают совсем[48].
Страх, пожалуй, является самой важной эмоцией для выживания в животном царстве. В мире, полном хищников, у представителей с молниеносной реакцией больше шансов передать гены потомству. На самом деле быстрая реакция на угрозы настолько важна, что мозг млекопитающих способен вызвать страх еще до того, как информация от глаз поступит в зрительные центры в задней части мозга для полной обработки[49]. Вот почему мы можем испугаться и отскочить с пути приближающейся машины, даже не осознав, на что смотрим. Страх – это сигнал тревоги, подключенный к системе быстрого реагирования. Как только угроза минует, сигнал тревоги перестает звенеть, гормоны стресса прекращают вырабатываться, и чувство страха стихает.
В то время как страх в момент опасности активирует всю систему реагирования, тревога запускает части той же системы, когда угроза просто воспринимается как возможная. Быть начеку и испытывать чувство тревоги в потенциально опасной ситуации – здоровая реакция. Но когда сигнал срабатывает в повседневных ситуациях – включая те, что не представляют реальной угрозы, – это приводит к постоянному стрессу. Такое происходит, когда обычная здоровая временная тревога превращается в тревожное расстройство.
Также важно отметить, что наш сигнал тревоги развился не только в ответ на физические угрозы. Наше эволюционное преимущество обусловлено более крупным мозгом и способностью формировать сильные социальные группы, что делает нас особенно восприимчивыми к связанным с ними угрозам, таким как избегание и стыд. Люди – в особенности подростки – зачастую больше боятся «социальной» смерти, чем физической.
Тревога влияет на разум и тело различными способами. Часто она проявляется в виде стеснения и дискомфорта в области живота и грудной клетки[50]. Эмоционально тревога воспринимается как беспокойство и страх, перерастающие в истощение. В когнитивном отношении часто становится трудно мыслить трезво, что приводит к навязчивым размышлениям и провоцирует искажения, которыми занимается когнитивно-поведенческая терапия. Среди них – катастрофизация, чрезмерное обобщение и черно-белое мышление. У людей с тревожными расстройствами эти искаженные модели часто вызывают неприятные физические симптомы, которые порождают чувства страха и беспокойства, а те, в свою очередь, провоцируют еще более тревожные мысли, замыкая порочный круг.
Как видно из рисунка 1.2, второе наиболее распространенное психическое расстройство среди молодых людей на сегодняшний день – это депрессия. С точки зрения психиатрических категорий под депрессией здесь подразумевается большое депрессивное расстройство (БДР). Два его ключевых симптома – это подавленное настроение (чувство грусти, пустоты, безнадежности) и потеря интереса и удовольствия от большинства или всех видов деятельности[51]. «Каким докучным, тусклым и ненужным // Мне кажется все, что ни есть на свете!» – сказал Гамлет[52][53] сразу после того, как посетовал на запрет Бога на самоубийство. Для диагностики БДР симптомы должны постоянно присутствовать в течение как минимум двух недель. Они часто сопровождаются физическими проблемами, в том числе значительной потерей или набором веса, бессонницей или чрезмерной сонливостью и усталостью. Также им сопутствуют расстройства мышления, включая неспособность сосредоточиться, зацикливание на своих проступках и неудачах, вызывающее чувство вины, и множество когнитивных искажений, которым пытается противостоять КПТ. Люди, страдающие депрессивным расстройством, склонны задумываться о самоубийстве: им кажется, что нынешние страдания не закончатся, а смерть – это конец.
Важной особенностью депрессии для этой книги является ее связь с социальными отношениями. Люди с большей вероятностью впадают в депрессию в периоды социальной изоляции (как настоящей, так и надуманной), а затем депрессия подавляет их интерес и способность к поиску новых связей. Как и в случае с тревогой, это порочный круг. Поэтому в этой книге я буду уделять пристальное внимание дружбе и социальным отношениям. Мы увидим, что активное детство их укрепляет, в то время как детство, проведенное в телефоне, наоборот, ослабляет.
Сам я не склонен к тревожности и депрессии, но страдал от продолжительной тревоги, требующей приема лекарств, в течение трех периодов жизни. Один из них сопровождался диагнозом тяжелой депрессии. Поэтому я могу в некоторой степени посочувствовать тому, что переживают многие молодые люди. Я понимаю, что подростки с тревожными или депрессивными расстройствами не могут просто «взять себя в руки» или «перестать ныть». Эти расстройства вызваны комбинацией генов (некоторые люди более предрасположены к ним), моделей мышления (которым можно научиться и от которых можно отвыкнуть), социальных и экологических условий. Но поскольку гены между 2010 и 2015 годами не менялись, нужно понять, какие сдвиги в моделях мышления и социально-экологических условиях вызвали эту волну тревоги и депрессии.
Изначально многие эксперты в области психического здоровья скептически относились к идее, что резкий скачок показателей тревожности и депрессии отражает реальное увеличение числа заболеваний. На следующий день после выхода «Избалованности американского разума» в газете New York Times появилось эссе под заголовком «Большой миф о подростковой тревожности»[54]. В нем психиатр высказал несколько важных возражений против того, что он назвал растущей моральной паникой вокруг подростков и смартфонов. Он заметил, что большинство исследований, демонстрирующих рост психических заболеваний, были основаны на словах самих подростков – как, например, данные на рисунке 1. Изменения в опросниках не обязательно означают изменения в реальных показателях психических заболеваний. Вдруг молодые люди просто стали более склонны ставить себе диагнозы или открыто говорить о проблемах? Или начали ошибочно принимать легкие симптомы тревожности за психическое расстройство?
Был ли психиатр прав в своем скептицизме? Он был, безусловно, прав в том, что для понимания ситуации нужно учитывать множество факторов. Для этого можно посмотреть на данные, которые сами подростки не сообщают. Многие исследования отмечают скачок в количестве молодых людей, доставленных в отделения неотложной психиатрической помощи или госпитализированных после преднамеренного нанесения себе вреда. Причиной могли послужить как попытки самоубийства, часто путем передозировки лекарств, так и несуицидальные самоповреждения (NSSI) – например, нанесение порезов без намерения умереть.
На рисунке 1.4 показано количество посещений пунктов неотложной помощи в Соединенных Штатах. Закономерность, которая прослеживается на графике, сходна с ростом показателей депрессии на рисунке 1.1 – особенно среди девочек.
С 2010 по 2020 год процент самоповреждений среди девочек младшего подросткового возраста почти утроился. Для девушек постарше (15–19 лет) он удвоился, а вот для женщин старше 24 лет, напротив, снизился (см. онлайн-приложение)[55]. Получается, изменения, произошедшие в начале 2010-х, в первую очередь ударили по девочкам и девушкам-подросткам. Это еще одна большая подсказка. Акты умышленного нанесения себе вреда, представленные на рисунке 1.4, включают как нефатальные попытки самоубийства, которые указывают на крайне высокий уровень стресса и отчаяния, так и несуицидальные самоповреждения – например, порезы. Последние стоит рассматривать как способ справляться с сильнейшей тревожностью и депрессией, к которому чаще всего прибегают девочки и молодые женщины.
Рис. 1.4. Посещение отделений неотложной помощи из-за самоповреждений. Частота обращений американских подростков 10–14 лет в отделения неотложной помощи с нелетальными повреждениями, нанесенными самостоятельно (на 100 000 населения). (Источники: Центры США по контролю и профилактике заболеваний, Национальный центр профилактики и контроля травматизма.)[56]
Уровень подростковых самоубийств в США демонстрирует динамику времени, сходную с показателями депрессии, тревожности и самоповреждений, хотя здесь период быстрого роста начинается на несколько лет раньше. На рисунке 1.5 отражено число самоубийств среди детей 10–14 лет на 100 тысяч человек той же возрастной группы[57]. В западных странах показатели среди мальчиков почти всегда выше, чем среди девочек, при этом попытки самоубийства и несуицидальные самоповреждения чаще встречаются у последних, что и было показано ранее[58].
Как видно из рисунка 1.5, уровень самоубийств среди девочек-подростков начал расти в 2008 году и резко подскочил в 2012-м, хотя до этого с 1980-х годов колебался в ограниченном диапазоне. С 2010 по 2021 год этот показатель увеличился на 167 %. Это еще одна подсказка, которая заставляет задуматься: что изменилось в жизнях девочек и девушек младшего подросткового возраста в начале 2010-х годов?
Быстрый рост числа самоповреждений и самоубийств, а также данные университетских исследований, указывающие на повышение уровня тревожности и депрессии, – весомые аргументы против людей, которые скептически настроены к кризису психического здоровья. Я не утверждаю, что рост тревожности и депрессии никак не связан с большей готовностью подростков сообщать о своем состоянии (что хорошо) или с тенденцией патологизировать нормальную тревожность и дискомфорт (что плохо). Однако результаты опросов в сочетании с поведенческими изменениями указывают на то, что в начале 2010-х годов – возможно, в конце 2000-х – в жизни подростков произошли серьезные перемены.
Рис. 1.5. Уровень самоубийств среди подростков младшего возраста. Уровень самоубийств среди американских подростков 10–14 лет. (Источники: Центры США по контролю и профилактике заболеваний, Национальный центр профилактики и контроля травматизма.)[59]
Смартфоны, появившиеся в 2007-м, изменили жизнь каждого. Как и радио с телевидением, они быстро захватили страну и весь мир. На рисунке 1.6 показан процент американских домохозяйств, которые приобретали устройства связи за последние сто лет. Как можно заметить, новые технологии распространялись стремительно и обязательно включали раннюю фазу практически вертикального роста: примерно десятилетие, в течение которого новые устройства покупали едва ли не все.
Рис. 1.6. Распространение коммуникационных технологий. Доля домохозяйств США, использующих различные технологии. Смартфоны получили самое быстрое распространение в истории технологий связи. (Источник: Our World in Data.)[60]
По рисунку 1.6 можно сделать важный вывод об эпохе интернета: она пришла двумя волнами. В 1990-х годах наблюдался быстрый рост связанных технологий: персональных компьютеров и доступа в интернет (тогда через модем). К 2001 году эти устройства появились в большинстве домов, однако в течение следующих десяти лет ухудшения психического здоровья подростков не наблюдалось[61]. Миллениалы, выросшие в первую волну, по статистике были даже немного счастливее, чем поколение X в их возрасте. Вторая волна представляла собой быстрый рост социальных сетей и смартфонов, которые к 2012–2013 годам стали доступны большинству домохозяйств. Именно тогда психическое здоровье у девочек начало ухудшаться, а у мальчиков – изменяться менее явно, но все же существенно.
Конечно, сотовые телефоны были у подростков еще с конца 1990-х, но это были обычные кнопочные модели без доступа в интернет: так называемые раскладушки, известные из-за популярной конструкции, которая открывалась одним движением. Они использовались в основном для прямого общения с семьей и друзьями. Можно было звонить, можно было отправлять сообщения, неловко тыкая большим пальцем по кнопкам. Со смартфонами ситуация иная. Они предоставляют круглосуточный доступ в интернет, запускают миллионы приложений, и в них проживают социальные сети, которые постоянно дергают своих пользователей, побуждая их проверять, что говорят и делают другие. В таком виде связи нет преимуществ прямого общения с друзьями. Более того, для многих молодых людей он стал настоящей отравой[62].
Существует несколько источников данных о ранней эре смартфонов. В 2012 году сотрудники исследовательского центра Pew Research провели опрос, показавший, что в 2011 году телефоны были у 77 % американских подростков, но только у 23 % был смартфон[63]. Большинству приходилось пользоваться соцсетями с компьютера – зачастую родительского или семейного, что ограничивало приватность и возможности доступа, а зайти на платформы вне дома было непросто. В тот же период в США стали широко распространяться ноутбуки и высокоскоростной интернет, поэтому некоторые подростки получили облегченный доступ к Сети еще тогда.
Но только с появлением смартфонов они смогли быть онлайн постоянно, даже вне дома. Согласно опросу родителей в США, проведенному некоммерческой организацией Common Sense Media, к 2016 году смартфоны были у 79 % подростков и у 28 % детей в возрасте от 8 до 12 лет[64].
С тех пор подростки начали проводить в виртуальном мире все больше времени. По данным исследования Common Sense за 2015 год, молодые люди с аккаунтами в социальных сетях тратили на них около двух часов в день. В целом подростки сообщили, что проводят за видеоиграми и просмотром видео на нетфликсе, ютьюбе или порнографических сайтах почти семь часов свободного времени (без учета школьных занятий) в день[65]. Отчет Pew Research за 2015 год[66] подтвердил эти высокие цифры: каждый четвертый подросток заявил, что находится в Сети «почти постоянно». К 2022 году этот показатель почти удвоился, достигнув 46 %[67].
Такие цифры поражают и могут стать разгадкой внезапного кризиса психического здоровья подростков. Получается, даже когда представители поколения Z не сидят в телефонах и на первый взгляд занимаются реальными делами – например, слушают учителя, едят или разговаривают с вами, – значительная часть их внимания сосредоточена на событиях в социальной метавселенной, что и вызывает тревогу. Как писала в 2015 году профессор Массачусетского технологического института Шерри Теркл о жизни со смартфонами: «Мы вечно где-то в другом месте»[68]. Фундаментальная трансформация человеческого сознания и отношений произошла среди американских подростков в период между 2010 и 2015 годами. Так родилось детство, проведенное в телефоне. Так закончилось детство, основанное на игре.
Важной деталью в этой истории является то, что iPhone 4 был представлен в июне 2010 года[69]. Это был первый айфон с фронтальной камерой, что позволило с легкостью снимать себя на видео и делать селфи. Несколько недель спустя компания Samsung добавила аналогичную функцию в Galaxy S. В том же году появился Instagram – приложение, доступное исключительно на смартфонах. В первые несколько лет у него не было версии для компьютеров или ноутбуков[70]. До 2012 года инстаграм насчитывал небольшую пользовательскую базу, но после его приобретения компанией Facebook число пользователей стремительно увеличилось: с 10 миллионов в конце 2011 года[71] до 90 миллионов к началу 2013-го[72]. Таким образом, знакомая нам экосистема социальных сетей, основанная на смартфонах и селфи, сформировалась в 2012 году после покупки Instagram компанией Facebook и появления фронтальных камер. К 2012 году у многих девочек-подростков сложилось впечатление, что смартфоны и аккаунты в инстаграме появились «у всех», и они начали сравнивать себя с другими.
В последующие годы экосистема социальных сетей стала еще более заманчивой. В инстаграме появились новые мощные фильтры, в Сети – Facetune и прочие приложения для редактирования. С фильтрами или без, отражение, которое девушки видели в зеркале, становилось все менее и менее привлекательным по сравнению с изображениями в телефоне.
И если жизнь девочек переместилась в социальные сети, мальчики все глубже погружались в виртуальный мир через многопользовательские онлайн-игры, ютьюб, реддит и откровенную порнографию, которые были доступны в любое время, в любом месте и бесплатно – прямо на их смартфонах.
Столкнувшись с таким количеством новых виртуальных увлечений, многие подростки (и взрослые) разучились полноценно возвращаться в реальность, что изменило социальную жизнь даже для незначительного меньшинства людей, которые не пользовались этими платформами. Вот почему я называю период с 2010 по 2015 год Великим подключением детства. Всего за пять лет социальные и ролевые модели, эмоции, физическая активность и даже режим сна подростков претерпели фундаментальные изменения. Повседневная жизнь, сознание и социальные отношения детей 2000 года рождения, у которых в 2013 году появился смартфон, кардинально отличались от таковых у детей 1994 года, которые в 2007-м начали ходить с раскладушкой.
Когда я представляю эти результаты публично, то часто слышу возражения: «Конечно, поколение Z в депрессии; только посмотрите, что творится в XXI веке! Сначала атаки 11 сентября, потом войны в Афганистане и Ираке, мировой финансовый кризис. Их детство омрачено глобальным потеплением, перестрелками в школах, политической поляризацией, неравенством и постоянно растущей стоимостью обучения. Вы считаете 2012 год поворотным? А ведь это год перестрелки в начальной школе Сэнди Хук!»[73]
Именно так книга 2021 года «Поколение катастроф»[74] объясняет проблемы с психическим здоровьем у поколения Z[75]. И хотя я согласен, что XXI век начался неудачно, совпадающие временные рамки не означают, что поколение Z испытывает тревогу и депрессию из-за объективных угроз на национальном или глобальном уровне.
Даже если предположить, что события с 11 сентября до мирового финансового кризиса действительно повлияли на психическое здоровье подростков, то сильнее всего должны были пострадать миллениалы, родившиеся с 1981 по 1995 год: их счастливый мир детства оказался разрушен, а перспективы социального роста сократились. Однако этого не произошло: уровень психических заболеваний среди подростков их поколения не вырос. Помимо того, если бы финансовый кризис и другие экономические проблемы были основными факторами, психическое здоровье подростков в США резко ухудшилось бы в 2009 году, в самый тяжелый период кризиса, и улучшилось в 2010-х годах, когда уровень безработицы упал, фондовый рынок вырос, а экономика восстановилась. Однако мы не наблюдаем подобных тенденций. На рисунке 1.7 я сопоставил данные о подростковой депрессии (рисунок 1.1) с графиком уровня безработицы в США. Сильный скачок приходится на 2008–2009 годы, начало кризиса, когда компании массово увольняли сотрудников. С 2010 по 2019 год безработица начинает устойчиво снижаться, а в начале 2019-го достигает исторического минимума в 3,6 %.
Рис. 1.7. Подростковая депрессия и безработица среди взрослых. Уровень безработицы в США (процент взрослого безработного населения) непрерывно снижался параллельно с усугублением кризиса психического здоровья подростков. (Источники: Бюро статистики труда США и Национальное исследование употребления наркотиков и здоровья в США.)[76]
Невозможно связать всплеск подростковой тревожности и депрессии с конкретными экономическими событиями или тенденциями. Более того, непонятно, почему экономический кризис навредил бы девочкам – особенно самым юным подросткам – больше, чем мальчикам.
Депрессии и тревоге поколения Z есть и другое распространенное объяснение: изменение климата, которое затронет их жизнь сильнее, чем жизнь старших поколений. Я не оспариваю обоснованность беспокойства, но хочу отметить, что в историческом контексте угрозы, нависшие над нацией или поколением (в отличие от проблем отдельных людей) не приводят к росту уровня психических заболеваний. Когда страны сталкиваются с угрозами – будь то военные действия или терроризм, – граждане обычно объединяются на почве патриотизма. У них появляется общая цель, и уровень самоубийств снижается[77]. Исследователи обнаружили, что люди, заставшие начало войны в подростковом возрасте, многие годы спустя демонстрируют более высокий уровень доверия и сотрудничества в лабораторных экспериментах[78].
Когда молодые люди объединяются по политическим причинам, будь то протесты против войны во Вьетнаме в 1960-х годах или пик раннего климатического активизма в 1970-х и 1990-х, они рвутся в бой, а не унывают, подавленные. Проблемы присущи любому поколению: Великая депрессия, Вторая мировая война, ядерная угроза, ухудшение экологической обстановки, перенаселение, огромный государственный долг. Люди не впадают в депрессию, когда сталкиваются с угрозами сообща; они впадают в депрессию, когда чувствуют себя изолированными, одинокими и беспомощными. В последующих главах я докажу, что именно это и стало результатом Великого подключения поколения Z.
Коллективная тревога объединяет людей и мотивирует к действию, а совместные действия пробуждают эмоции, особенно когда происходят в реальном мире. Исследования показывают, что среди представителей предыдущих поколений те, кто занимался политическим активизмом, зачастую были счастливее и энергичнее сверстников. «В самом активизме есть что-то полезное для благополучия», – сказал Тим Кассер, соавтор исследования 2009 года о студентах колледжей, активизме и процветании[79]. Однако более поздние исследования молодых активистов, включая климатических, показывают обратное: у тех, кто сейчас занимается политической деятельностью, психическое здоровье обычно хуже[80]. Риски и угрозы существовали всегда, однако способы, которыми современные молодые люди реализуют свой активизм – преимущественно в Сети, – влияют на них иначе, чем на предыдущие поколения, чей активизм осуществлялся в реальности.
Гипотеза изменения климата также не объясняет демографические особенности. Почему наибольший рост тревожности и депрессии наблюдается среди девочек-подростков? Разве осведомленность о климатических проблемах не должна сильнее влиять на подростков старшего возраста и студентов, которые лучше разбираются в глобальных и политических событиях? Гипотеза не укладывается и во временные рамки: почему всплеск психических заболеваний во многих странах произошел именно в начале 2010-х? Шведская климатическая активистка Грета Тунберг (2003 года рождения) побудила молодежь всего мира к действию, но только после выступления на конференции ООН по изменению климата в 2018 году.
Может казаться, что мир рушится, но то же самое происходило в 1970-е годы, когда рос я, и в 1930-е, когда росли мои родители. Такова история человечества. Если мировые события и сыграли роль в текущем кризисе психического здоровья, то не потому, что в 2012 году ситуация внезапно ухудшилась, а потому, что они стали активно проникать в сознание подростков через их телефоны в виде постов других молодых людей, где те выражали свои эмоции по поводу рушащегося мира; эмоции, которые заразны в социальных сетях.
Чтобы понять, стали ли текущие события причиной тревоги и подавленности американских подростков, можно взглянуть на аналогичные тенденции в других странах, отличающихся друг от друга как внутренней обстановкой, так и уровнем культурной дистанции от США. Ниже я рассмотрю несколько примеров: культурно близкие страны с разными новостными событиями, такие как Канада и Великобритания; страны других языковых и культурных групп, а именно – страны Северной Европы; и, наконец, тридцать семь стран со всего мира, где каждые три года проводятся опросы среди пятнадцатилетних подростков. Я докажу, что ситуация в них развивается по сходному сценарию и в тех же временных рамках: изменения произошли в начале 2010-х годов.
Рис. 1.8. Канадские женщины: отличное или очень хорошее психическое здоровье. Процент девушек и женщин в Онтарио, Канада, оценивающих свое психическое здоровье как «отличное» или «очень хорошее». (Источник: D. Garriguet [2021], Portrait of youth in Canada: Data report.)[81]
Начнем с Канады, которая имеет много общего с Америкой в культурном плане, но лишена большинства ее негативных социологических и экономических черт. Например, там ниже уровень экономической нестабильности: Канада избежала частых войн и высокого уровня насильственных преступлений, характерных для США, а также почти не пострадала от последствий мирового финансового кризиса[82]. Тем не менее, несмотря на все преимущества, психическое здоровье канадских подростков резко ухудшилось в то же время и тем же образом, что и в США[83].
На рисунке 1.8 показан процент канадских девушек и женщин, которые оценили свое психическое здоровье как «отличное» или «очень хорошее». Если бы сбор данных прекратили в 2009 году, можно было бы сделать вывод, что самая молодая группа (15–30 лет) одновременно самая счастливая и поводов беспокоиться нет. Однако в 2011 году их показатели начали опускаться, а затем полностью рухнули, в то время как показатели самой старшей группы женщин (от 47 лет) остались практически неизменны. График для мальчиков и мужчин отражает ту же тенденцию, хотя и с меньшим снижением. (Этот и многие другие графики можно найти в онлайн-приложении к книге, где для каждой главы создан отдельный документ. См. anxietygeneration.com/supplement.)
Рис. 1.9. Случаи самоповреждения среди британских подростков. Случаи самоповреждения среди подростков Великобритании (13–16 лет). (Источник: Cybulski et al., 2021, на основе двух баз данных анонимных британских медицинских записей.)[84]
Как и в Соединенных Штатах, изменения в поведении подростков соответствуют изменениям в их оценке собственного психического здоровья. Если мы посмотрим на частоту посещений канадскими подростками отделений неотложной психиатрической помощи из-за самоповреждений, то обнаружим почти ту же картину, что и на рисунке 1.4 для американских детей[85].
То же самое происходит и в Великобритании. Несмотря на несколько большую культурную удаленность от США, британские подростки столкнулись с аналогичными проблемами в то же время, что и их американские сверстники. Показатели тревожности и депрессии выросли в начале 2010-х годов, особо затронув девочек[86]. И снова поведенческие данные отражают все тот же внезапный рост. На рисунке 1.9 показано число случаев самоповреждения среди подростков Великобритании, зафиксированное в медицинских записях.
Рис. 1.10. Госпитализации по психиатрическим показаниям, Австралия. Частота госпитализации австралийских подростков и молодежи (12–24 года) из-за проблем с психическим здоровьем. (Источник: Australia's Health 2022 Data Insights.)[87]
Как и в США и Канаде, в начале 2010-х годов с британскими детьми произошло нечто, из-за чего они значительно чаще стали причинять себе вред[88].
Похожие тенденции наблюдаются и в других крупных англоязычных странах, включая Ирландию, Новую Зеландию и Австралию[89]. Например, на рисунке 1.10 показана частота госпитализации австралийских подростков и молодых людей в психиатрические больницы. Там, как и в остальных странах, проблем не наблюдалось до 2010 года, когда началось Великое подключение. Однако к 2015-му подростки оказались в большой беде.
Рис. 1.11. Высокий психологический стресс в странах северной европы. Процент подростков 11–15 лет с высоким психологическим стрессом в скандинавских странах. (Источник: данные исследования «Поведение детей школьного возраста в отношении здоровья».)[90]
Рис. 1.12. Социальная изоляция в школах по всему миру. Динамика показателей изоляции пятнадцатилетних учащихся в школах по всему миру. Обратите внимание, что рост одиночества в школах наблюдается во всех регионах, кроме Азии, преимущественно в период с 2012 по 2015 год. (В опросах 2006 и 2009 годов соответствующие вопросы отсутствовали.) Шкала оценок: от 1 (минимальная изоляция) до 4 (максимальная). (Источник: Twenge, Haidt et al. [2021]. Данные PISA.)
В 2020 году я нанял внештатным научным сотрудником Зака Рауша, позднего миллениала 1994 года рождения, получавшего степень магистра в области психологии. Зак быстро стал моим постоянным партнером по исследованиям; он собрал данные о психическом здоровье со всего мира и опубликовал несколько подробных докладов в канале «После Вавилона» на платформе Substack, где мы проверяли идеи для этой и следующей моей книги. В одном из исследований Зак изучил пять стран Северной Европы и обнаружил те же закономерности, что и в пяти англоязычных странах. На рисунке 1.11 показан процент подростков в Финляндии, Швеции, Дании, Норвегии и Исландии, сообщивших о высоком уровне психологического стресса в период с 2002 по 2018 год[91]. Картина неотличима от той, что неоднократно встречалась в англоязычных странах: если обрезать графики по 2010 году, когда началось Великое подключение, никаких признаков проблемы нет, однако к 2015-му она становится очевидна.
А как обстоят дела за пределами богатых англоязычных и скандинавских стран? Глобальные исследования психического здоровья проводятся, но в основном для взрослых, а не для подростков[92]. Однако существует международная программа по оценке образовательных достижений учащихся (PISA) – исследование, которое проводится каждые три года начиная с 2000-го. В нем участвуют тысячи пятнадцатилетних подростков и их родителей из тридцати семи стран. Среди сотен вопросов об успеваемости и домашней жизни шесть касаются чувств по поводу школы. В них ученикам предлагается выразить согласие с такими утверждениями, как «В школе я чувствую себя одиноким», «В школе я чувствую себя изгоем (или исключенным из школьной жизни)» и «В школе я легко завожу друзей» (что оценивается по обратной шкале)[93].
Мы с Джин Твенге проанализировали ответы и составили график совокупных оценок с 2000 года для всех стран-участниц[94]. На рисунке 1.12 показаны тенденции, которые наблюдаются в четырех основных регионах. После относительно неизменного уровня с 2000 по 2012 год число жалоб на одиночество и отсутствие друзей возросло везде, кроме Азии. Складывается впечатление, что во всем западном мире, как только подростки начали носить смартфоны в школу и регулярно пользоваться социальными сетями, в том числе на переменах, им стало сложнее общаться с одноклассниками. Они оказались «навсегда в другом месте».











