Читать онлайн Мимолетные видения незнакомой Японии
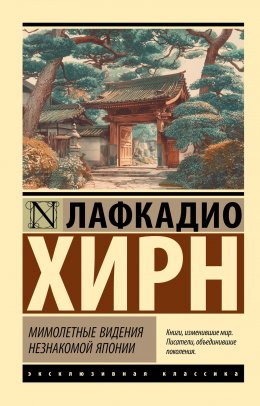
Lafcadio Hearn
Glimpses of Unfamiliar Japan, Vol. 1
© ООО «Издательство АСТ», 2025
В знак моей признательности и благодарности посвящается друзьям, чья доброта сделала возможным мое пребывание на Востоке: судовому казначею Митчеллу Макдональду, ВМС США и Бэзилу Холлу Чемберлену, эсквайру, почетному профессору филологии и японистики Имперского университета Токио.
Предисловие
В 1871 году во вступлении к своим очаровательным «Легендам древней Японии» мистер Митфорд писал: «Книги о Японии, созданные в последние годы, опирались либо на официальные документы, либо на поверхностные впечатления случайных путешественников. Мир до сих пор мало знает о внутренней жизни японцев. Их религия, суеверия, образ мыслей и тайные пружины поступков по-прежнему остаются загадкой».
Невидимая жизнь, о которой говорит мистер Митфорд, это та самая незнакомая Япония, которую мне удалось мельком увидеть. Читатель, возможно, будет разочарован слишком малым количеством впечатлений. Однако четырех лет, прожитых среди какого-либо народа, даже если ты пытаешься перенять его привычки и обычаи, иностранцу едва ли достаточно, чтобы почувствовать себя в чужом мире как дома. Никто лучше самого автора не знает, как мало воспроизведено в этих томах и как много еще предстоит сделать.
Образованные классы Новой Японии практически не разделяют популярные религиозные верования, в особенности почерпнутые из буддизма, и причудливые суеверия, упомянутые в этих заметках. За исключением характерного для него безразличия к абстрактным идеям в целом и метафизическим соображениям в частности, озападненный японец наших дней находится практически в том же интеллектуальном поле, что и культурный житель Парижа или Бостона. Он с неоправданным презрением относится к любым представлениям о сверхъестественном, великие религиозные вопросы современности его совершенно не трогают. Университетская выучка в области современной философии редко побуждает современного японца к непредвзятому изучению общественных отношений или их психологии. В его глазах суеверия – глупые предрассудки и ничего больше. Их связь с чувственной природой народа его не интересует[1]. Так происходит не потому, что он хорошо понимает свой народ, но потому, что класс, к которому он принадлежит, по-прежнему, пусть по естественным причинам, безоговорочно стыдится прежних верований. Большинство из нас, называющие себя агностиками, помнят, с какими чувствами мы, освободившись от куда более иррациональной веры, чем буддизм, оглядывались на мрачное богословие наших отцов. Интеллектуалы Японии стали агностиками лишь в последние несколько десятилетий. Быстрота, с которой произошла эта революция в умах, достаточно объясняет главные, хотя и не все причины сегодняшнего отношения высшего класса к буддизму. На сей момент оно граничит с нетерпимостью, и коль таково отношение к вере, отделенной от суеверия, то отношение к суеверию, отделенному от веры, должно быть еще более суровым.
Редкостное обаяние японского быта, так сильно отличающегося от быта других частей мира, не встретишь в европеизированных кругах. Его можно наблюдать в широких народных массах, которые в Японии, как и во всех других странах, являются носителями национальных достоинств и все еще крепко держатся за чу́дные старинные обычаи, живописные наряды, скульптуры Будды, домашние алтари, прекрасное и трогательное поклонение предкам. От такой жизни иностранный наблюдатель, если только ему посчастливится в нее окунуться, никогда не устанет, она подчас заставляет его усомниться, способствует ли хваленый западный прогресс нашему нравственному развитию. Каждый день на протяжении многих лет наблюдателю будет открываться незнакомая, неожиданная красота местной жизни. Как и в любых других местах, у нее есть свои темные стороны, но даже они выглядят светлыми по сравнению с темными сторонами западного бытия. В ней есть свои причуды, глупости, пороки и зверства. Однако, чем дольше ее наблюдаешь, тем больше восхищаешься ее невероятным добронравием, удивительным долготерпением, нескончаемой вежливостью, сердечной простотой и спонтанным милосердием. Наиболее распространенные суеверия, как бы их ни осуждали в Токио, имеют для нашего западного понимания редчайшую ценность как фрагменты устной литературы надежд, страхов, опыта добра и зла, незатейливых попыток разгадать загадку Невидимого. Многое из того, что легкие, добрые суеверия народа добавляют к очарованию японской жизни, может понять только тот, кто долго жил в глубинных районах страны. Некоторые из верований зловещи, например вера в демонов-лисиц, которую быстро вытравливает государственное образование, однако многие по красоте фантазии сравнимы с греческими мифами, в которых до сих пор черпают вдохновение благороднейшие поэты современности. В то же время многие другие суеверия, поощряющие милость к несчастным и доброту к животным, не могут не преподнести крайне положительный нравственный урок. Удивительная самоуверенность домашних животных и относительное бесстрашие многих диких существ в присутствии человека, тучи белых чаек, кружащие вокруг любого парохода в ожидании милостыни в виде крошек, шум крыльев голубей, слетающих с карнизов храмов к рисовым зернам, рассыпанным для них паломниками, привычные аисты в старых общественных парках, олени, ждущие у святых мест лепешек и ласки, рыбы, высовывающие морды из священных прудов с цветками лотоса, стоит только тени незнакомца пасть на воду, – все эти и сотни других милых сцен навеяны причудами, которые хоть и называются суевериями, в простейшей форме внушают великую истину о единстве всего живого. И даже если взять менее симпатичные верования, предрассудки, гротескность которых способна вызвать улыбку, беспристрастному наблюдателю не мешает вспомнить, что об этом говорил Лекки.
Многие суеверия, несомненно, соответствуют греческой концепции рабского «страха перед богами» и принесли человечеству неописуемые страдания, но есть и множество других. Суеверия затрагивают как наши надежды, так и наши страхи. Они нередко удовлетворяют самые сокровенные желания сердца. Дают уверенность там, где разум может предложить лишь возможности или вероятности. Создают представления, на которых любит задерживаться воображение. А иногда даже придают моральным истинам новое звучание. Порождая желания, которые только они способны удовлетворить, и страхи, которые только они способны успокоить, суеверия часто становятся необходимым элементом счастья. Их способность утешить человека наиболее ощутима в томительные или тревожные часы, когда тот больше всего испытывает нужду в таком утешении. Нам больше дают наши иллюзии, чем наши знания. Воображение, являясь, по сути, элементом творчества, быть может, помогает нашему счастью больше, чем разум, который критично и разрушительно действует в основном в сфере умозаключений. Грубый амулет, который дикарь в час опасности или беды уверенно прижимает к груди, икона, которая, как считается, освящает и защищает лачугу бедняка, могут дать более реальное утешение в самый тяжелый час человеческих страданий, чем величайшие философские теории. Нет более серьезной ошибки, чем воображать, что, когда критический дух уйдет в мир иной, все приятные убеждения останутся, а болезненные погибнут.
То, что критический дух модернизированной Японии сейчас косвенно помогает, а не противостоит попыткам зарубежных фанатиков разрушить простую и радостную веру народа и заменить ее жестокими суевериями, из которых сам Запад давно интеллектуально вырос, – измышлениями о безжалостном Боге и бесконечных страданиях в аду – не может не вызывать сожаления. Более ста шестидесяти лет назад Кемпфер писал о Японии: «В практической добродетели, житейской чистоте и самоотдаче в отношении к ближнему японцы намного превосходят христиан». И за исключением тех мест, где местные нравы пострадали от иностранной заразы, как, например, в открытых портовых городах, эти слова справедливы по сей день. По моему собственному убеждению, а также по убеждению многих беспристрастных и более опытных наблюдателей японской жизни, Япония ничего не выигрывает от обращения в христианство, ни в моральном, ни в каком-либо другом плане, но очень многое теряет.
Из двадцати семи очерков, которые вошли в этот том, четыре были первоначально приобретены различными газетами и представлены здесь в значительно измененном виде. Шесть были опубликованы в журнале «Атлантик мансли» (1891–1893 гг.). Прочие, составляющие основную часть работы, ранее нигде не публиковались.
Л.Х.
Кумамото, Кюсю, Япония, 1894 г.
Глава первая
Мой первый день на Востоке
«Не забудьте, как можно скорее записать первые впечатления, – предупредил меня добрейший профессор-англичанин Бэзил Холл Чемберлен, с которым я имел удовольствие познакомиться вскоре после моего прибытия в Японию. – Они, знаете ли, эфемерны. Поблекнув, уже никогда к вам не вернутся. Какие бы необычные впечатления от этой страны вы ни получили позже, ничто не сравнится по степени очаровательности с первыми». Я пытаюсь восстановить свои впечатления по торопливым заметкам, сделанным в то время, и вижу, что подробности намного труднее уловить, чем оставленное ими очарование. Из моих воспоминаний о первых днях улетучилось нечто, чего я больше не могу восполнить. Несмотря на всю свою решимость последовать дружескому совету, я пренебрег им. В те первые недели я не мог заставить себя сидеть в четырех стенах и писать, в то время как на обласканных солнцем улицах японского города предстояло так много увидеть, услышать и почувствовать. Но даже если бы я сумел оживить в памяти первые ощущения, сомневаюсь, что мне удалось бы выразить их словами. Первое очарование от Японии невесомо и недолговечно, как аромат духов.
Оно началось для меня с первой поездки на куруме из европейского квартала Йокогамы в японскую часть города. Дальше следует мой рассказ обо всем, что я смог вспомнить.
Часть 1
Как изумительно сладостно первое путешествие по японским улицам, когда ты не можешь попросить возницу курумы иначе как жестами, отчаянной мимикой двигаться куда глаза глядят, в какое угодно место, потому что все вокруг невыразимо привлекательно и ново, – таково первое реальное ощущение от пребывания на Востоке, в далеком краю, о котором ты столько читал, так долго мечтал, но который, представ теперь воочию, совершенно тебе неведом. Романтика заключена даже в первом полном осознании этого довольно простого факта. Для меня оно необъяснимо смешалось с божественной прелестью дня. Утренний воздух обладает невыразимым очарованием, он прохладен, как вся японская весна и ветры, прилетающие со снежного конуса Фудзи. Это очарование вызвано, пожалуй, не столько теплыми оттенками, сколько мягчайшей ясностью – невероятной прозрачностью атмосферы, имеющей в себе очень мало голубизны, сквозь которую даже отдаленные предметы видны с удивительной четкостью. Солнце пригревает в меру, рикша или курума – самое крохотное и самое удобное средство передвижения, какое себе можно представить. Уличные пейзажи, наблюдаемые поверх танцующей, похожей на верхушку гриба белой шляпы обутого в сандалии возницы, обладают такой притягательной силой, что вряд ли могут когда-либо надоесть.
Ты как будто оказался в стране эльфов, ибо все вокруг маленькое – маленькие дома под синими крышами, маленькие витрины с синими занавесками, маленькие улыбчивые люди в синих одеждах. Иллюзию нарушают лишь отдельные высокие прохожие-иностранцы да вывески с нелепым подражанием английскому языку. Такой диссонанс только подчеркивает неподдельность, но отнюдь не умаляет обаяние причудливых маленьких улочек.
Таково поначалу охватывающее тебя приятное замешательство, когда твой взгляд проникает в одну из улиц сквозь непрерывное трепетание флажков и синих занавесок, выглядящих еще прекраснее благодаря загадочным японским и китайским надписям. Ибо в Японии не существует никаких правил строительства или оформления – каждое здание по-своему фантастически прелестно, ни одно не похоже на соседа, и все обворожительно непривычны. Однако постепенно, после того как ты провел в квартале около часа, глаз начинает смутно различать подобие общей конструкции: все дома невысокие, легкие, деревянные, с причудливыми щипцовыми крышами, как правило некрашеные, первый этаж выходит прямо на улицу, узкие полосы кровли нависают козырьками над фасадом, покато уходя вверх к миниатюрным балкончикам второго этажа с бумажными стенками. Ты начинаешь понимать общую планировку крохотных лавчонок с циновками на полу, порог приподнят над улицей, надписи в основном вертикальные – либо на колышущихся занавесках, либо на блестящих позолоченных, лакированных досках. Ты замечаешь, что все тот же насыщенный темно-синий цвет преобладает как в одежде, так и в драпировках магазинов, но попадаются также брызги другого цвета – голубого, белого, красного (зеленого и желтого нигде не видно). Потом на одежде работников ты различаешь все те же иероглифы, что и на занавесях у входа в лавку. Такого эффекта не могли бы создать никакие арабески. Когда иероглифы используются в декоративных целях, они обладают красноречивой симметрией, которую способен воссоздать только очень хорошо продуманный дизайн. Нанесенные сзади на рабочую блузу – белая краска на синем фоне, – они достаточно велики, чтобы их можно было легко прочитать на большом расстоянии (обычно это название гильдии или компании, в которой работает одетый в такую блузу сотрудник), и придают дешевой одежде обманчивый эффект великолепия.
Наконец, пока ты еще размышляешь о загадочной природе вещей, тебя осеняет понимание того, что своей живописностью улицы обязаны обилию китайских и японских букв, нанесенных белой, черной, синей или золотой краской повсюду, даже на ровные поверхности дверных косяков и бумажных перегородок. На мгновение ты можешь вообразить на месте волшебных знаков надписи на английском. Сама эта мысль оскорбит твои эстетические предпочтения, и ты станешь, как стал им я, противником «Ромадзикай», общества, основанного для грубой утилитарной цели – поддержки вторжения английского языка в письменный японский язык.
Часть 2
Иероглиф не оставляет в уме японца такой же отпечаток, какой оставляют в уме западного человека буквы или сочетания букв, эти тупые, безжизненные символы речи. Для японского ума иероглиф – ожившая картинка, он пышет энергией, говорит, жестикулирует. Вся японская улица заполнена этими живыми символами, фигурками, привлекающими своими криками взгляд, умеющими улыбаться или гримасничать, как человеческие лица.
Что такое иероглифы в сравнении с нашим безжизненным шрифтом, могут понять лишь те, кто провел много времени на Востоке. Привезенные печатные издания на китайском или японском языке не позволяют уловить красоту тех же знаков, когда они преобразованы для декоративных надписей, скульптур или самых простых рекламных задач. Полет фантазии каллиграфа или оформителя не сковывают жесткие условности, каждый из них старается выписать символы прекраснее соперника. Целые поколения художников с незапамятных времен упорно работали, подражая лучшим образцам, благодаря чему в течение многих веков неустанный труд и учеба превратили примитивный иероглиф в предмет неописуемой красоты. Знак состоит всего из нескольких росчерков кисти, но в каждом из них содержится неисповедимый секрет изящества, пропорций, неуловимых изгибов, придающих иероглифу жизненную силу, и свидетельствует, что художник, создавая его молниеносным движением, старался нащупать идеальную форму мазка на всей его протяженности от начала до конца. Однако искусство мазка – это еще не все. Очарование, которое подчас поражает даже самих японцев, создается умелым сочетанием штрихов. Учитывая индивидуальную, оживленную, эзотерическую природу японского письма, вовсе не удивительно, что существуют легенды о каллиграфии, рассказывающие о том, как слова, начертанные рукой мастера, обретали плоть и сходили с полотен, чтобы вступить в общение с людьми.
Часть 3
Моего курумаю зовут Тя. Он носит белую шляпу, напоминающую шляпку гигантского гриба, короткую синюю куртку с широкими рукавами, синие, узкие, как трико, панталоны, достающие до щиколоток, и легкие соломенные сандалии, привязанные к босым ступням веревками из пальмового волокна. Тя, несомненно, олицетворяет терпеливость, выносливость и коварный талант умасливать клиентов, присущие людям его сословия. Он уже успел проявить свои способности, убедив меня заплатить больше установленного законом тарифа. Хотя меня предупреждали, совет не пошел впрок. Ибо вид человека, бегущего между оглоблями вместо лошади, чья голова часами ныряет перед тобой вверх-вниз, сам по себе вызывает сочувствие. А когда у этого человека, бегущего между оглоблями со всеми его надеждами, воспоминаниями, чувствами и разумением, вдобавок обнаруживаются кроткая улыбка и способность отвечать на любезность бурным проявлением бесконечной благодарности, сочувствие обращается в симпатию, порождающую безрассудные позывы к самопожертвованию. Такие чувства, пожалуй, связаны еще и с тем, что возница обливается потом; эта картина наводит на мысли о затратах сердечной и мускульной энергии и на опасения, что рикша подхватит простуду, насморк и плеврит. Одежда на Тя – хоть выжми. Он промокает лицо маленьким голубым полотенцем с белыми оттисками бамбуковых побегов и воробьев, которое во время бега обертывает вокруг пояса.
Но больше всего в Тя – не как в тягловой силе, а как в человеке – меня привлекает то, что я начинаю разбираться в мириадах лиц, которые поворачиваются в нашу сторону на узких улочках. Возможно, наиболее приятное впечатление утра оставляет именно это всеобщее добродушное внимание. Все смотрят на тебя с любопытством, но во взглядах нет неодобрения и тем более враждебности. Как правило, взгляды сопровождаются улыбками или полуулыбками. В конце концов, все эти добрые любопытные улыбки и взгляды создают у иностранца ощущение, что он оказался в волшебном краю. Если упростить мое заявление до эпатажного уровня, то получится, что всякий, кто взялся описать впечатления от первого дня пребывания в Японии, отзывается о ней как о сказочной стране, а о ее населении как о сказочном народе. Единодушие такого выбора в отчетах о первых впечатлениях, когда невозможно подыскать более точные сравнения, имеет естественную причину. Когда ты вдруг попадаешь в мир, где все имеет небольшие и более изящные размеры, чем у тебя дома, в мир меньших и, похоже, более кротких существ, которые тебе улыбаются и желают всего доброго, где все движется медленно и без резких движений, а голоса звучат приглушенно, где земля, жизнь и небеса не похожи ни на какие другие места, неизбежно приходит на ум взлелеянная английским фольклором аллегория – старинная фантазия о стране эльфов.
Часть 4
Путешественник, внезапно попавший в полосу общественных перемен, особенно перехода от феодального прошлого к демократическому настоящему, нередко сожалеет об упадке прекрасного и уродстве нового. Я пока еще не знаю, сколько того и другого обнаружу в Японии. Однако сейчас старое и новое так хорошо сочетаются на самобытных улицах, что как будто уравновешивают друг друга. Маленькие белые телеграфные столбы с проводами, по которым в газеты мира расходятся новости, покрыты китайскими и японскими иероглифами. Рядом с кнопкой из слоновой кости у входа в чайную красуется электрический звонок с загадочной восточной надписью. Магазин американских швейных машинок соседствует с лавкой статуэток Будды, контора фотографа – с мастерской по изготовлению соломенных сандалий. Нигде не режет глаз несовместимость, каждый образчик западной технологии заключен в восточную оправу, способную, похоже, вместить любое представление. Но в самый первый день новинкой для иностранца, полностью поглощающей его внимание, служит одна лишь старина. В эти минуты ему кажется, что все вокруг хрупкое, изящное, чудесное, даже пара деревянных палочек для еды в бумажном пакете с небольшим рисунком, даже пакетик зубочисток из вишневого дерева в бумажной обертке, чудесно расписанной тремя разными цветами, даже маленькое голубое полотенце с порхающими воробьями, которым рикша вытирает пот со лба. Банкноты и простые медные монеты – настоящие произведения искусства. Витой разноцветный шнур, которым лавочник перевязывает покупку, и тот достоин любопытства. Обилие курьезов и грациозных вещиц поражает воображение. Со всех сторон, куда ни повернись, ты видишь чудесные, уму непостижимые вещи.
Смотреть на них опасно. Всякий раз, стоит бросить робкий взгляд, что-то подталкивает тебя купить их, если только улыбчивый продавец не пригласит тебя погрузиться в осмотр множества разновидностей того же товара, сплошь неповторимого и невыразимо желанного до такой степени, что ты убегаешь прочь – скорее от ужаса перед собственным желанием скупить весь магазин. Продавец никогда ничего не навязывает, но товар у него заколдованный, стоит тебе начать покупать, считай, что ты пропал. Дешевизна – не более чем искушение к банкротству, ибо запас дешевых соблазнительных художественных поделок воистину неистощим. Для всего, что хочется купить, не хватило бы самого вместительного тихоокеанского парохода. Возможно, человек не признается себе, но на самом деле он желает купить не предлагаемый в магазине товар; ему нужен весь магазин с продавцом в придачу, все улицы и лавки с занавесками и публикой, весь город и залив с горами, их опоясывающими, нужны белые чары Фудзиямы, маячащей в безоблачном небе, вся Япония с ее волшебными деревьями, прозрачной атмосферой, городами, поселками и храмами и сорока миллионами самых симпатичных жителей во всей вселенной.
На ум приходит высказывание одного практичного американца. Услышав о большом пожаре в Японии, он воскликнул: «А-а, этот народ может позволить себе пожары. Их дома так дешево обходятся». Что правда, то правда: хлипкие деревянные домишки простолюдинов можно быстро заменить без особых затрат, но то, что сделало их прекрасными, заменить невозможно. Поэтому каждый пожар – трагедия для искусства, ибо Япония – страна бесконечного рукотворного разнообразия. Механизация еще не успела внедрить однообразие и прагматичное уродство дешевых поточных линий (кроме как в угоду западному дурному вкусу и рыночному спросу на пошлость), каждый предмет, изготовленный ремесленником или художником, не похож на другие, даже если сделан теми же руками. Всякий раз, когда что-то прекрасное гибнет в огне, вместе с ним гибнет заложенная в этом предмете индивидуальная мысль.
К счастью, стремление к творчеству в этом краю пожаров настолько живо, что продолжается из поколения в поколение умельцев, сколько бы пламя ни превращало их труды в пепел или оплывшие бесформенные слитки. Задумка, потерявшая свое выражение, вновь воплотится в других творениях, – возможно, по истечении века и в изменившемся виде, но узнаваемая своим родством с первоначальной идеей. Каждый художник – духовный творец. Он приходит к вершине самовыражения, не тратя годы впустую, плутая впотьмах и принося жертвы. Все жертвы уже принесены прошлыми поколениями. Талант творца перешел к нему по наследству. Великие предки направляют его пальцы, когда он рисует летящую птицу, туман в горах, утренний и вечерний свет, силуэты ветвей и россыпи цветов по весне. Он перенял ловкость у поколений опытных мастеров, и они вновь обретают дыхание в его чудесном рисунке. То, что поначалу было сознательным усилием, с веками превратилось в бессознательный, почти машинальный для живого человека, инстинктивный навык. Поэтому одна цветная гравюра Хокусая или Хиросигэ, за которую когда-то заплатили меньше цента, вполне можно считать более совершенным искусством, чем многие западные полотна стоимостью в целый квартал японских домов.
Часть 5
На улице – фигуры, словно сошедшие с гравюр Хокусая: люди в соломенных накидках от дождя, огромных грибовидных соломенных шляпах и соломенных сандалиях, крестьяне с продубленной солнцем и ветром кожей, ковыляющие на своих гэта (высоких, шумных деревянных башмаках), терпеливые матери с улыбчивыми лысыми младенцами на спинах, сидящие в своих лавках в окружении загадочных товаров, скрестив ноги, богато одетые купцы с латунными трубочками.
Затем я обращаю внимание на малый размер и изящество ступней, будь то почерневшие ноги крестьян, чудесные ножки детей, обутые в крохотные гэта, или ноги девушек в белоснежных таби. Таби, белые носочки с отделениями для каждого пальчика, придают маленькой, легкой ступне сказочный вид, делая ее похожей на изящное раздвоенное копытце олененка. В носках или без, ступни японцев отличаются античной симметрией, не испорченной неудобной обувью, уродующей ноги жителей Запада. Каждая пара деревянных башмаков издает свой особый звук при ходьбе – от клоп-клоп до клап-клап. Эхо шагов поэтому состоит из разных тонов и выстукивает разный ритм. На твердом покрытии вроде вокзальной платформы звук становится необычайно гулким. Толпа иногда намеренно подстраивается и идет в ногу, издавая забавный деревянный перестук.
Часть 6
– Тэра э юкэ!
Мне пришлось вернуться в европейскую гостиницу не ради обеда – на обед жаль тратить время, – а потому что я не смог объяснить Тя, что хочу посетить буддийский храм. После того как хозяин гостиницы изрек загадочные слова: «Тэра э юкэ», возница, наконец, меня понял.
Мы движемся несколько минут по широким улицам между садами и дорогими, но уродливыми европейскими зданиями, потом по мосту через канал с обилием некрашеных остроносых лодок необычной конструкции, снова ныряем в гущу узких, ярких, живописных улочек с низкими домами – еще один район в японской части города. Тя во весь опор бежит между рядами домов в форме ковчегов с широким нижним и уменьшенным верхним этажом, между вереницами незнакомых открытых лавчонок. Над ними неизменно нависают темно-синие черепичные крыши, уходящие к обклеенным бумагой помещениям второго этажа. На всех фасадах развеваются занавеси – синие, белые, красные полосы шириной около фута с прекрасными японскими письменами, выведенными белой, голубой и красной краской на черном фоне и черной – на белом. Все это проносится мимо быстро, как сон. Мы пересекаем очередной канал, рикша бежит вверх по узкой улице. Тя резко останавливается перед широченной каменной лестницей, опускает оглобли, чтобы я мог ступить на землю, и, указав на ступени, произносит: «Тэра!»
Я спешиваюсь, поднимаюсь по ступеням на широкую террасу и вижу перед собой чудесные ворота с наклонной, заостренной крышей в китайском стиле со множеством углов. Панели ворот выдержаны в таком же стиле, из карнизов торчат гаргульи – гротескные львиные морды. Вся конструкция сложена из серого камня, но резьба не кажется неподвижной скульптурой, ее змеиные извивы и драконьи выступы колеблются и неуловимо закручиваются, как завихрения на поверхности воды.
Я оборачиваюсь, взгляд далеко проникает сквозь роскошное сияние небосвода. Море и небо сливаются в сплошную бледно-голубую полосу. У меня под ногами расстилаются буруны синих крыш, выходящих справа от меня на берег безмятежного залива и к подножию зеленых лесистых холмов, обступающих город с двух сторон. Позади полукруга зеленых холмов высится зазубренный горный хребет – силуэты вершин цвета индиго. В головокружительной выси маячит видение невыразимой красоты – одиночный заснеженный конус, настолько туманно-щегольский, настолько бестелесно-белый, что, если бы не его знакомые с незапамятных времен очертания, он мог бы показаться облаком. Подножие конуса того же оттенка, что и небо, и потому неразличимо. Волшебный пик виден лишь выше линии вечных снегов; его вершина – глава священной, несравненной Фудзиямы, словно призрак, парит между серебристой сушей и серебристым небом.
Внезапно перед воротами с причудливыми скульптурами на меня нисходит необыкновенное ощущение зачарованности, зыбкости. Мне кажется, что ступени, ворота с извивающимися драконами, купол голубого неба над городскими крышами, призрачная красота Фудзи, моя собственная тень на серой каменной кладке вот-вот исчезнут. Откуда взялось это чувство? Оно, несомненно, появилось из-за того, что все формы, которые я наблюдаю, гнутые кровли, свитые кольцами драконы, вычурная китайская резьба не кажутся мне чем-то новым – я как будто уже видел их во сне или в грезах наяву. Их вид, должно быть, разбудил забытые воспоминания о книжках с картинками. Проходит мгновение, и наваждение рассеивается. Возвращается романтика момента вместе со свежим осознанием, что все это вполне реально и восхитительно ново – волшебная прозрачность далей, тонкость оттенков ожившей картины, невероятная высота и голубизна летнего неба, мягкая белая магия японского солнца.
Часть 7
Я поднимаюсь по новому пролету ко вторым воротам с такими же гаргульями и драконами и вступаю во двор с похожими на памятники, изящными каменными фонарями для поминовения усопших. По правую и левую руку сидят два фантастических каменных льва – лев и львица Будды. Поодаль виднеется низкое легкое здание с изогнутой двускатной крышей, крытой синей черепицей. Ко входу ведут три деревянные ступени. Боковые стенки здания представляют собой деревянные ширмы, оклеенные тонкой белой бумагой. Это и есть храм.
У порога я снимаю обувь, молодой человек отодвигает дверь-ширму и галантно кланяется в знак приветствия. Я вхожу, ощущая подошвами толстые и мягкие, как матрац, циновки. Я нахожусь в большом квадратном зале, наполненном незнакомым сладковатым ароматом японских благовоний. Жар солнца, пройдя через бумажные стенки, оборачивается внутри полумраком лунной ночи. Одну-две минуты я ничего не вижу кроме тусклого блеска позолоты в мягком сумраке. Глаза постепенно привыкают к темноте, и я начинаю различать на фоне бумажных экранов, окружающих святилище с трех сторон, словно вырезанные из тусклого света силуэты огромных цветов. Я подхожу ближе и вижу, что цветы, прекрасно раскрашенные символические цветки лотоса с изогнутыми листьями, позолоченными сверху, и ярко-зеленой тыльной частью сделаны из бумаги. В темном конце зала напротив входа стоит алтарь Будды, богато украшенный и высокий, справа и слева к нему лепятся бронзовые и позолоченные предметы, превращая алтарь в крохотный золотой ковчег. Однако никакой статуи в алтаре нет – видны лишь предметы неизвестного назначения из отшлифованного металла, выступающие из полумрака притаившегося позади алтаря то ли алькова, то ли внутреннего святилища.
Молодой служка, впустивший меня в храм, подходит и к моей полной неожиданности говорит на прекрасном английском языке, указывая на богато украшенный, позолоченный предмет, лежащий на алтаре между светильниками:
– Это ковчег Будды.
– Я хотел бы сделать подношение Будде, – отвечаю я.
– В этом нет нужды, – говорит молодой человек с вежливой улыбкой.
Я настаиваю. Тогда он кладет на алтарь от моего имени небольшое подношение и приглашает меня в свою комнату в боковой части храма, большую и светлую, лишенную мебели, но с удобными циновками на полу. Мы садимся на пол и беседуем. Он говорит, что состоит при храме учеником. Английский язык он изучал в Токио, говорит на нем с забавным акцентом, но со вкусом подбирает слова. Наконец, он спрашивает меня:
– Вы христианин?
Я искренне отвечаю «нет».
– Буддист?
– Не совсем.
– Почему же вы делаете подношения Будде, если не верите в него?
– Я почитаю красоту его учения и веру тех, кто ему следует.
– А в Англии и Америке есть буддисты?
– Там, по крайней мере, немало людей, интересующихся буддийской философией.
Молодой человек достает из алькова и протягивает мне небольшую книгу – английский экземпляр «Буддийского катехизиса» Олкотта.
– Почему в вашем храме нет образа Будды? – спрашиваю я.
– Есть маленькая статуя в ковчеге на алтаре, но ковчег заперт. Есть и более крупные статуи. Однако статуи Будды показывают здесь не каждый день, а только по праздникам. А некоторые – лишь раз или два раза в год.
Я спрашиваю ученика:
– Почему люди перед молитвой три раза хлопают в ладоши?
– Это делается в честь трех великих сил – неба, земли и человека.
– Разве верующие хлопают в ладоши не для того, чтобы призвать Бога, как, например, японцы хлопают, когда призывают слуг?
– О нет! Хлопки означают всего лишь пробуждение ото сна в Долгую ночь[2].
– Что это за ночь? Что за сон?
Ученик медлит с ответом.
– Будда говорил: «Все живые существа пребывают во сне в мимолетном мире несчастия».
– Значит, хлопки в ладоши символизируют пробуждение души ото сна во время молитвы?
– Да.
– Вам известно значение слова «душа»?
– О да! Буддисты верят, что душа всегда была и всегда будет.
– Даже в нирване?
– Да.
Во время нашей беседы в храм входит главный священник, глубокий старец, сопровождаемый двумя молодыми послушниками. Меня представляют им. Все трое, сверкнув бритыми наголо макушками, отвешивают очень низкий поклон и принимают божественную позу на полу. Я замечаю отсутствие улыбок, это первые японцы, которые не улыбаются мне при встрече. Их лица сохраняют бесстрастность каменных изваяний. В то же время раскосые глаза внимательно следят за мной, пока ученик переводит их вопросы, а я пытаюсь рассказать о переводах сутр в наших священных книгах о Востоке и о трудах Била, Бюрнуфа, Фира, Дэвидса, Керна и прочих. Японцы слушают, не меняя выражения лица и не произнося ни слова в ответ на перевод учеником моих объяснений. Тем временем мне приносят чай в маленькой бронзовой чашке, имеющей форму лепестка лотоса. Мне предлагают маленькие сладкие пирожные (каси) с выдавленным рельефом в виде свастики – древнеиндийского символа Колеса закона.
Когда я встаю, чтобы уйти, все поднимаются вместе со мной. Перед моим уходом ученик спрашивает, как меня зовут и где я остановился.
– Вы меня здесь больше не застанете, – добавляет он. – Я скоро покину храм. Но я могу навестить вас.
– А вас как зовут?
– Акира.
На пороге я делаю прощальный поклон, все четверо опять низко кланяются, одна голова в черно-синем головном уборе и три матовые, как слоновая кость. Я ухожу. Улыбается один Акира.
Часть 8
– Тэра? – спрашивает Тя, тиская в руках огромную белую шляпу, когда я сажусь в коляску рикши у подножия лестницы. Вопрос, несомненно, следует понимать как «Хочу ли я увидеть другие храмы?». Определенно хочу, я все еще не видел Будду.
– Да, тэра, Тя.
Снова мимо плывет панорама загадочных лавок и наклонных стрех с покрывающими все поверхности фантастическими письменами. Мне невдомек, в каком направлении бежит Тя. Я лишь замечаю, что улицы становятся у'же, а некоторые дома похожи на большие плетеные голубиные клетки. Мы пересекаем несколько мостов и только тогда останавливаемся у подножия холма. Наверх ведет крутая лестница, перед ней стоит постройка, которая, как я уже знаю, служит и воротами, и символом веры. Она внушительна, но мало напоминает великие врата Будды предыдущего храма. Все линии поразительно просты – никакой резьбы, никакой цветной росписи или надписей, но в то же время строение дышит торжественностью и загадочной красотой. Такие ворота называются ториями.
– Мия, – говорит рикша. На этот раз он привез меня не к буддийскому храму-тэра, а к обители более древних богов – мия.
Передо мной символ синтоизма. Я впервые вижу тории не на картинке. Как объяснить, что это такое, человеку, который никогда не видел тории хотя бы на фотографии или гравюре? Две высокие колонны наподобие столбов-ворот подпирают две поперечные балки. Концы нижней, той, что тоньше, вделаны в столбы у самой их вершины. Верхняя, более крупная балка покоится на макушках колонн и далеко выступает с левой и правой стороны. Конструкция торий почти всегда одинакова, будь они сделаны из камня, дерева или металла. Увы, мое описание плохо передает облик торий, их величественность и мистический ореол, окружающий вход в неведомое. Впервые, когда человек видит благородство торий, он может подумать, что перед ним гигантская копия прекрасного китайского иероглифа, ибо все линии ворот так же грациозны, как ожившая идеограмма, как лихие углы и скругления знаков, начертанных четырьмя взмахами кисти мастера[3].
Пройдя между столбами, я поднимаюсь по сотне каменных ступеней и на верхней площадке нахожу еще одни тории, где с нижней поперечной балки свисают загадочные гирлянды – симэнава. В данном случае это пеньковый канат примерно два дюйма в обхвате, сужающийся с обоих концов наподобие змеи. Когда тории сделаны из бронзы, то симэнава тоже иногда отливают из бронзы. Однако по традиции их чаще всего плетут из соломы, и это не случайно, ибо таким соломенным канатом божество Футодама-но микото перегородил вход в пещеру, после того как бог силы Тадзикарао-но ками вытащил из нее богиню Солнца Аматэрасу-о-миками. Этот миф, синто, перевел профессор Чемберлен[4]. В своей наиболее привычной форме симэнава имеет распределенные по всей длине на одинаковом расстоянии и свисающие вниз пучки соломы, потому что, согласно легенде, веревка была свита из вырванной с корнями травы.
Миновав вторые тории, я оказался в подобии парка отдыха, разбитого на вершине холма. Справа – небольшой храм, вход в него закрыт. Я много читал о бедности внутреннего убранства синтоистских храмов, поэтому не сожалею об отсутствии привратника. Зато я вижу нечто бесконечно более интересное – рощу вишневых деревьев, чьи ветки сплошь усыпаны прелестными, словно кудрявые летние облака, белоснежными цветками. Цветками усеяны земля под деревьями и дорожка, мягкий, густой слой ароматных лепестков покрывает все пространство вокруг.
Помимо этой прелести крохотные храмовые постройки окружены горшками с цветами, чудесным гротом с чудовищами в виде высеченных из камня драконов и сказочных существ, миниатюрными садами малюсеньких карликовых деревьев, лилипутскими прудами и крохотными ручейками с мостиками и водопадами. Здесь же стоят качели для детей. А над обрывом примостился бельведер, откуда видны весь благородный город и спокойный залив с парусами шхун не больше булавочной головки, а также далекие, едва различимые, высокие прибрежные утесы, вдающиеся в море. Все это составляет единый очаровательный пейзаж – тонкие голубые штрихи на фоне призрачной дымки неописуемой красоты.
Почему деревья в Японии столь живописны? У нас вид сливы или вишни в цвету никого не прельщает, но здесь они превращаются в чудо настолько потрясающей красоты, что, сколько бы ты об этом ни читал, при виде реальной сцены разеваешь рот от изумления. Листва не видна, все тонет в большом облаке хрупких лепестков. Может быть, деревья в этом краю богов так долго приручали и ласкали, что они обрели души и стремятся выразить свою благодарность, как это делают любимые жены, принаряжаясь для мужей? Эти деревья покорили своей красотой людские сердца подобно прекрасным рабыням. Вернее, сердца одних японцев. Здесь явно успели побывать беспардонные иностранные туристы, так как хозяева сада сочли необходимым написать объявление на английском языке: «Ранить деревья запрещено».
Часть 9
– Тэра?
– Да, Тя. Тэра.
На этот раз мы путешествуем по японским улицам лишь короткое время. Дома разбросаны у подножия холмов, город режут на узкие дольки маленькие долины. Наконец, городские кварталы исчезают позади. Мы движемся по извилистой дороге вдоль моря. Справа к обочине круто спускаются склоны зеленых холмов. Слева широкая полоса песчаных дюн и лиманов расстилается до линии прибоя, настолько удаленной, что кажется шевелящейся белой нитью. Наступил отлив. По песку разбрелись сборщики моллюсков, они так далеко, что их согбенные фигурки кажутся на сверкающем фоне морского ложа крохотными насекомыми. Некоторых мы нагоняем по дороге, они возвращаются с берега с корзинами, полными добычи. У девушек лица розовые, почти как у англичанок.
Рикша бежит дальше. Холмы на краю дороги становятся выше. Наконец, Тя останавливается перед самой крутой и высокой лестницей, какую мне доводилось видеть.
Я долго, очень долго взбираюсь по ступеням, временами вынужденно останавливаясь, чтобы дать отдых ноющим от боли бедренным мышцам. На вершину я прихожу совершенно выдохшись, меня встречает пара львов. Один скалит клыки, другой сидит, сжав челюсти. Храм расположен в дальней части небольшой голой площадки, окруженной с трех сторон низкими утесами. Храм маленький, очень старый и серый. Со скалы слева от постройки в небольшой водоем за низкой оградой с шумом течет водопад. Голос воды заглушает все остальные звуки. С океана дует резкий ветер. Прохладно даже на солнце, место выглядит жалким и покинутым, как будто тут никто не молился уже сотню лет.
Тя стучит и кого-то зовет, я тем временем снимаю обувь на истертых деревянных ступенях храма. Через минуту за бумажной перегородкой слышатся глухая поступь и гулкий кашель. Перегородка отодвигается, и выходит старый, одетый в белое священник. Он с низким поклоном приглашает меня войти. У него доброе лицо, и его улыбка кажется мне самой приветливой из всех, что я видел. Священник еще раз кашляет с такой натугой, что приди я позже, пожалуй, мог бы его уже не застать в живых.
Я чувствую под ногами мягкую, безупречную, пружинящую поверхность циновок, которыми устланы полы всех японских домов. Прохожу мимо непременных колокольчика и лакированного столика для чтения. Впереди лишь новые ширмы, достающие от пола до потолка. Старик, не переставая кашлять, отодвигает одну из них справа и машет мне, приглашая в полумрак внутреннего покоя, где витает слабый аромат фимиама. Первым делом бросается в глаза огромная бронзовая лампа с драконами, кольцами обвивающими мощную ножку. По пути я задеваю плечом гирлянду из маленьких колокольчиков, свисающую с крепления в форме цветка лотоса. На ощупь, еще не различая форм, касаюсь алтаря. Священник отодвигает одну ширму за другой, проливая свет на позолоту и надписи. Я ищу взглядом образ божества или верховного духа между группами изогнутых светильников у алтарей, но вижу лишь зеркало – круглый бледный диск из полированного металла, отражающий мое собственное лицо и призрак моря позади карикатуры на меня.
Всего лишь зеркало. Что оно символизирует? Иллюзорность мира? То, что вселенная существует для человека только как отражение его души? Или это намек на древнекитайское учение, советующее искать Будду исключительно в своем сердце? Возможно, когда-нибудь я смогу постигнуть смысл этих предметов.
Пока я усаживаюсь на ступени храма перед уходом, чтобы обуться, добрый старый священник с поклоном протягивает мне чашу. Полагая, что это чаша для сбора подношений, я торопливо бросаю в нее пару монет и только тогда замечаю, что она наполнена горячей водой. Беспримерная вежливость старика смягчает мой стыд от неловкой ошибки. Не говоря ни слова, все с той же доброй улыбкой он уносит чашу и возвращается с другой, на этот раз пустой, наливает в нее горячую воду из маленького чайника и жестом предлагает выпить.
Посетителям храмов почти всегда предлагают чай. Но этот храм очень беден. Я подозреваю, что здешний священник страдает от нужды, какой не заслуживает ни один ближний. Спускаясь по крутым ступеням к дороге, я вижу, как он, надсадно кашляя, провожает меня взглядом.
Тут я вспоминаю о своем карикатурном отражении в зеркале. У меня закрадываются сомнения, смогу ли я когда-либо найти то, что ищу, вне себя самого, за пределами собственного воображения.
Часть 10
– Тэра? – опять спрашивает Тя.
– Нет. Уже поздно. Гостиница, Тя.
Однако рикша, свернув на обратном пути за угол, останавливается перед крохотным храмом, не больше маленькой японской лавки. Эта постройка удивляет меня больше, чем более крупные культовые сооружения. Во-первых, по обе стороны от входа здесь стоят две фигуры чудовищ – обнаженные, кроваво-красного цвета, демонические, невероятно мускулистые, с львиными лапами вместо ступней и позолоченными молниями в руках, глаза налиты яростью. Это хранители святынь Ни-О[5]. Прямо между этими красными монстрами стоит и смотрит на нас девушка. Ее легкая фигурка в серебристо-серой одежде, перехваченной фиолетовым поясом, приятно выделяется на фоне темноты внутри храма. Невозмутимое, примечательно тонкое лицо способно очаровать в любой обстановке, но здесь его контраст с гротескно-грозными фигурами производит неповторимый эффект. Уж не вызвано ли мое отвращение к двум чудищам ревностью из-за того, что их считает достойными поклонения столь очаровательная девушка? Когда она стоит между ними, хрупкая и стройная, как блестящий мотылек, и наивно поглядывает на иностранца, совершенно не подозревая, что эти фигуры могут казаться ему злобными и отталкивающими, стражи ворот как будто даже теряют свою уродливость.
Кто они такие? В художественном плане – буддистское воплощение Брахмы и Индры. Погрузившись во всепоглощающую и все преобразующую волшебную атмосферу буддизма, Индра теперь способен разить молнией, лишь защищая веру, свергнувшую его с престола. Он стал сторожем храмовых ворот, более того – охранником Бодхисатвы, ибо это храм не самого Будды, а богини милосердия Каннон.
– В гостиницу, Тя, в гостиницу! – повторяю я, так как путь далек, а солнце, окруженное мягким яхонтовым ореолом, уже опускается за горизонт. Я так и не увидел Сяку (так японцы произносят имя Шакьямуни), не предстал перед ликом Будды. Может быть, получится найти его образ завтра в дикой путанице улочек с деревянными домами или на вершине какого-нибудь холма, куда я еще не взбирался.
Солнце скрылось за горизонтом. Яхонтовый свет погас. Тя делает остановку, чтобы зажечь бумажный фонарик, потом мы возобновляем быстрое движение между двумя рядами раскрашенных бумажных фонарей, висящих перед лавками. Гирлянды расположены так близко друг от друга, что сливаются в две бесконечные нити с нанизанными жемчужинами огней. Внезапно над крышами города плывет торжественный, глубокий, мощный звук – голос цуриганэ, большого колокола в Ногэяме.
Как быстро пролетел день! Однако мои глаза так долго слепил яркий свет, меня так долго сбивало с толку колдовство бесконечного лабиринта загадочных надписей, превращающих каждую улицу в строку гигантского гримуара, что теперь мне трудно смотреть даже на мягкое свечение бумажных фонариков, тоже, кстати, покрытых будто взятыми из книги волхвов письменами. Я, наконец, ощущаю изнеможение, всегда наступающее после бурных восторгов.
Часть 11
– Амма ками симо го хяку мон!
Женский голос звучит в темноте, нежно произнося слова нараспев, каждый слог проникает в окно как звук флейты. Мой слуга-японец немного понимает по-английски и переводит значение слов.
– Амма ками симо го хяку мон!
Между протяжными, мелодичными выкриками раздаются плаксивые свистки – одна длинная нота и две коротких другой высоты. Это свисток бедной слепой массажистки аммы, которая зарабатывает на жизнь, массируя и купая больных и уставших людей. Она предупреждает звуками свистка прохожих и возниц о своем присутствии, потому что сама ничего не видит. А потенциальные клиенты, услышав свист, могут пригласить ее в дом.
– Амма ками симо го хяку мон!
Грустная мелодия, но какой нежный голос. Выкрик означает, что за пятьсот мон массажистка придет и разотрет твое утомленное тело, верхнюю и нижнюю часть, чтобы снять боль и усталость. Пятьсот мон равняются пяти сен (японским центам). В одном сене десять рин, в одном рине десять мон. Мелодичность голоса зачаровывает. Я даже жалею, что у меня ничего не болит и у меня нет причины заплатить пятьсот мон, чтобы унять боль.
Я ложусь спать, мне снится сон. Я вижу, как мимо меня проносятся китайские тексты, их много, они причудливые и загадочные, и все летят в одном направлении. Иероглифы черного и белого цвета на вывесках, на бумажных ширмах, на спинах мужчин в сандалиях. Знаки как будто оживают, обретают сознание, движутся и шевелят своими черточками, словно гигантские насекомые-фасматиды. Воображаемый рикша везет меня по низеньким, узким, прозрачным улочкам, стука колес не слышно. И передо мной ни на секунду не исчезает прыгающая вверх-вниз белая шляпа-гриб Тя.
Глава вторая
Письмена Кобо Дайси
Часть 1
Кобо Дайси, святейший из буддийских священнослужителей, основатель школы Сингон, которой принадлежит Акира, обучил японцев азбуке хирагана и слоговому письму ироха. Сам Кобо Дайси был одним из самых удивительных каллиграфов и опытнейшим писцом.
В книге «Кобо Дайси ити дай ки» говорится, что, когда он жил в Китае, в императорском дворце потребовалось обновить истертые надписи на стенах одой из комнат. Император послал за Кобо Дайси и велел ему заново расписать стены. Монах взял по кисти в правую и левую руку, зажал еще по одной кисти между пальцами правой и левой ноги, а еще одну – зубами, и этими пятью кистями начертил на стенах знаки. Такого прекрасного письма еще не видывали в Китае, линии гладко струились, как воды ручья. Затем Кобо Дайси взял кисть и брызнул ей на стену с расстояния, и брызги, упав на стену, тоже превратились в чудесные письмена. Император присвоил монаху звание Гохицу-Ошо или Священник с Пятью Кистями.
В другой раз, когда святой приезжал в Такао-сан близ Киото, император, пожелав, чтобы Кобо Дайси расписал скрижаль для большого храма Конго-додзи, вручил табличку посыльному и распорядился доставить ее монаху. Но когда посыльный прибыл к месту, где жил Кобо Дайси, оказалось, что река настолько разбухла от дождей, что через нее никто не мог переправиться. Через некоторое время Кобо Дайси появился на противоположном берегу и, услышав о пожелании императора, попросил посыльного держать скрижаль в руках. Святой сделал кистью несколько росчерков в воздухе, и знаки тотчас же появились на табличке, которую держал посыльный.
Часть 2
В ту пору Кобо Дайси любил медитировать в одиночестве на берегу реки и однажды во время сеанса медитации заметил стоящего перед ним мальчика, который с любопытством на него смотрел. Мальчик был одет как нищий, но прекрасен лицом. Прежде чем Кобо Дайси успел что-то сказать, мальчик спросил его: «Вы ли Кобо Дайси, которого зовут Гохицу-Ошо, монахом, умеющим писать пятью кистями сразу?» Кобо Дайси ответил «да». Тогда мальчик сказал: «Я тоже попробую». И стал писать кистью по воздуху, как это делал Кобо Дайси. Потом он снова обратился к монаху: «Прошу вас, напишите для меня что-нибудь на поверхности воды». Кобо Дайси написал на воде поэму во славу реки. На мгновение прекрасные письмена были видны на водной поверхности, словно упавшие на нее листья, но течение быстро унесло их прочь. «Теперь я попробую», – сказал мальчик и написал на воде знак дракона – иероглиф Рю стилем под названием «сосё» или «травяное письмо». Знак остался на зыбкой поверхности, и его не унесло течением. Однако Кобо Дайси заметил, что мальчик не поставил тэн – маленькую точку, которая была частью иероглифа. «Почему ты не поставил тэн?» – спросил он мальчика. «Ой, забыл! – воскликнул мальчик. – Прошу вас, поставьте ее за меня». Кобо Дайси поставил точку, и о чудо! Знак дракона превратился в настоящего дракона. Дракон страшно зашевелился в водах реки, небо затянули грозовые тучи, засверкали молнии. Дракон бурным вихрем взвился в небо.
«Кто ты?» – спросил Кобо Дайси мальчика. Мальчик ответил: «Я тот, кому люди поклоняются на горе Готай. Я повелитель мудрости Мондзю-босацу». С этими словами мальчик преобразился, его красота стала светозарной, как красота богов, сияющие члены источали волны мягкого света. С улыбкой мальчик поднялся в небо и скрылся за облаками.











