Читать онлайн Джентльмен и вор: идеальные кражи драгоценностей в век джаза
- Автор: Дин Джобб
- Жанр: Исторические детективы, Биографии и мемуары, Документальная литература, Зарубежные детективы
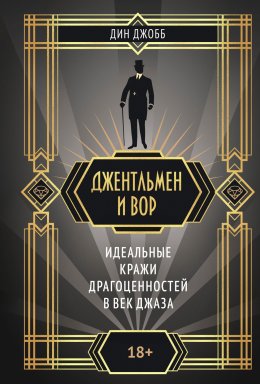
Dean Jobb
A GENTLEMAN AND A THIEF: THE DARING JEWEL HEISTS OF A JAZZ AGE
Перевод с английского Глеба Григорьева
© Dean Jobb, 2024
This edition published by arrangement with Algonquin Books, an imprint of Workman Publishing Co., Inc., a subsidiary of Hachette Book Group, Inc. New York, New York, USA via Igor Korzhenevskiy of Alexander Korzhenevski Agency (Russia). All rights reserved
© Григорьев Г. Л., перевод на русский язык, 2025
© Издание на русском языке, оформление. ООО «Издательство АЗБУКА», 2025 КоЛибри®
Несколько слов к читателю
Многие преступления Артура Бэрри настолько дерзкие, что выглядят литературной выдумкой, но все именно так и было. Приведенные здесь цитаты взяты из газетных статей, из интервью Бэрри разных лет, из судебных протоколов и тюремных отчетов, из воспоминаний о 1920-х годах и из архивных документов, найденных в самых неожиданных местах, от штата Вайоминг до британского Саутгемптона. Ни одна цитата не изменена. Ничего не добавлено и не приукрашено. Все события изложены именно так, как они происходили. Сталкиваясь с противоречиями в источниках, я выбирал свидетельства того времени, а не позднейшие воспоминания Бэрри и других людей. Ведь один из главных элементов криминальной документалистики – истина.
Пролог. Принц Обаяние
Человек в смокинге и накрахмаленной белой рубашке проплыл мимо мужчин в черных костюмах и элегантных женщин в парижских платьях и сияющих драгоценностях и остановился у компании, окружавшей чашу с пуншем. Кто-то протянул новому гостю бокал, настала пора знакомиться, и он представился: Гибсон. Доктор Гибсон. Густые черные волосы, синие глаза, точеный профиль красавца вроде тех кинозвезд, на кого с обожанием смотрели – тогда еще не слыша – толпы поклонниц. Некоторые, должно быть, задержали на нем взгляд дольше обычного – это же вылитый Рональд Колман, английский актер, ракетой влетевший в Голливуд после успеха «Белой сестры», его дуэта с легендой немого кино Лиллиан Гиш.
Один из стоявших у пунша – рыжеволосый, невысокий, худощавый, с мальчишеским лицом и застенчиво склоненной головой – в специальном представлении не нуждался. Любому американцу, открывшему в последние дни хоть одну газету, был прекрасно знаком этот по-щенячьи трогательный взгляд. Гибсон, чей интерес к светским новостям можно сравнить с дотошностью старателя, узнал его еще до того, как вошел в комнату. Уже неделю вся пресса трубила об американском вояже Эдварда, принца Уэльского. Подустав от монархических обязанностей, наследник британского престола направил стопы на «изящный по форме и славный буйным весельем остров, протянувшийся к востоку от Нью-Йорка» – как назовет Лонг-Айленд Фрэнсис Скотт Фицджеральд в еще не изданном на тот момент «Великом Гэтсби».
Визит августейшей особы в сентябре 1924 года совпал с аномальной жарой. Принц был желанным гостем местной элиты – ужины, танцы, коктейли в импозантных особняках, езда верхом, поло на ухоженных лужайках. Он скользил под парусом по волнам пролива Лонг-Айленд. Играл в гольф, плавал в бассейнах. Для него даже устроили охоту на лис с чуть ли не сотней гончих – лишь бы он чувствовал себя как дома. «В истории нашего города, – гласила колонка в утренней газете “Нью-Йорк америкен”, – вряд ли прежде случалось, чтобы гостю с дальних берегов воздавали почести столь навязчиво и в столь экстравагантной манере».
Глава «Стандарт ойл» Гарольд Ирвинг Пратт с женой Гарриет закатили для принца грандиозный пикник с парой сотен гостей в Уэлвине, своем сельском поместье, – оно смотрело на пролив и считалось «достопримечательностью Лонг-Айленда». Их тут же перещеголял финансист Кларенс Маккей, владелец крупного горнодобывающего бизнеса. Ужин с танцами и без малого тысяча видных особ в Харбор-Хилл – копии французского замка на двухстах пятидесяти гектарах. Целый взвод рабочих днями напролет завозил туда апельсиновые деревья в горшках, развешивал гирлянды с желтыми лампочками, превращал площадку для пикника в «сказочное пространство у замка», где самое место принцу. «Королевский праздник для представителя короны!» – восхищалась вашингтонская «Ивнинг Стар».
«А мы чем хуже?» – подумал металлург Джеймс Аберкомби Берден и вручил принцу ключи от Вудсайда, своего георгианского имения неподалеку от Сайосета, с виду неотличимого от аристократических домов сельской Англии – как будто его взяли и бережно перенесли в Америку. Одна нью-йоркская газета окрестила его «Берден-Палас». Хозяева предоставили в полное распоряжение принца и его свиты весь свой парк машин, включая пять пучеглазых лимузинов «роллс-ройс» с хромированными решетками.
Но главной приманкой для принца стал Сидарс в Сэндс-Пойнте, усадьба нефтяного магната из Оклахомы Джошуа Косдена и его жены Нелли. Здание в колониальном стиле, просторное и изящное, украшенное колоннами, с верандами, террасами и мансардными окнами в двухскатной остроконечной крыше, возвышалось над белопесчаным пляжем. Его хозяева дали принцу то, чего не могли предложить ни Бердены, ни Пратты и никто на Лонг-Айленде – знакомые лица. В Сидарсе тогда гостили его кузен, лорд ЛуисМаунтбаттен, с супругой, леди Эдвиной, а также его близкая приятельница Джин Нортон, жена будущего лорда Грантли.
В начале сентября Косдены закатили вечеринку, и принц со свитой, оседлав один из лимузинов Бердена, отправился на эту «камерную, но оживленную встречу друзей», как отозвалась о ней пресса. Именно там Гибсон и познакомился с принцем. И там же, вращаясь среди гостей, он положил глаз на Маунтбаттенов – по его словам, «смуглого красавца-офицера ВМС» и «очаровательную леди Маунтбаттен, жемчужину мирового светского общества».
Вечеринка выдалась негромкой, на ней царила атмосфера расслабленности – то, чего принцу так не хватало с самого приезда. Настоящий отдых, а не официальные мероприятия, в одном из которых ему все же пришлось на Лонг-Айленде поучаствовать – болеть за команду своей страны на международном чемпионате по поло. Эдвард ездил по миру в качестве британского посла доброй воли – разрезал ленточки, произносил речи и жал руки ради укрепления сложившихся во время войны союзов или поддержки торговых проектов. Принцу требовалось хоть немного перевести дух. «Он здесь, чтобы развлечься, – напомнил один из помощников принца, Томми Ласселз, репортерам и фотографам, которые фиксировали каждый его шаг. – Его королевское высочество имеет право посвятить какое-то время себе».
Принц стал первым в череде персон, составивших новую реалию двадцатого века, – «звезда королевских кровей». И его возмущению не было предела, когда он обнаружил, насколько американские журналисты агрессивнее и беспардоннее своих британских коллег. «Эти газетчики-янки просто сволочи! – раздосадованно пожаловался он личному секретарю в не подобающих царственной особе выражениях. – Их чертов шпионаж возмутителен!» Самому завидному холостяку на планете стукнуло в июне тридцать, и вся американская пресса буквально свихнулась на идее, что «принц Обаяние» прибыл на их берега в поисках невесты. «Если влюбитесь в американку, сможете взять ее в жены?» – сразу же полетел ему вопрос от нью-йоркских репортеров на трапе лайнера «Беренгария». А кандидаток была масса – все жаждали познакомиться с ним или хотя бы привлечь внимание. «ЦЕЛАЯ АРМИЯ ПРЕКРАСНЫХ ДАМ МЕЧТАЕТ ОБ УЛЫБКЕ ПРИНЦА», – вопил заголовок в «Дейли Ньюс». Сотни женщин, «позабыв о приличиях», как выразился один из журналистов, с ногами взгромоздились на сиденья ипподрома Бельмонт-Парк, лишь бы хоть мельком увидеть его высочество в будке судей.
В тот момент, когда Гибсон заприметил принца у Косденов, внимание почетного гостя было монополизировано немолодой дамой, несомненно, расхваливающей красоту и добродетели своей дочери или племянницы. Принц учтиво слушал, стоя в элегантной позе: коктейль в правой руке, согнутая левая – за спиной. Но не эта леди заинтересовала Гибсона, который увлеченно разглядывал драгоценности на шеях, запястьях и пальцах многочисленных гостей. «Я очень хорошо во всем этом разбираюсь, – сознавался он, – и не мог не восхищаться их украшениями». На долгие годы останется в его памяти увиденная тем вечером древняя китайская золотая вещица ручной ковки с крупным бриллиантом.
Кто-то из свиты принца предложил «сбежать от этих женщин» хотя бы ненадолго. Гибсон тут же вмешался в разговор, намекнув на «вылазку в места повеселее» – мол, можно съездить на Манхэттен и «посмотреть город», а сам он выступил бы гидом.
Некоторые стали возражать, и идею отвергли. Однако принц все же не желал упустить случай отведать ночной жизни Нью-Йорка. «Уэльскому свойственна спонтанность, он поступает так, как хочет и когда хочет, – отмечал один из журналистов, освещавших визит. – Это – одна из составляющих его обаяния». Принц отвел нового знакомого в сторону. Раз в кои-то веки за ним по пятам не гнались назойливые репортеры. Вот он – шанс увидеть Нью-Йорк глазами туриста, а не будущего короля.
– Ваша маленькая затея еще в силе, доктор Гибсон? – спросил он.
– Привет, паршивцы! – Это приветствие, летевшее сквозь дым и гул голосов из уст яркой, но грубоватой синеглазой блондинки, было первым, что слышали почти все клиенты, поднимаясь по ступенькам в один из самых знаменитых подпольных клубов в городе. Надпись на козырьке над входом на Западной 45-й улице гласила «Клуб “Эль Фэй”», но в Нью-Йорке все называли его «заведением Тексас Гуинан». Мэри Луиза Сесилия Гуинан раньше играла в кино и водевилях, взяв себе имя по месту рождения. Она снялась в «Женщине с пистолетом», «Кодексе Запада», «Дикой кошке» и десятках прочих вестернов, но решила начать новую жизнь в качестве менеджера ночного клуба.
В заведение, открытое всего несколько месяцев назад, Гуинан позвал хозяин, бутлегер Ларри Фэй. Она нанимала музыкантов, танцовщиц, вела конферанс на местных шоу и по-свойски приветствовала гостей своей фирменной фразой. «Впечатляющая женщина», – вынес вердикт журналист-критик Эдмунд Уилсон. «Жемчуга, пышная, ослепительная грудь, густые, очаровательно желтые крашеные волосы, крепкий капкан сияющих белизной зубов». Она принадлежала к тому же пикантному типажу, что и Мэй Уэст[1], и правила в своем царстве, как вспоминал один заглянувший в «Эль Фэй» журналист, «напоминая красавицу-дрессировщицу, только что шагнувшую в огромную клетку с тиграми».
В узком прокуренном помещении клуба могло поместиться сотни две человек, не меньше, но на его крошечной танцевальной площадке даже пять-шесть пар толкались, как сардины в банке. Привлеченные джазовым ансамблем и присутствием «той самой» Гуинан, туда наведывались разные знаменитости вроде актера Эла Джолсона, боксера Джека Дэмпси или – как в тот вечер – будущего короля Англии. Гуинан, не чуждая беззастенчивой саморекламы, потом всем хвасталась, как однажды обслуживала самого известного на свете принца, «невысокого парня, у которого никогда не было ни заднего двора, ни чумазой мордашки».
Кое-кто из свиты поддался на уговоры принца и примкнул к вылазке. Путь лежал на Бродвей. «Великий белый путь», как называют его в Нью-Йорке, «Пояс белого света» или просто «Большая улица». Район развлечений, известный как «Ревущие сороковые»[2], в эпицентре которых стоял «Эль Фэй», – сетка из авеню и поперечных улиц, напичканная ресторанами, ночными клубами и варьете. Именно здесь «в самые развеселые часы», писала «Дейли Ньюс», «собирался весь свет Нью-Йорка, весь городской мир театра, кино и капитала». Алкоголь лился рекой, словно о сухом законе тут никто слыхом не слыхивал. Чтобы обвести вокруг пальца федеральных агентов во время периодических рейдов, спиртное хранили в соседнем здании, откуда бутылки по мере необходимости передавали в «Эль Фэй» через дыру, которую, если нагрянут, сразу затыкали кирпичом.
Клуб славился молоденькими полуголыми танцовщицами – в перерыве между номерами они сновали среди гостей-мужчин. «Это была вакханалия, древнеримская оргия и тусовка политиков в одном флаконе», – позднее вспоминал друг Гуинан, театральный продюсер и публицист Нильс Гранлунд. Один газетный иллюстратор потом изобразит, как принц с Гибсоном сидят за столиком и поднимают тост за стайку короткостриженых девушек в открытых платьицах, на одной из них – цилиндр, снятый, вероятно, с венценосной головы. Подпись: «Августейшие развлечения».
В «Эль Фэй» и прочих пунктах остановки, расскажет доктор Гибсон, к принцу его спутники обращались «мистер Виндзор», словно тот – «высокопоставленный член британского дипломатического корпуса». Той же уловкой пользовался и провожатый принца (на самом деле ни доктор, ни Гибсон).
Из «Эль Фэй» они переместились на Восточную 49-ю, в клуб «Довиль», который Гибсон отрекомендовал «шикарным местечком». «Атмосфера тайны», как писала пресса, притягивала туда «многих видных членов общества». Музыканты тамошнего оркестра «Гавайцы Кларка» перемещались от столика к столику, собирая заказы, а затем исполняли гавайские мелодии. В тот вечер дела в клубе шли вяло, там сидело всего несколько посетителей, какая-то пара танцевала фокстрот. Кто-то протянул принцу цветочную гирлянду, и он повесил ее на шею. Принц похвалил чистый тенор одного из певцов и заказал свою любимую гавайскую песню Aloha ‘Oe («Прощай-прости!»), которая в тот год не выходила из чартов. Гибсон уселся рядом с принцем, и они принялись болтать о том о сем: о бродвейских постановках, шлягерах, о том, что из-за сухого закона стало проблемой найти приличные напитки даже в славном своими кутежами Нью-Йорке. Гибсон угощался шампанским, подметив про себя, что принц пьет еле-еле.
Третьей остановкой стал клуб «Флорида» на Западной 55-й, где посреди зала стояло пианино, и прибывшая группа остановилась там насладиться концертом из популярных мелодий.
Эти двое спелись. Почти ровесники, оба не женаты, оба прошли войну: Гибсон – в медчасти американской армии, принц – в Гвардейском гренадерском полку, где он спускался во фронтовые окопы, дабы поднять боевой дух. Аристократический акцент Гибсона скрывал его пролетарские корни, уходившие в Вустер, Массачусетс. Он непринужденно сыпал громкими именами и, казалось, знаком со всеми богатыми и знаменитыми особами. Остроумие, шарм, безупречные манеры выдавали в нем образованного, воспитанного члена состоятельной и важной семьи. А закреплял этот образ смокинг – рабочая одежда его профессии. Для ночной операции в имении Косденов он «оделся с иголочки, – вспоминала его будущая жена Анна Блейк, – в вечерний костюм. Он всегда выглядел в нем очень представительным».
В полшестого утра, когда до рассвета оставалось уже меньше часа, Гибсон попрощался, поймал такси и отправился домой, в квартиру здесь же на Манхэттене. Принц с компаньонами набились в свою машину – чтобы вернуться в имение Бердонов, им предстояло проехать тридцать пять миль.
Вскоре весь город судачил об августейшей экскурсии по ночному Манхэттену. Один репортер приметил подозрительно шикарную машину рядом с заведением Тексас Гуинан. Он проверил номера и обнаружил, что авто принадлежит хозяину имения, где остановился принц. «Он явился инкогнито в джазовый клуб на Белом пути, – сообщалось в одной из заметок. – Инстинкт безошибочно вел его к удовольствиям ночной жизни Нью-Йорка с ее манящими мерцающими огнями и обаятельными персонажами».
Будущему королю удалось урвать пару мимолетных часов свободы, притворившись «мистером Виндзором». Ему и в голову не могло прийти, что его провожатый тоже не тот, за кого себя выдает.
Гибсона не было в списке гостей на приеме у Косденов. Прежде чем попасть в дом и познакомиться с принцем, он, миновав каменную сторожку у въезда в Сидарс, припарковал красный двухместный «кадиллак» в укромном закутке на краю усадьбы и засел – в своем смокинге – за кустами. Дождавшись удобного случая, Гибсон вылез из укрытия – «при полном параде, не хуже любого из присутствующих», как он позднее хвастался, – и влился в группу гостей, вышедших на кирпичную террасу поболтать за бокалом-другим. Затем взял коктейль с проплывающего мимо подноса и присоединился к разговорам.
Вскоре он скользнул в ночную темноту и не спеша пошел вдоль стены дома, пока не увидел подходящее местечко. По шпалере с розами он забрался на крышу крыльца и в окно второго этажа, оставленное открытым по случаю теплого вечера, – залез внутрь, подтянувшись на карнизе.
Помня об отпечатках пальцев, он натянул белые шелковые перчатки и, крадучись, принялся обследовать спальни. Осмотрел туалетные столики и, стараясь быть беззвучным, проверил содержимое ящиков бюро. Снизу доносились приглушенные голоса и музыка. Если кто-нибудь поднимется и застигнет его в коридоре, он знает, как поступить – сделает вид, что забрел сюда в поисках туалета, или прикинется пьяным.
Никаких достойных украшений не обнаружилось. Все, что он рассчитывал найти, либо спрятано где-то под замком, либо в настоящий момент красуется на хозяевах. Гибсон вернулся к открытому окну и хотел уже было вылезти, как вдруг увидел собравшуюся у крыльца небольшую компанию. Официант подлил в их бокалы вина, и расходиться они, по всей видимости, не торопились. Оставался единственный путь. Он прошел по коридору до главной лестницы и направился вниз, в самую гущу вечеринки. На лестнице ему встретилась идущая наверх юная дама, она улыбнулась ему, и теперь он был уверен, что ничем не выделяется среди других гостей.
В реальности Гибсона звали Артур Бэрри, это был похититель драгоценностей, один из самых блестящих и удачливых в истории. Изобретательный мошенник, артистичный аферист, искусный вор-форточник. Все бриллианты, жемчуга, рубины, изумруды и прочие камешки, которые он прикарманил, орудуя в бурные двадцатые в элитных особняках Лонг-Айленда и округа Уэстчестер, сегодня стоили бы около 60 миллионов. Среди его жертв были банкиры и промышленники, крупные заправилы с Уолл-стрит, один из Рокфеллеров и наследница торговой сети «Вулворт»[3]. Бэрри слыл виртуозным «работником второго этажа» – он мог тихо проникнуть в спальню виллы, где порой тут же безмятежно почивали хозяева, и, оставшись незамеченным, выбраться наружу. Он запросто заводил знакомства среди знаменитостей и миллионеров, зондируя тем временем их особняки и планируя свои операции – некоторые из них считаются самыми дерзкими и масштабными по выручке кражами драгоценностей в истории века джаза[4]. Бэрри умел обвести вокруг пальца следователей, ускользнуть из-под носа вооруженных полицейских нарядов и частных сыщиков, а однажды организовал эффектнейший побег из тюрьмы ради воссоединения с возлюбленной. В прессе его прозвали «принцем воров» и «криминальным аристократом», а журнал «Лайф» объявил его «величайшим из всех когда-либо живших похитителей драгоценных камней».
Бэрри пригладил волосы, поправил «бабочку» и направился к чаше для пунша – ему предстояла ночная эскапада с принцем. Теперь он знаком с планировкой второго этажа особняка. И он еще вернется.
I. «Роскошная жизнь»
Если на то пошло, я не крал у людей, живущих впроголодь.
Кэри Грант в роли Джона Роби, фильм «Поймать вора» (1954)
Я обкрадывал только богачей. Если у женщины на шее ожерелье за семьсот пятьдесят тысяч, она не думает, где раздобыть обед.
Артур Бэрри, 1932 год
Глава 1. Курьер
Мальчишка сидел в поезде, который, громыхая и позвякивая, мчался на юг, в Нью-Хейвен. Он ехал один – кепка надвинута на глаза, большой черный чемодан зажат между коленей. Тринадцатилетний Артур Бэрри был довольно крупным для своего возраста – плотное атлетическое сложение, рост – метр семьдесят восемь, и больше он уже не вырастет. Пассажиры, садившиеся с ним в вагон на вокзале промышленного города Вустер, Массачусетс, скорее всего, решили, что парень направляется в колледж. Никто даже представить не мог, что находится в чемодане, который он берег как зеницу ока.
Чемодан этот вместе с содержимым принадлежал Лоуэллу Джеку, отошедшему от дел взломщику сейфов – иначе говоря, «медвежатнику», – причем одному из лучших в своем ремесле. Он грабил банки и компании по всей Новой Англии – просверливал в дверцах сейфов отверстия, осторожно заливал туда нитроглицерин и взрывал замо́к. Он принадлежал к «опасному сословию»[5], как выразилась газета «Беркшир Игл», поставив его в один ряд с самыми отъявленными ворами, называя их по родным городам: Толстяк Портлендский, Джонни Потакетский, Стройняшка Филадельфийский, – и отмечая, что «все они уже побывали в тюрьмах». Однако самые «опасные» дни Джека остались в прошлом. Он был уже слишком стар, чтобы проникать в помещения и взрывать сейфы, а тем более смываться с добычей в зубах. Теперь он посвящал свое время поставке нитроглицерина новому поколению «медвежатников».
«Суп», как называли его взломщики, не отличался сложностью в изготовлении. На кухонной плите в ведре с водой Джек нагревал динамит, извлекая из него нитроглицерин в виде желтоватой маслянистой жидкости, которая течет по поверхности, как чернила. Это занятие было весьма рискованным. При слишком сильном нагреве нитроглицерин может взорваться. Кроме того, в жидком виде он чрезвычайно летуч. Если емкость с ним встряхнуть, ударить или уронить, взрыв будет смертельным. Джек аккуратно заливал жидкость в бутылку из толстого стекла и помещал ее в набитый хло́пком чемодан, рассудив, что такая прокладка способна амортизировать возможные встряхивания или удары.
Доставка продукта взломщикам по всей Новой Англии, а то и в более удаленные штаты была непростой задачей. Джеку требовался надежный курьер – такой, чтобы ни проводникам, ни вокзальным кассирам, ни сующим всюду свой нос копам и в голову не могло прийти, что у него в чемодане – мощная взрывчатка. Курьер вроде Артура Бэрри.
Они пару раз встречались. Артур подрабатывал в ресторане на доставке кофе с сэндвичами и иногда приносил заказы Джеку, чья квартира теперь по совместительству служила нитроглицериновым цехом.
– Сынок, – однажды обратился он к Артуру (шел 1910 год), – не хочешь заработать пять лишних долларов?
То есть почти пятьдесят в сегодняшних деньгах. Джек объяснил, что надо доставить посылку. Всего-то работы – сесть на поезд и отвезти ее в Нью-Хейвен. И вручил новому работнику чемодан.
– Только не урони, – предостерег он. – Вообще-то, лучше бы и не трясти. И постарайся не задеть им кого-нибудь.
Родной город Артура – Вустер, в пятидесяти милях к западу от Бостона – был одним из главных промышленных центров Новой Англии и вторым по величине в Массачусетсе. Местные жители провозгласили его «Сердцем Массачусетса», поскольку он располагался почти в географическом центре штата. Еще со времен Войны за независимость вустерцы всегда находились в самой гуще событий. В 50-е годы XVIII века в местной школе преподавал юный Джон Адамс, будущий президент, который по приезде в Вустер увидел город, «одержимый политикой» и готовый к скорой борьбе за разрыв с Британией. Именно тут, в Новой Англии, на ступенях одной из церквей впервые публично зачитали Декларацию независимости. В 1854 году, когда арестованного в Бостоне беглого раба хотели экстрадировать обратно на Юг, около тысячи человек из Вустера и окрестностей собрались на акцию протеста, и это событие послужило мощным толчком к развитию аболиционистского движения. Благодаря прорытому каналу от Вустера к океану и железной дороге до Бостона город к середине XIX века стал одним из лидеров промышленной революции в Новой Англии. На момент рождения Артура тут проживало около 100 тысяч человек, а уже через десяток лет эта цифра выросла почти в полтора раза.
Центр города лежал в извилистой долине, но новые районы стали распространяться по склонам окружающих ее холмов, подобно неотвратимому приливу, надвигающемуся на берег. Новые жители города представляли собой настоящий винегрет из национальностей: поляки, шотландцы, немцы и шведы; итальянцы вместе с прочими средиземноморскими эмигрантами; франко-канадцы, решившие перебраться южнее; изгнанники-ирландцы, к числу которых принадлежали Бэрри. Они ехали сюда работать на фабриках. Чего только не выпускали дышащие дымом вустерские литейные заводы, прядильные и кожевенные фабрики – от текстиля и обуви до оружия и вагонов! Огромный завод компании «Уошберн энд Моун» считался ведущим американским производителем проволоки, кабеля и изгородей. «Роял Вустер корсет компани» прославилась как один из крупнейших в стране работодателей для женщин. Большинство приезжих ирландцев не имели профессиональных навыков и – как пишет историк Тимоти Мехер в материале об ирландцах в Вустере – гнули хребет «на худших работах», предоставляя мускульную силу, необходимую местным заводам для безостановочного функционирования.
Томас Бэрри, отец Артура, появился на свет в Корке в конце 1850-х. Его родители умерли, когда ему не было и десяти, и он, еще совсем мальчишкой, эмигрировал в Америку. Томас жил в Вустере, где работал водопроводчиком, и осенью 1880 года, когда ему исполнилось двадцать три, женился на двадцатилетней служанке-ирландке Бриджет Уолш. Сохранилась сделанная примерно в то время их студийная фотография. Томас – квадратный подбородок и усы как у моржа – явно чувствует себя не в своей тарелке, сидя в праздничном костюме и глядя в камеру, словно перед ним – незваный гость. Куда более раскованная Бриджет, чьи темные волосы убраны назад и заколоты, открывая тонкие черты лица, в ниспадающем свободном платье с оборками на воротнике и с манжетами непринужденно стоит рядом, ободряюще положив руку на правое плечо мужа.
К 1890 году у семейства Бэрри было уже четверо детей. Они жили в восточной части города, в Вернон-Хилл на Уорд-стрит, 81, – «бедном, непримечательном районе», как позднее напишет о нем автор статьи в нью-йоркской «Дейли Ньюс», цитируя Артура. Томас на тот момент трудился на пивоваренном заводе «Боулер бразерс», известном марками «Матчлесс портер» и «Экстра Сенека лагер». Родившийся 10 декабря 1896 года Артур стал шестым из девяти выживших детей в семье (еще четверо умерли в младенчестве).
По воскресеньям Бэрри посещали храм Пресвятого Сердца, крупную церковь на Кембридж-стрит с впечатляющим арочным витражным окном на фасаде из красного кирпича с белокаменной отделкой. Когда Артур немного подрос, он стал прислуживать в алтаре – наливал вино в чаши для причастия, а затем надевал белый накрахмаленный стихарь поверх черного подрясника, чтобы помогать святому отцу служить мессу. В его задачи, вспоминал он, входило звенеть «благозвучным колокольчиком» перед началом каждого этапа причастия. Позднее он начал петь в хоре. Отец с матерью какое-то время надеялись, что он пойдет в священники. Юных вустерских католиков, которых привлекала подобная жизненная стезя, было столько, что у местной епархии попросту не хватало приходов на всех желающих. Но Артур в их число не входил. «Мне эта идея как-то не глянулась», – сформулировал он.
Его первым учебным заведением была школа № 4 на Миллбери-стрит в пяти минутах ходьбы от дома – кирпичная, с шиферной крышей громада, на чьем фоне юные воспитанники выглядели совсем крошечными. Она открылась всего за пару лет до того, как Артур стал ее учеником, и предназначалась специально для детей местных рабочих.
Где-то ближе к 1905 году Томас Бэрри перешел в другую компанию. «Вустер брюинг корпорейшн» была меньше предыдущей пивоварни, но зато его там вскоре повысили до мастера и он перевез семью в новостройку за углом. Здание на Перри-авеню было одной из многочисленных вустерских трехэтажек, крупных зданий с деревянным каркасом, характерных для промышленных городов Новой Англии тех лет, и клан Бэрри поселился там в одной из квартир, занимавшей все три этажа. В Вустере подобные дома строились на узких участках, но они довольно глубоко вдавались в обратную от улицы сторону, поэтому жилая площадь на каждом этаже была достаточно велика. Эти дома ряд за рядом выстраивались на склоне холма, формой напоминая коробки из-под обуви и, в сочетании с облезающей краской, отнюдь не радовали глаз. Заботясь об имидже города, вустерская торговая палата в итоге откажется от их дальнейшего строительства, заклеймив эти кварталы как «архитектурное уродство» и «пятно на любом ландшафте».
Однако в начале ХХ века Вернон-Хилл считался неплохим местом для семей с детьми, как вспоминал драматург, киносценарист и журналист Самюэль Берман, ровесник Артура, выросший в такой же трехэтажке в полумиле от дома Бэрри. Кроме твоей семьи, в доме живут еще две, вокруг – полно детей, и товарищи по играм находятся без труда. На задних дворах ты мог рвать растущие там яблоки, груши и вишни. На каждом ярусе, спереди и сзади, имелись балконы, жильцы называли их «пьяццами». «Замкнутые люди, склонные к созерцательности, сиживали на задних пьяццах, разглядывая деревья, – писал Берман. – А общительные, любящие городскую жизнь, предпочитали передние пьяццы, откуда хорошо наблюдалось за происходящим на улице». Артур, несомненно, выбирал передний балкон.
«Мы жили прекрасной, дружной семьей», – вспоминал Артур. В вопросах дисциплины родители были «строги, но справедливы». Зарплату отец получал «невысокую, но адекватную». Он попивал – «умеренный алкоголик», как выразился Артур. Конфликты порой случались, но «не выходили за рамки обычного». Из семейных правил крепче всего ему запомнился запрет на ложь. «Мы знали, что если соврать, нас накажут гораздо строже, чем если сказать правду, в чем бы она ни заключалась», – рассказывал Артур в одном из интервью. И заявил, что ни единого разу не соврал родителям.
Это, разумеется, была ложь.
Неизвестно, на каком по счету чемодане Артур понял, что возит взрывчатку – причем такую, которая может сдетонировать от любого чиха. И он, по его словам, «наслаждался этой интригой», при том что с самого начала чувствовал, что «дело незаконное». Джек стал посылать его в более удаленные места – в Бостон, в штат Нью-Йорк (Олбани, Сиракьюс и Рочестер) и даже еще дальше, в Кливленд. «Это была роскошная жизнь», – вспоминал Артур. В дни доставок родители считали, что он в школе. Если поездка предполагала ночевку в поезде, он врал, что останется спать у друга.
Артур порой попадался на мелких правонарушениях. В сентябре 1910 года – примерно в начале его курьерской работы у Джека, за три месяца до четырнадцатилетия, – его схватили двое патрульных за битье уличных фонарей: развлекался, – согласно их формулировке, – нанося ущерб освещению. Его обвинили в вандализме, оштрафовали на три доллара и ославили в «Вустер Дейли Телеграм». Через пару недель он выплатил еще три доллара за стрельбу из оружия. Что это было за оружие, где он его взял и куда именно стрелял – остается тайной. В апреле 1912 года его снова обвинили в стрельбе, и на этот раз, ввиду повторного правонарушения, штраф вырос до семи долларов. Вустерская полиция считала его «весьма трудным подростком».
Вспоминая, что привело его в столь юном возрасте на криминальную стезю, Артур будет объяснять свое «падение» – как он это называл – тем, что вырос раньше сверстников. Он был крупнее одноклассников и приятелей на улице и выглядел старше на несколько лет. И потому предпочитал компанию великовозрастных подростков и взрослых. В семь он уже попивал пиво и вино, а в пятнадцать начал курить. В шестнадцать увлекся – «сверх меры», по его собственному признанию – игрой в кости и картами. Работая на Лоуэлла Джека, он то и дело сталкивался с разными темными личностями. А в ирландских анклавах, по словам Тимоти Мехера, «преступность цвела пышным цветом», и Вернон-Хилл не был исключением. В 1890-е годы, дабы удовлетворить «настоятельный спрос… на усиленную полицейскую охрану», как сказано в книге по истории вустерской полиции, местным правоохранителям, в дополнение к имеющимся девяноста патрульным, пришлось привлечь тридцать новых полицейских. Примыкавший к Вернон-Хиллу Юнион-Хилл был синонимом, как писал историк Уильям Мейер, бедности, анархии, потасовок и молодежных банд, а газета «Вустер Спай» заклеймила тамошние закоулки, назвав их «углами, за которыми притаились грязь и порок».
В том же году Артур наблюдал за одной парой средних лет, владельцами скобяной лавки, составляя в уме их распорядок дня. Каждый вечер они запирали лавку, а выручку уносили домой. На следующее утро, после открытия банка, они клали деньги на счет. Днем, когда они уходили, Артур несколько раз забирался в дом через незапертое окно. В поисках тайника, где ночью хранились деньги, он бродил из комнаты в комнату, по ходу дела запоминая планировку. Выдвинув один из ящиков стола, он вдруг почуял еле слышный запах бумажных денег, поменявших много рук. Ночью он вернулся через то же окно, вынул из ящика пачку банкнот и выскользнул тем же путем. Его улов составил около сотни долларов, для подростка – огромная сумма. Сегодняшние три тысячи. Жаркое из индейки стоило в ресторане тридцать пять центов, а приличные часы обошлись бы долларов в пять, даже меньше. «Жаль, я уже не помню, – будет открыто удивляться он годы спустя, – как мне хватило наглости забраться в чужой дом и взять деньги».
Терпеливо проведенная подготовка себя окупила. К тому же после того как повозишь туда-сюда взрывчатку, которая может в любой момент разнести тебя на кусочки, подобное проникновение – даже при хозяевах – кажется пустяком. Артур не сомневался, что, проснись хозяева от какого-нибудь нечаянного шума, ему все равно удалось бы уйти. «Преимущество было на моей стороне, – объяснял он, вспоминая ту ночь. – Ведь я-то настороже, а они – спросонья. Я не хуже их знал в доме каждую дверь. Пока они собирались бы с мыслями, я бы уже пробежал полквартала».
Первая квартирная кража увенчалась успехом. Дело было столь тщательно и аккуратно спланировано, восторгалась «Дейли Ньюс» десятилетия спустя, «словно преступник готовил похищение драгоценностей британской короны».
Увидев, что им не под силу контролировать сына или держать его подальше от неприятностей, родители пошли на решительный шаг. Летом 1913 года они обратились в суд, и Артура признали «неподдающимся» в соответствии с законом Массачусетса, который разрешал суду принимать меры для помощи родителям, если те не в состоянии справиться со своевольным, распущенным подростком. Это был вежливый способ причислить Артура к малолетним преступникам. Его могли направить в исправительное заведение, но отпустить с испытательным сроком, обязав вести себя как полагается и оставаться на попечении отца с матерью.
Артур проигнорировал это мягкое решение. Через пару недель в полицию обратилась крайне взбудораженная Бриджет Бэрри: Артур заперся изнутри и не впускает ее в дом. Отправили патрульного арестовать его за нарушение условий испытательного срока. Артур затеял драку, попытался убежать, и его заковали в наручники. При досмотре в карманах обнаружили несколько пачек сигарет, украденных той ночью из табачной лавки. История с потасовкой и арестом попала на первую полосу «Вустер Ивнинг Газет». Ему вместе с двумя юными подельниками предъявили обвинение за взлом лавки и кражу. Дело передали в суд для несовершеннолетних, но местные газеты, похоже, так и не сообщили, чем все закончилось.
В июне 1914 года Артур не явился к вустерскому судье, который должен был рассматривать очередное дело о незаконном проникновении в помещение.
Трудный подросток нашел свое призвание.
Отправляя Артура в очередную доставку, Лоуэлл Джек отвел его в сторону. Подросток, который перестал слушаться родителей, запомнит тот совет на всю жизнь – совет жулика жулику.
– Всегда будь вежлив, мой мальчик, особенно с полицией, – сказал Джек своему протеже. – Веди себя как джентльмен и будь искренним. Это избавит тебя от массы неудобств, а то и от пары лишних ходок за решетку.
Артур станет вором-джентльменом. Но пройдут годы, прежде чем он проникнется советом Джека и научится вести себя с полицией. Научится держаться подальше от тюрьмы.
Глава 2. «Профессионал»
Артур пулей вылетел с сортировочной станции и понесся к перекрестку. Пустынные улицы окутал густой предрассветный туман, мешающий понять, удалось ли ему оторваться от полицейской погони. Дело было в Питтсфилде, массачусетском городке с тридцатью тысячами жителей, приютившемся среди гор Беркшир-Хилс неподалеку от границы со штатом Нью-Йорк. До Вустера оттуда – сотня миль.
Тем августовским утром 1914 года он возвращался домой из Кливленда после доставки очередной порции нитроглицерина от Лоуэлла Джека. Денег на билет не хватило, и он решил ехать между почтовыми вагонами. В Питтсфилде поезд железной дороги Бостон – Олбани остановился погрузить почту, Артур спрыгнул со сцепки, чтобы размять ноги. И тут он услышал крики.
К нему бежали полицейский и работник станции. Артур ринулся прочь, зигзагами лавируя между вагонами. Выскочив на прилегающую к станции улицу, он остановился на перекрестке, переводя дыхание. На противоположном углу из тумана материализовался еще один полицейский. Артур развернулся и вновь бросился наутек, а патрульный Джон Салливан вынул револьвер и дал предупреждающий выстрел в воздух.
Артур продолжал мчаться, сворачивая на боковые улицы, ныряя в темные переулки. Стараясь удержаться на ногах, он перемахнул через кучу угля Электрической компании Питтсфилда, свернул в очередной переулок и оказался лицом к лицу с полицейским по имени Джон О’Коннор, который примкнул к погоне, услышав выстрелы.
Подтянувшись на ограде, Артур, сопровождаемый двумя предупреждающими выстрелами, спрыгнул в чей-то задний двор, где его и настиг Салливан.
– Следующий выстрел получишь ты, – предостерег полицейский, направив револьвер Артуру в грудь.
Весь взмокший, задыхающийся Артур сдался.
Салливан с О’Коннором отконвоировали его в отделение – оно было совсем рядом, в дряхлеющем мрачном здании с решетками на окнах изнутри, форма окон делала здание похожим на темницу. Он несколько часов просидел на лавке в ожидании еще одного полицейского, занятого расследованием ночной кражи в магазинчике одежды возле станции. Артур подходил под описание человека, которого видели убегающим с места преступления. Значит, его под дулом пистолета арестовали не за то, что он ехал между почтовыми вагонами. Его подозревали в краже со взломом.
Менее чем за час до тех событий, примерно в четыре утра, патрульный Чарльз Бэрри, обходя свой участок, приметил чью-то фигуру на лестнице, приставленной к задней стене аптечного магазина Брауна. Мужчина пытался открыть окно на верхнем этаже. Патрульный осторожно направился к нему, но нечаянно наступил на доску. Услышав треск, мужчина спрыгнул с лестницы и нырнул на станцию.
Бэрри подозвал других патрульных и описал подозреваемого. Салливан и О’Коннор приступили к осмотру станции и прилегающих улиц. Сквозь туман Салливан разглядел двух мужчин, один из них нес чемодан. Услышав шаги приближающегося полицейского, они бросились в разные стороны. Салливан принялся искать их между вагонами и за ближайшими домами. Тут он увидел молодого человека, подходящего под описание взломщика, и ринулся к нему.
Вернувшись на Уэст-стрит, офицер Бэрри обнаружил, что кто-то, разбив окно, проник в магазин «Бостон баргин стор» в паре шагов от того места, где он заметил человека на лестнице. Пропали наручные часы, дорогой костюм и пара туфель общей стоимостью пятьсот сегодняшних долларов. Вор переоделся в украденное, бросив в магазине свой старый костюм с туфлями.
Бэрри вернулся в отделение. Несмотря на темень и туман, он с уверенностью признал в Артуре человека на лестнице. Тот согласился, что на станции был он, но о краже ему ничего не известно. К тому же одет он не в ворованные вещи, да и руки у него пустые. Но, судя по рассказу Салливана, взломщик действовал с сообщником, который по-прежнему оставался на свободе, удрав с чемоданом и добычей. Артуру предъявили обвинение во взломе, незаконном проникновении и похищении имущества.
В тот день, когда немецкие войска вторглись в Бельгию, дав старт активной фазе Первой мировой, а по Панамскому каналу прошел первый корабль, Артура привели на скамью подсудимых в одном из залов суда округа Беркшир, огромного беломраморного здания без архитектурных излишеств, где за стиль и солидность отвечали немногочисленные итальянские завитушки. Свою вину он отрицал. Репортер из местной газеты по внешнему виду семнадцатилетнего Артура дал ему двадцать пять. Когда подсудимого попросили назваться, он представился Фрэнком Дж. Уэлшем из Бостона. Судья окружного суда Чарльз Хиббард отложил слушание дела и дал полиции несколько дней на проверку, нет ли у Уэлша приводов в полицию или судимостей. Чтобы оставить Артура под стражей, он назначил неподъемный залог – пятьсот долларов, или более тринадцати тысяч в сегодняшних ценах.
Это была первая ночь Артура за решеткой – в спартанской камере два на три метра городской тюрьмы Питтсфилда, массивного кирпичного реликта Гражданской войны. В какую бы сторону ни вытянул он руки, пальцы касались стены. Суда ему пришлось ждать десять дней.
Связавшись с бостонскими властями, питтсфилдские полицейские узнали, что никакого Фрэнка Дж. Уолша не существует. И Артуру пришлось назвать свое подлинное имя и домашний адрес. Также он сознался, что вустерский суд счел его «неподдающимся».
Хотя его поймали на лжи, Артур продолжал настаивать на своей невиновности. Да и дело было слабым. Украденные часы нашли на одной из улиц, по которым он бежал от полицейских, но как доказать, что это он их выбросил? Его слово против показаний полицейского под присягой.
Бэрри был убежден, что на лестнице стоял именно Артур, и судья Хиббард счел его слова достаточным основанием для признания Артура виновным в попытке взлома и незаконного проникновения. Описывая Артура, просящего судью о снисхождении, один журналист – вероятно, тот же, который ошибся насчет его возраста, – отметил, что подсудимый «благовиден» и «опрятно одет», – и в этом образе уже проступает тот франт, который в свое время будет водить за нос миллионеров и особ королевских кровей. Судья, однако, ответил, что попытки Артура ввести следователей в заблуждение исключают возможность смягчения приговора. К тому же юноша, по всей видимости, утратил поддержку родных. Отца, мол, известили об аресте сына, но он так и не объявился. Артур принялся объяснять, что у отца плохо со здоровьем, что он «искалечен ревматизмом» и не в состоянии ехать в питтсфилдский суд.
Судья назначил максимальное наказание – пять лет в реформатории Массачусетса. Тот суровый приговор, как напишет питтсфлдская газета «Беркшир Игл» пару десятилетий спустя, «ознаменовал собой окончание его любительских занятий и дебют в качестве профессионала».
Артур на суде сказал правду. Магазин ограбили еще до того, как его поезд остановился в Питтсфилде. Один из самых выдающихся в истории воров прославится благодаря именно таким преступлениям, но вот конкретно этого преступления он не совершал.
В реформаторий Артура доставили в наручниках. Массивное здание в городке Конкорд, в двадцати милях к западу от Бостона, выглядело так, словно архитектор пытался скрестить армейские бараки с часовней. Восьмигранная, увенчанная башней центральная ротонда нависала над распростертыми крыльями здания с высокими окнами и камерами внутри. Оформление вновь прибывших проходило с эффективностью заводского конвейера. Сначала Артура взвесили, замерили рост, затем он подписал разрешение администрации вскрывать личную почту и выложил все деньги, которые вернут при освобождении. Волосы ему коротко остригли – «безжалостно обкорнали», как выразился один бывший арестант. Когда он переоделся в тюремную робу, его сфотографировали в профиль и анфас, замерили окружность головы, длину среднего пальца, левой ступни и прочих частей тела, включенных в систему бертильонажа[6], чтобы его могли идентифицировать, если он повторно нарушит закон. Весьма вероятно, что отпечатки пальцев тоже сняли, поскольку дактилоскопию уже успели провозгласить идентификационной системой будущего. Камера с кирпичными стенами и стальной решеткой-дверью с трудом вмещала кровать, умывальник, туалетное ведро и маленький столик со стулом.
«Конкорду» – как обычно называли реформаторий Массачусетса – на тот момент было почти сорок лет, его создали как альтернативу государственным тюрьмам – исправительное учреждение для несовершеннолетних, для осужденных за мелкие правонарушения и для отбывающих наказание впервые. «Всегда следует иметь в виду коррекцию непослушания параллельно с образованием, адаптированным под особые нужды и способности юношей, – писала о “Конкорде” одна бостонская газета тех времен. – Их поместили туда не столько ради наказания, сколько ради обучения». Они оказались там, как объяснил один судья по делам несовершеннолетних, который отправил в «Конкорд» свою порцию арестантов, поскольку «с ними не справились ни семья, ни школа, ни церковь». Реформаторий считался последним шансом уберечь непокорных подростков от преступной стези.
Артур привык к тамошнему режиму работы профессиональных курсов и учебы. По будням в полседьмого утра его будил раздражающий звук «постылого звонка», по выражению того же бывшего арестанта. В мастерских реформатория изготавливали обувь, одежду, мебель для больниц и других государственных заведений. Там можно было выучиться хоть на гравера или печатника, хоть на каменщика, плотника или водопроводчика. На огороде выращивали овощи к обеду.
В конце рабочего дня реформаторий превращался в подобие закрытой школы-интерната. Обитатели «Конкорда» посещали вечерние уроки – «аспирантуру», как в шутку называли их местные сотрудники, – чтобы подтянуть свое общее образование. «Поощрялось чтение книг из тюремной библиотеки, чья коллекция насчитывала шесть тысяч томов, в том числе духоподъемные произведения о людях, которым довелось бороться за жизнь и выйти победителями», – отмечал капеллан Роберт Уокер. Приглашенные специалисты читали лекции на самые разные темы – пчеловодство, угледобыча, прогулки по Норвегии, жизнь в далекой Сибири. Десятки заключенных примыкали к кружкам, которые собирались дважды в месяц для обсуждения столь серьезных материй, как этика, литература, трезвый образ жизни. Подопечные совместно с персоналом выпускали еженедельную газету на шестнадцати страницах, где публиковались стихи и проза заключенных, а также колонка «Новости внешнего мира». Спортивные и военные секции развивали физическую форму и воспитывали дисциплину.
Но под поверхностью проглядывала темная, суровая реальность. Некоторые узники «Конкорда» исправлению не поддавались, «гордились своими криминальными наклонностями» – по словам одного из местных законодателей – и «при любой возможности развращали других». Кроме Артура, там содержалось около семисот человек в возрасте от пятнадцати до тридцати шести. Большинство из них, как и он, сидели за кражу или незаконное проникновение, но некоторые получили сроки за разбой, грабеж, изнасилование или поджог, и никаких мер, чтобы организовать содержание юных и восприимчивых отдельно от искушенных и неисправимых, не принималось.
Один политик, приехавший ознакомиться с жизнью «Конкорда», пришел в ярость, обнаружив «мальчишку в коротких штанишках в компании закоренелых бандитов». И из-за этого ядра матерых преступников все усилия по реабилитации, которой добивались в мастерских и классных комнатах, зачастую шли насмарку. По мнению газеты «Фитчбург сентинел», реформаторий был не более чем «школой криминального образования». Рецидивисты, представавшие перед судом за новые преступления, нередко оказывались – как называла их пресса – «выпускниками Конкорда». Один подросток поведал судье, что заключенные посвящают «досуг планированию преступлений, которые предстоит совершить на воле». Если Артур уже тогда собирался совершенствоваться на поприще краж и проникновений в дома, то недостатка в учителях «Конкорд» не испытывал.
В марте 1915 года, отсидев семь месяцев, Артур получил право претендовать на условно-досрочное освобождение. Арестанта могли выпустить раньше срока, если он хорошо себя вел, следовал правилам, осваивал то или иное ремесло и повышал уровень образования. Артура вызвали на собеседование. Администрация изучила историю его работы и поведения, проверила в том числе, брал ли он книги в библиотеке и посещал ли воскресные богослужения. Комиссия обычно отказывала тем, у кого нет работы, жилья и близких, которые будут за ними приглядывать. «Если вышедший из тюрьмы сразу не найдет работу, – предостерегал в “Бостон Глоуб” член одной из таких комиссий, – он будет открыт искушениям преступного мира».
Родители навещали Артура в «Конкорде», он убедил их в своей непричастности к питтсфилдским кражам, и они подтвердили, что сын может жить у них. Один из братьев согласился взять его к себе в фирму по продаже спиртного на канцелярскую работу. Несмотря на периодические неприятности с полицией и тюремный срок, Артур как-то умудрился получить школьный аттестат. Освобождение было гарантировано.
Он оставался на воле полтора года. За это время он столкнулся с полицией лишь однажды – в 1915 году его оштрафовали на десять долларов за пребывание пьяным в общественном месте. На полосы местных газет он вернулся той же осенью после дорожного происшествия. Одного водителя поздно вечером ослепил свет фар едущего навстречу автомобиля, и он резко свернул – а там шли Артур с девушкой. Он засунул их в машину и помчался к врачу. Артур и его спутница отделались массой ушибов и синяков, обошлось без переломов.
Вновь его арестовали в сентябре 1916 года, вменив нарушение условий досрочного освобождения. Что именно случилось – пресса не сообщила. Артура отправили назад в «Конкорд», где ему предстояло досиживать свой пятилетний срок. Тогда он стоял на пороге двадцатилетия. Срок должен был закончиться в начале 1921 года – ему уже исполнилось бы двадцать четыре.
Но бушевавшая в Европе война, похоже, сулила ему билет на свободу. В 1916 году от всех обитателей «Конкорда» требовалось пройти военную подготовку – вероятно, на случай если Штаты вступят в войну. «Мы не пытаемся сделать из них солдат, – объяснял капеллан Уокер, – наша цель – показать пример физической, умственной, моральной мужественности». Капеллана впечатлил «дух патриотизма» среди заключенных. «Они услышали призыв к молодежи встать на защиту человечества, – отметил он, – и теперь с нетерпением ожидают возможности откликнуться на него, когда выйдут из тюрьмы – на фронте или на производстве, в зависимости от ситуации».
Когда в апреле 1917 года Америка объявила войну Германии, Артур оказался в числе тех «примеров мужественности», которым не терпелось внести свою лепту. В июне 17-го, через девять месяцев после возвращения в реформаторий, его снова условно-досрочно выпустили. Он пошел работать на один из заводов компании «Ремингтон армз – юнион металлик картридж компани» в Бриджпорте, Коннектикут, которая считалась одним из крупнейших в стране производителей винтовок, пистолетов, боеприпасов, штыков и снабжала своей продукцией армию США, а также Британию, Россию и других союзников. Его поставили в кузнечный цех, где ковочные молоты придавали раскаленным болванкам нужную форму. Один журналист, посетивший завод тем летом, отметил, что рабочие, похоже, вовсе не замечают «невыносимой жары» от печей и расплавленного металла.
Артур занимался здесь контролем качества. Бракованное оружие или боеприпас могут покалечить или даже убить того, кто ими пользуется, и поэтому на службе в компании состояло несколько сотен контролеров. Этот огромный комплекс общей производственной площадью свыше девяносто тысяч квадратных метров, где работало двадцать тысяч человек, в 1917 году ежедневно выпускал пять тысяч винтовок для русской армии плюс несколько миллионов патронов. Чтобы снизить риск забастовок, которые прерывают производственный процесс, и удержать работников, компания щедро оплачивала их труд и установила восьмичасовой рабочий день, а против саботажа применялись жесткие меры безопасности. Охранники стояли на своих постах, и Артур на входе и выходе должен был всякий раз предъявлять карточку с номером.
Явившись 5 июня в призывную комиссию, Артур в регистрационной форме написал, что помогает матери и отцу-инвалиду. Кроме того, он заявил, что родился в 1894 году – то есть ему не двадцать, а двадцать два. Если бы он назвал свои «истинные биографические данные, включая возраст», позднее объяснил он, то раскрылось бы его криминальное массачусетское прошлое. Дело в том, что если человек обвинялся в мелких правонарушениях, то его еще могли зачислить на военную службу, но если он сидел в тюрьме за кражу со взломом и прочие тяжкие преступления, то он мобилизации не подлежал. А Артур во что бы то ни стало хотел как можно скорее попасть на фронт.
Глава 3. Санитар
Впередсмотрящий что-то заметил. А вдруг перископ? Американский корабль «Принцесса Матоака» два дня назад прошел к северу от Азорских островов, и чем ближе он подходил к французскому побережью, тем выше был риск наткнуться на немецкую подводную лодку.
Включился сигнал тревоги. Экипаж ринулся к четырем батареям – пушки были вмонтированы в палубу бывшего пассажирского лайнера. Орудия загрохотали, извергая дым, и к неизвестному объекту полетела порция шестидюймовых снарядов. Взрывы взметнули в небо высокие водяные столбы.
В тот раз, 20 мая 1918 года, Артур Бэрри впервые попал в самую гущу боевых событий в качестве рядового армии США. Вместе с ним на борту «Принцессы Матоаки» теснились четыре тысячи солдат, державшие путь в окопы Западного фронта. Немецкие подлодки и подтолкнули Соединенные Штаты в Великую войну – торпеда с одной из них в 1915-м потопила британский пассажирский турбоход «Лузитания», отправив на дно в том числе сто двадцать пять американцев. Последней каплей стало заявление, сделанное Германией в начале 1917 года, об открытии сезона охоты на корабли США и прочих нейтральных государств. Бэрри, как и любой другой человек на борту, прекрасно понимал, что массивный транспорт для перевозки войск – весьма выгодная цель для притаившихся внизу субмарин. И члены экипажа, и солдаты получили приказ спать в одежде. Прежде чем отправиться в плавание, они прошли обучение по оставлению судна. В случае торпедного удара – прикидывал один из матросов, который позднее и рассказал о том происшествии, – им понадобится пять минут, чтобы очистить корабль, пересадив всех на плоты и спасательные шлюпки.
После пары залпов сотрясавшие палубу пушечные выстрелы прекратились. И лишь тогда обнажилось подлинное лицо противника. Им оказалось покачивающееся на волнах ведро.
Бэрри зачислили в армию меньше чем через месяц после регистрации. Он отправился в Нью-Йорк, где 12 июля 1917 года прошел оформление в призывном пункте на Таймс-сквер. Он не сообщил родителям, что собирается на войну, и в качестве ближайшего родственника указал старшую сестру Эвелин. Чтобы оценить уровень знаний новобранцев, для них организовали экзамены по самым разным предметам – от грамматики и правописания до арифметики и геометрии, даже по структуре правительства США – плюс целый ряд психологических и квалификационных тестов. По результатам проверки Бэрри распределили санитаром военно-медицинской службы и вместе с тремя десятками других новобранцев направили в базовый госпиталь для обучения. Артур тренировался перемещать раненых на носилках, готовить перевязочные материалы и бинтовать раны. Он сделал прививки длинным шеренгам солдат. Прослушал лекции и сдал анатомию и физиологию.
Его направили в 47-й пехотный полк. Учебной базой полка стал Кэмп-Грин, лагерь, занимавший четыре квадратные мили на окраине Ша́рлотта[7], Северная Каролина. Осенью 1917 года, когда туда свезли тысячи солдат из Новой Англии и западных штатов, тамошние дороги и дома еще стояли недостроенные. Самый большой контингент прибыл из родного штата Бэрри. Лагерь представлял собой целое море узких продолговатых бараков и конусообразных палаток на деревянных платформах.
Однажды рядовой Бэрри заглянул в фотоателье. На одной из фотографий он элегантно стоит навытяжку, слегка повернувшись, чтобы продемонстрировать белую нарукавную повязку с эмблемой Красного Креста. Воротник украшают медные диски с эмблемой военно-медицинской службы – две змеи, обвившие крылатый жезл. На другом фото он лицом к камере, в мятой полевой форме и обмотках, на голове, с которой он снял пилотку, – копна черных волос, расчесанных на прямой пробор. «Он обладал замечательными качествами, – вспоминал один новобранец из штата Нью-Йорк, который тоже проходил обучение в лагере и потом воевал в Европе, – со всеми был в прекрасных отношениях».
Армейские лагеря, в том числе Кэмп-Грин, обычно организовывались в южных штатах, где мягкий климат позволял круглый год обучать новобранцев под открытым небом. Но зима 1917–1918 годов на юге и юго-востоке выдалась невиданно холодной. Уже в начале октября в Северной Каролине ударил мороз, недобрый предвестник суровой зимы. В декабре термометры однажды показали рекордную для этих мест температуру – почти минус тридцать. В начале 1918-го «усиливавшиеся волны лютого холода, – говорилось в одной из статей по климатологии, – сжали регион ледяной хваткой».
Новобранцы, запертые в палаточном городке Кэмп-Грина, буквально терпели бедствие. На Северную Каролину обрушивались сменяющие друг друга бури. «Сапоги и колеса превращали красноглинистые дороги лагеря в море грязи – она замерзала, оттаивала и снова замерзала, делая жизнь и солдат, и офицеров окончательно невыносимой», – вспоминал младший лейтенант Джеймс Поллард в своей книге об истории 47-го полка. Практические тренировки на воздухе не проводились неделями, скуку скрашивали лишь часы караульной службы, рабочие наряды, классные занятия по штыковому бою и обращению с винтовками и пулеметами. Основную же часть времени Бэрри и его товарищи проводили, дрожа от холода в своих восьмиместных палатках. Растущие вокруг лагеря сосны беспощадно вырубали на дрова. Палатки порой загорались, их обитатели в панике выскакивали на ночной мороз. «У нас не было современной канализационной системы», – писал Поллард. Распространялись инфекции. Однажды им пришлось провести целый месяц на карантине по поводу вспышки спинального менингита.
Монотонность, холод, жесткость правил (забыл побриться – пятидневный наряд на кухне), все это мало-помалу подрывало боевой дух. На борьбу с этой проблемой встала Ассоциация христианской молодежи[8], чьи волонтеры развлекали солдат – выступали с водевилями, издавали лагерную газету, где освещался ход мобилизационной кампании и прочие темы, интересные «армейцам и оставшимся дома друзьям и родственникам». Когда солдатам стали давать увольнительные для набегов на Шарлотт, выяснилось, что одного из развлечений не хватает. «В городе полно солдат, – написал один из приезжих весной 1918 года в открытке домой, – но спиртное здесь не продают». В штате ввели сухой закон еще десять лет назад.
Полевые занятия возобновились в марте, всего за несколько недель до отправки 47-го полка в Европу в составе 4-й дивизии армии США. За этот короткий срок новобранцам предстояло подготовиться к предстоящим боям, получив навыки окопной войны и стрельбы из винтовки. В конце апреля, после шести месяцев грязи и лишений, Бэрри вместе с однополчанами погрузился в поезд до Нью-Йорка. Еще немного, и война станет для них реальной жизнью.
Парни в хаки тесно набились на палубы элегантной двухтрубной «Принцессы Матоаки», покидавшей утром 11 мая гавань Нью-Йорка. Хмурое и серое – в тон камуфляжной окраске лайнера – небо брызгало дождем. По иронии судьбы солдаты плыли воевать с Германией на немецком же судне, захваченном на Филиппинах, когда Штаты вступили в войну. Сейчас на нем находилось четыре тысячи человек, вдвое больше, чем довоенная пассажировместимость.
Корабль с 47-м полком на борту влился в конвой, состоявший из тринадцати транспортов и американского крейсера «Фредерик». После пережитой угрозы торпедной атаки и битвы с ведром нервы у всех были на пределе. Пресную воду выдавали строго ограниченными порциями, а перегруженный работой камбуз мог обеспечивать только два приема пищи в день. Из-за шторма, настигшего «Принцессу Матоаку» в середине пути, многие страдали от морской болезни, и им было не до обеденного расписания. «В жизни не видел столько воды!» – то и дело восклицал один из членов экипажа, салага с пшеничных полей Канзаса.
Рядом с французским побережьем, на финальном, самом опасном участке пути конвой сопровождала группа из девяти противолодочных кораблей союзников. 11 мая пересекшая за десять дней Атлантику «Принцесса Матоака» вместе с остальными кораблями причалила в Бресте, портовом городе на западной оконечности Бретани.
Там их ожидали железнодорожные составы, которые помчат полк через север Франции. «Солдатам не терпелось поскорее попасть на фронт и покончить со всем этим», – обнадеживал матрос с «Принцессы Матоаки» своих родных в письме домой. Энтузиазм новичков поумерился, стоило им увидеть, как из вагонов Красного Креста выгружают для отправки домой бойцов с чудовищными ранениями – безруких, безногих, ослепших. Они ощутили, какая варварская бойня уготована им впереди.
«Никогда прежде, – писала пенсильванская “Делавэр Каунти Дейли Таймс” незадолго до вступления Штатов в войну, – смертоносные орудия не были столь многочисленными, столь изощренными, столь чудовищными». Бризантные снаряды. Скорострельные пулеметы. Отравляющий газ. Огнеметы. Бомбардировщики и цеппелины с бомбами. Первые тяжелые танки. Шрапнельные снаряды, чья начинка поражала гораздо больше солдат, чем пули, и наносила страшнейшие раны: зазубренный металл, как отметил один военный хирург, «разрывает, вспарывает, раздирает живую ткань». Лесли Басуэлл, американец, добровольно подрядившийся еще в начале войны водить санитарные автомобили Красного Креста, выпустил в 1916 году книгу, где разоблачал «тщетность, полнейшую, дьявольскую безнравственность, бессмысленную кровожадность» войны. Басуэлл описал все без утайки. «В грязи нейтральной полосы, – рассказывал он, – воронки от снарядов усыпаны сотнями искореженных трупов… повсюду кое-как валяются руки, ноги, головы… некоторые тела уже полусгнили, некоторые солдаты лишились жизни совсем недавно, некоторые все еще полуживы, они беспомощно лежат между своими и вражескими расположениями». Жуткая, опасная работа Бэрри состояла в том, чтобы пробираться в этот ад на земле, не обращая внимания на свист пуль и взрывы снарядов, в поисках еще живых.
Санитары принимали участие в любой наступательной операции, они на месте оказывали раненым первую помощь. Повязка Красного Креста – единственное, что выделяло их на поле боя, а в остальном они внешне ничем не отличались от остальных солдат – та же форма, та же каска. При себе у них имелся йод для обработки ран и бинты для остановки кровотечений. Эта первичная обработка была жизненно важна – снижала риск заражения и увеличивала шансы на то, что даже тяжелораненого бойца успеют доставить на санитарном автомобиле в полевой госпиталь на безопасном от линии фронта расстоянии, где его прооперируют и будут лечить. Раненых собирали специальные солдаты с носилками, а если таковых поблизости не оказывалось, то санитары сами пробирались по грязи, неся на себе или волоча пострадавших в безопасное место.
Прежде чем отправить раненого в полевой госпиталь, его состояние оценивали и стабилизировали в батальонном лазарете в разрушенных зданиях или окопных землянках. «Мрачный грот, освещенный двумя фонарями», – так описал один из таких медпунктов корреспондент «Вашингтон Пост» после командировки на американские позиции. Тамошний медик махнул рукой в сторону грубо сколоченной лавки и двух ящиков, выполнявших роль стульев. «Наш операционный стол», – объяснил он журналисту. В лазарете прививали от столбняка. Накладывали шины на раздробленную конечность. Сортировали раненых, отсеивая тех, кого спасти уже нельзя. Немцам тоже оказывали помощь, но только в том случае, если она не требовалось солдату из войск союзников. «Сначала наши, – обронил носильщик. – Фриц погодит».
Мужество санитаров поразило журналиста из «Бостон Глоуб», делавшего репортажи о войне. «Ринуться вместе со всеми в атаку – это одно, – писал он из Франции. – Но другое дело – спокойно идти под град пуль, чтобы вынести оттуда раненого товарища или прямо на месте сделать ему перевязку». Поскольку от мастерства и проворства санитаров зависели жизнь и смерть, они пользовались огромным уважением. Это «самые популярные люди во взводе или батальоне», – отмечалось в одном из докладов армии США. Их беззлобно, по-дружески прозвали «окопными крысами».
Уровень потерь в медицинских подразделениях ужасал. Санитары и носильщики служили легкой мишенью для вражеских артиллеристов, пулеметчиков и пилотов. Одной из бригад, занятой созданием медпункта рядом с передовой, пришлось несколько часов пролежать лицом в землю, пока вокруг них рвались шрапнельные и газовые снаряды. На другом поле боя снарядом убило двух носильщиков вместе с солдатом, которого они несли. Рядовой Чарльз Холт из Бруклина в ужасе наблюдал, как немецкие бипланы с бреющего полета обстреливают раненых и медиков, пытающихся их спасти. Дать отпор санитары не могли. Им выдавали только оружие для ближнего боя – 38-калиберные автоматические «кольты» и охотничьи ножи. Стрелявшие в медиков могли порой попросту принимать их за бойцов, но в американской прессе это все равно подавалось как доказательство варварства немцев. «Для большинства гуннов, – презрительно высказался один солдат из Коннектикута, – Красный Крест ничего не значит».
Первое испытание ожидало Бэрри и его товарищей в конце июля. Американцы во главе наступательной операции зашли вглубь занятой немцами французской территории к северу от реки Марны. У деревни Сержи 47-й полк вступил в схватку с 4-м Прусским гвардейским полком, одним из отборнейших подразделений немецкой армии. Под мощным артиллерийским и пулеметным огнем противника американцы пересекли вброд реку и утром 29 июля ворвались в деревню. Контратаковавших гвардейцев удалось оттеснить, но они снова пошли в атаку. Сержи переходила из рук в руки ни много ни мало девять раз. Руины улиц были усеяны телами погибших и раненых.
Сообщалось, что немцы штыками добивали американских солдат, оставшихся лежать на земле в ходе одного из отступлений. Их пулеметчики и снайперы вели огонь по носильщикам, а один из самолетов сбросил бомбу на большую группу раненых. Разъяренные янки вели себя не менее жестоко – во время контратак пленных практически не брали. «Это был сущий ад», – рассказывал командир одного из медицинских подразделений 47-го полка. Из четырнадцати его подчиненных шестерых ранило, а двое погибли. «Медики, и офицеры, и рядовые, – вспоминал Джеймс Поллард, – проявили отвагу, граничащую с безумием, они создавали и обеспечивали работу медпунктов в самой горячей зоне вражеского огня».
Бэрри находился в гуще сражения. Однажды он на четвереньках дополз до бойца, раненного в грудь и в ногу, взвалил его на спину и бегом помчался к американским позициям. Ногу пришлось ампутировать, но боец выжил. Бэрри, которого один из его командиров назвал «солдатом, всегда добровольно выполняющим самые рискованные задачи», с дюжину раз выбирался из окопа, чтобы оказать пострадавшим первую помощь или перетащить их тем или иным способом в безопасное место. Во время очередной вылазки крупный осколок от разорвавшегося рядом снаряда врезался ему в голень. Поскольку кость осталась цела, рана считалась легкой, но ему все равно потребовалось лечение в лазарете, удаленном от огневых позиций. Впечатлившись его «невиданным героизмом в бою», командование представило Бэрри к кресту «За боевые заслуги», второй по значимости армейской награде за отвагу. «Бэрри неоднократно пробирался в зоны, обстреливаемые артиллерией и пулеметами, ради оказания первой помощи раненым, – говорилось в официальном документе, – пренебрегая собственной безопасностью».
Его подлатали, и уже через несколько дней он вернулся в полк, который продолжал давить на отступавших немцев и оттеснил их уже на десять миль от Сержи, к деревне Сен-Тибо. 8 августа 47-й вновь столкнулся лицом к лицу с 4-м Прусским гвардейским полком, но тут на американские позиции обрушился ливень снарядов, начиненных горчичным газом. Бэрри временно лишился зрения, получил серьезные ожоги кожи, а от вдыхания едкого газа – и носоглотки. Его эвакуировали в Немур, городок к югу от Парижа, где ему в нос и рот вставили резиновые трубки. В течение недели, позднее вспоминал он, ему приходилось терпеть ежечасный, весьма болезненный ритуал: сестры промывали волдыри ожогов и накладывали свежие повязки, чтобы предотвратить заражение. В американских газетах его имя появилось в газетных списках боевых потерь под тревожным заголовком: «РАНЕНЫЕ. СТЕПЕНЬ ПОРАЖЕНИЯ НЕИЗВЕСТНА».
Выздоровевшему Бэрри не сиделось на месте. В один прекрасный день он вместе с другим пациентом, сержантом его полка, запрыгнул в поезд до Парижа, а по прибытии они с головой окунулись в ночную жизнь города. Наслаждались пикантными шоу в Фоли-Бержер, прогуливались по Елисейским Полям. Попивали коньяк в кафе на Монпарнасе. Эрнест Хемингуэй, который вскоре начнет писательскую карьеру и будет сидеть в тех же кафе, служил водителем санитарного автомобиля на итальянском фронте, где его однажды – всего за пару недель до ранения Бэрри – изрешетило пулями и снарядными осколками. Это стало поворотным моментом в его жизни. «Если вы идете на войну мальчиком, – как-то написал Хемингуэй, – вы имеете большую иллюзию бессмертия. Других людей убивают, а вас – нет… Потом, когда вы в первый раз получаете тяжелые ранения, вы теряете эту иллюзию и знаете, что это может случиться и с вами». Размах веселья, которому Бэрри предался в Париже, наводит на мысль о том, что он тоже твердо решил выжать из своего второго шанса все, что можно.
Через две недели у друзей кончились деньги, и они на попутках вернулись в госпиталь, где их обвинили в самовольном оставлении места службы. Пока не успели созвать трибунал, Бэрри, никого не спросясь, покинул госпиталь во второй раз и отправился на фронт, к себе в полк. Обе эти отлучки сошли ему с рук, а когда он вернулся в полк, никого из командиров это не удивило. Однако парижские развлечения стоили ему креста «За боевые заслуги». Поскольку в день награждения он находился в самоволке, его имя вычеркнули из списка кандидатов на награду. «Ума не приложу, почему же я так его и не получил», – ответил он невозмутимым тоном, когда его спросили о кресте спустя годы.
Той осенью 47-й полк принял участие в Мез-Аргоннском наступлении, массированной операции союзников, призванной положить конец войне. Несмотря на то, что немцы отступали, американцы несли чудовищные потери – погибло более 26 тысяч человек. Полку Бэрри посчастливилось оставаться большей частью в резерве, лишь иногда его подразделения во время затиший перебрасывали на фронт в рамках ротации. Полк стоял лагерем неподалеку от разрушенной деревни Монсек и уже готовился было на следующий день полностью переместиться на фронт, но тут прошел слух о прекращении огня. «Поначалу люди отнеслись к новости с недоверием, – вспоминал историк полка Джеймс Поллард, – но когда 11 ноября появилось официальное сообщение, «они принялись издавать ликующие вопли, как умеют только американцы». Дальний грохот артиллерийских дуэлей стих, уступив место песням и смеху людей, собравшихся вокруг полыхающих костров и благодарных судьбе за то, что остались живы.
Потери полка в ходе войны превысили 2 600 человек, включая 473 убитых на поле боя и умерших от ран или болезней. Из служивших вместе с Бэрри санитаров пятеро погибли, а сам он был в числе двадцати с лишним раненых. 4-я дивизия, в составе которой воевал 47-й полк, поначалу состояла лишь из зеленых новобранцев, писал американский военный корреспондент, но в сражениях они не уступали лучшим.
Для Бэрри война закончилась. Но, как вскоре выяснится, время снимать форму еще не пришло.
Глава 4. Долгая вахта
Путь Артура Бэрри в Германию начался 20 ноября 1918 года, неделю с лишним спустя после заключения перемирия. 4-я дивизия шла через покрытые шрамами поля бывших сражений, ночуя в зданиях, которые еще несколько дней назад занимал противник. Изрезанные колеями дороги, усыпанные касками и гранатами на деревянных ручках – солдаты-союзники называли их «толкушками», – все это оставили немцы, спешно покидавшие французскую территорию, которую они удерживали с 1914 года. 3 декабря 47-й пехотный полк добрался до реки Мозель и вошел в Германию. Продвигались солдаты медленно – из-за холмистого рельефа нагорья Айфель, тяжелых рюкзаков и сырого, пронизывающего до костей холода. Пункта назначения, городка Аденау в сорока милях к западу от Кобленца, они достигли 15 декабря, прошагав двести двадцать пять миль – расстояние, как от Нью-Йорка до Вашингтона.
47-й полк стал одним из первых подразделений американской армии, которым приказали оккупировать Рейнланд. Пока в Париже обговаривались условия мирного договора, армии союзников организовали плацдарм внутри западной границы Германии и взяли под контроль три моста через Рейн – в том числе в Кобленце. Четверть миллиона американских солдат встали между британской оккупационной зоной на севере и французскими войсками на юге. Бэрри расквартировали в Дюмпельфельде, деревне на несколько сотен жителей. Война не коснулась Рейнланда, и он оставался сказочной землей с открыточными сельскими ландшафтами, виноградниками, что уступами росли по склонам гор, белобашенными замками на вершинах. «Весьма живописно для усталых глаз», – писал домой один из бойцов 4-й дивизии.
Но Бэрри и другим солдатам, привыкшим к боевому адреналину, их теперешняя задача, которую в прессе называли «Вахтой на Рейне»[9], казалась смертной тоской. Они обеспечивали порядок в городках и деревнях, следили за дисциплиной среди своих военнослужащих. Охраняли общественные здания. Проверяли документы на пропускных пунктах. Бэрри на лету схватывал немецкий и французский и вскоре свободно изъяснялся на обоих языках.
Чтобы чем-то занять личный состав и поддерживать его в боевой готовности на случай, если перемирие будет нарушено, командование установило режим учебных упражнений, стрельбы по мишеням и спортивных мероприятий. Для поднятия боевого духа солдатам давали отпуска, и те разъезжались развлечься – кто в Лондон, кто в Париж или на юг Франции. Один стосковавшийся по острым ощущениям американский летчик однажды пролетел под низко висящими над водой арками моста через Рейн – просто чтобы проверить, под силу ли ему этот трюк.
Для 4-й дивизии скука усугублялась оторванностью. Большинство американских подразделений дислоцировались в Кобленце и других крупных прирейнских центрах, в то время как 4-я была разбросана по площади около восьмисот квадратных миль в малонаселенной глубинке. Ее прозвали «4-я забытая», или «Невезучая 4-я». «Война – это ад, но мир, по-моему, еще хуже, – жаловался один из солдат дивизии, служивший в военной полиции. – Лучше бы мы несли вахту у американской речки где-нибудь на Миссисипи».
Солдатам строго запретили вступать в какие-либо отношения с местными жителями, кроме деловых, но соблюдать эти правила в полной мере было невозможно, поскольку многих разместили в домах немецких семей. Подобные ограничения превращали повседневную жизнь в бюрократический кошмар. «Купить кружку пива – можно, – с облегчением обнаружил один американский журналист, – а вот дать на чай официантке – уже “отношения”». «Если ты в форме армии США, тебе нельзя даже заговорить с немцем или немкой, не говоря уже об иных контактах», – вспоминал публицист Джордж Селдис, писавший в то время репортажи из Рейнланда. Истинная цель состояла в том, чтобы сдерживать солдат, которые были отнюдь не прочь – по деликатному выражению Селдиса – «прогуляться с белокурой фрейлейн». Но даже эти запреты не могли отвадить их от юных немок, предлагавших себя за шоколадку или кусок мыла.
Но пиво и секс не то, чего больше всего хотелось Бэрри и его товарищам по «Вахте». Главной их мечтой было вернуться домой. В начале 1919-го американских солдат, по триста тысяч в месяц, стали погружать на транспортные корабли для отправки на родину, включая подразделения призывников, ни разу не побывавших в бою, – их привезли во Францию гораздо позже, чем полк Бэрри. «Мужчины в боевой форме, не сделавшие ни единого выстрела», – презрительно фыркал Селдис, вторя гневу людей, вынужденных, изнывая от безделья, торчать в Германии. Но союзному командованию было необходимо поддерживать военное присутствие на Рейне как средство давления на Германию, чтобы заставить ее подписать договор и официально завершить войну. «По мере демобилизации вооруженных сил, – отмечала историк Маргарет Макмиллан, – их власть уменьшалась».
Боевой дух американцев рухнул ниже плинтуса. Журналиста Эдвина Джеймса неприятно поразило «растущее недовольство» в рядах оккупационной армии. «Теперь, когда Германия разгромлена, – сообщал он из Кобленца, – подавляющее большинство из них в армии оставаться не желает». Генералу Джону Першингу, командующему экспедиционными войсками США, довелось лично услышать ропот американцев в Германии. Генерал инспектировал подразделения в середине марта, и в каждом пункте остановки, прежде чем он успевал открыть рот для духоподъемной речи перед марширующими мимо его трибуны солдатами, оттуда неизменно доносились выкрики: «Когда нас уже отправят домой?!» Но Першинг не стал вселять в них ложные надежды. «Некоторым, – предупредил он, – возможно, придется служить в Германии и на будущий год».
Невезучая «Забытая 4-я» стояла, естественно, последней в списке инспектируемых подразделений. Солдатам из самых удаленных ее частей пришлось шагать три дня, чтобы преодолеть сорок миль, отделяющих их от парадной площадки неподалеку от городка Кохем на берегу Мозеля. В ближайшем леске они поставили палатки, которые всю ночь засыпало снегом и продувала буря. В темноте ярко горели огромные костры, разведенные для защиты от холода. Утром 18 марта свыше десяти тысяч человек в полном боевом снаряжении собрались на поле среди заснеженных гор. Бойцы 47-го пехотного заняли свои места одними из первых и простояли там пять часов под беспощадным натиском пронизывающего ветра. К тому моменту, когда Першинг в два часа дня наконец приехал, было уже немного теплее от выглянувшего из-за туч солнца.
Полк промаршировал строем мимо генерала, и тот, высоко оценив «превосходную выправку», поблагодарил бойцов за службу родине. Он выразил уверенность в их «способности и готовности выполнять поставленные задачи… ради установления мира». Повторяя, скорее всего, слова, сказанные на всех предыдущих смотрах, генерал наказал им «сохранить свою безукоризненную солдатскую репутацию и в гражданской жизни». На сей раз он не услышал ни выкриков, ни вопросов, когда их отправят домой. Вместо этого мужчины, простоявшие, дрожа на морозе, несколько часов, сняли каски перед своим командиром в знак уважения. «Они продемонстрировали воплощенное мужество», – поведал читателям Селдис.
Но вот поступил долгожданный приказ, и в конце мая 1919-го 4-й дивизии предстояло выйти в море. «Всех охватило лихорадочное возбуждение, – писал историк 47-го полка Джеймс Поллард, – в предвкушении дня, которого они столько времени дожидались». Занятия прекратились, но не успели солдаты сдать оружие, как их надежды рухнули. В то время возникли опасения, что германское правительство отвергнет мирный договор, который – кроме прочих унизительных условий – требовал выплаты репараций победителям. Союзникам потребовались инструменты для давления.
4-ю вновь вооружили в рамках очередного усиления военного присутствия. Планировалось полномасштабное вторжение в Германию с последующим броском до Берлина. Французский премьер Жорж Клемансо пообещал нанести «решительный и неумолимый военный удар», чтобы «форсировать подписание договора». Угроза сработала, и 28 июня в Версальском дворце германская делегация подписала пакт. 4-ю дивизию наконец отпустили домой.
Вечером 28 июля солдаты 47-го полка набились на палубы корабля «Мобайл», им не терпелось, войдя в Нью-Йоркскую гавань, увидеть небо над Манхэттеном. Но тут на корабле подняли желтый флаг, предупреждающий об инфекции. Один из членов экипажа заразился оспой. Все находящиеся на борту должны были привиться и провести несколько дней на карантине – требовалось убедиться, что других зараженных нет. Эта отсрочка стала последним ударом для людей, предвкушавших, как они оставят армию и вернутся на родину.
Сообщая о том, как полк сошел на берег в Хобокене, Нью-Джерси, «Нью-Йорк Трибьюн» описала его как «самую унылую с виду группу военнослужащих» из тех, что вернулись из Европы после перемирия. На маршах по Пятой авеню первые возвращавшиеся партии солдат приветствовали радостные толпы и летящий по воздуху серпантин. Но Бэрри с товарищами прибыли «под конец исхода из Франции, отмечала далее «Трибьюн», когда солдаты уже перестали привлекать столь широкое общественное внимание. «Все свое ликование по поводу мира, – добавил Джордж Селдис, – американцы потратили на первых прибывших».
Благодаря «честной и верной службе» рядовой Артур Бэрри 1 августа уволился из армии с хорошей аттестацией. На поле боя он проявил себя героем, рискуя жизнью ради спасения товарищей. Он получил ранения. Его личное дело было безупречным – по крайней мере официально. Но до войны он имел проблемы с законом и отсидел срок за решеткой. Он, может, и хотел бы последовать напутствию генерала Першинга «сохранить безукоризненную солдатскую репутацию в гражданской жизни», но, когда Америка на полном ходу ворвалась в «бурные двадцатые», он решил продолжить путь по своей кривой дорожке.
II. Вор с лестницей
Глава 5. «Работник второго этажа»
Первой волне вернувшихся из Франции солдат досталась бо́льшая часть не только славы, но и свободных рабочих мест. Осенью 1919-го Артур Бэрри приехал в родной Вустер, но работу найти там не смог. У него не было специальности, зато имелось криминальное прошлое. Новые сотрудники почти никому не требовались ни в промышленности, ни в торговле: после перемирия правительство перестало размещать военные заказы, и десятки тысяч людей лишились работы. К тому же никто в городе не хотел брать ирландских католиков, предпочитая, как выразился один из местных бизнесменов, «хозяйственных, трудолюбивых, квалифицированных, законопослушных» шведов. И Артур отправился попытать счастья в Нью-Йорк, отмахнувшись от возражений и опасений матери. «Сколько раз я умоляла его остаться дома! – вспоминала Бриджет Бэрри. – Думала, служба во Франции утолила его жажду приключений, но какое там».
Времена стояли непростые. Дефицит и спекуляция военных лет привели к росту цен на продукты, одежду и прочие товары первой необходимости. «Жуткая дороговизна жизни, – жаловалась “Нью-Йорк Геральд”, – непосильным, придавливающим бременем легла на американский народ». В сравнении с 1914 годом цены на молоко, сливочное масло и яйца выросли почти вдвое. Арендодатели взвинтили квартплату. В августе 1919 года, когда Артур ушел из армии, не меньше пяти тысяч демобилизованных солдат искали работу в Нью-Йорке, и это число еженедельно увеличивалось на две тысячи. Отчаяние, которое они испытывали, хорошо показано в карикатуре журнала «Лайф», где изображен дядя Сэм, приветствующий возвратившегося с войны солдата. «Для тебя, мой мальчик, мне ничего не жалко. Чего ты хочешь?» «Работу», – отвечает солдат.
Бэрри снял квартиру на Западной 119-й улице, 361, в одной из тамошних уныло-серых пятиэтажек неподалеку от Колумбийского университета и в полуквартале от парка Морнингсайд. В поисках работы он исходил Манхэттен вдоль и поперек. Обращался в разные фирмы в Бруклине и Бронксе и даже несколько раз ездил в Нью-Джерси. Работодатели хотели взглянуть на рекомендации, но на гражданке он легально работал лишь однажды – в фирме своего брата, да и то весьма недолго. Военный санитар в мирное время никому не требовался.
«Нью-Йорк – жесткий, циничный, беспощадный город, – предупреждал новоприбывших главный редактор журнала “Нэйшн” Эрнест Грюнинг. – “Каждый за себя и к черту неудачников” – вот и вся его философия». «Нехороший город, если только не оседлать его»[10], – вторил Грюнингу Фрэнсис Скотт Фицджеральд в 1920 году в своем первом романе «По эту сторону рая». Чтобы выжить в Нью-Йорке, Бэрри – которому в декабре стукнуло двадцать три – придется стать столь же жестким, циничным и беспощадным. Он его непременно оседлает. И ради этого готов пойти воровать.
Бэрри взвесил все варианты – будто на ярмарке уголовных вакансий. «Медвежатник»? Благодаря своему ментору Лоуэллу Джеку он, конечно, умел обращаться со взрывчаткой, но вскрывать с ее помощью сейфы ему не доводилось. Налетчик на банки? Понадобятся сообщники, а он предпочитал работать в одиночку. Гоп-стопник? Приставать к людям на улице, нападать на них, угрожать ни в чем не повинным прохожим пистолетом – у него не было вкуса к подобным занятиям, они ему представлялись делом «малоприбыльным и в некотором роде постыдным». Домушник? А вот это, пожалуй, то, что надо! В свое время, еще подростком, он тщательно спланировал первую кражу. Он знал, как пробраться в дом и затем выбраться, не просто не вступив в борьбу с его обитателями, а даже не встретив их по пути. И красть надо что-то по-настоящему дорогое, ради чего можно рискнуть свободой. Драгоценности.
«Мне претила мысль о насилии», – позднее объяснял он. А похититель драгоценностей «может быть джентльменом, для него главное – хитрость и воображение». Даже само понятие «работник второго этажа», как стали в 1912 году – после выхода одноименной пьесы Эптона Синклера – называть ночных воров, «влезающих в окно второго этажа через козырек крыльца или запасной выход», звучало элегантно. Бэрри считал этот вид преступлений «аккуратным и почти спортивным». При должной осторожности и детальной подготовке можно забрать все кольца, ожерелья, булавки и браслеты задолго до того, как хозяева поймут, что их обокрали, а когда поймут – его уже давно и след простыл. «Если на свете вообще бывает преступление без жертв, – рассуждал Бэрри, – то это почти оно». «Когда у вас есть драгоценности, – полагал он, – значит, вы достаточно богаты, чтобы не думать о том, где раздобыть еду». К тому же все эти сокровища наверняка застрахованы.
Идеальный способ для «любого человека с мозгами» – как он сформулирует позднее – «сорвать куш».
В один прекрасный январский день 1920 года Бэрри дошел до гарлемской станции «125-я улица» и сел в идущий на север поезд. Он направлялся в Йонкерс, процветающий город на Гудзоне в округе Уэстчестер, милях в десяти от Манхэттена, с населением около 100 тысяч человек. Все утро он бродил по фешенебельным окраинам, беря на заметку крупные дома с просторными участками.
«Я выбрал дом, по которому сразу видно, что там живут небедные люди», – вспоминал он. Дом стоял на некотором отдалении от улицы, а через переднее крыльцо несложно было забраться на второй этаж.
Бэрри вернулся на Манхэттен, купил пару шелковых перчаток и фонарик. Возвращаясь в Йонкерс вечерним поездом, он прокручивал в голове предстоящую задачу. Когда он подкрался к дому, уже совсем стемнело, и в окно он увидел с полдюжины человек за обеденным столом. По столбику крыльца он вскарабкался на козырек и попробовал окно, которое оказалось незапертым. Нырнув внутрь, он, как и предполагал, оказался в хозяйской спальне. Сначала Бэрри обшарил бюро, потом открыл верхний ящик ночного столика, где обнаружилась шкатулка с серьгами, кулонами и браслетами. В другом ящике лежали запонки и булавки для галстука с драгоценными камнями. Бэрри распихал украшения по карманам пальто и через окно вылез наружу. По его подсчетам, в доме он пробыл не более трех минут.
«Я уже тогда понял, что главная фишка – работать быстро, сразу искать самое ценное и незамедлительно сваливать».
Дома он вынул каждый камень из оправы. Камешки сами по себе отследить невозможно, но золотые и платиновые оправы весьма приметны и легко узнаваемы. Их он выбросил в Гудзон.
Теперь предстояло найти скупщика, который не станет задавать лишних вопросов, откуда камешки и почему их продают. Заместитель комиссара нью-йоркской полиции всего пару недель назад разослал по ювелирным лавкам и ломбардам информационный листок с просьбой внимательно следить, не доберутся ли до их прилавков недавно украденные драгоценности. Если скупщик окажется сознательным, первая ювелирная (во всех отношениях) кража Бэрри станет последней.
Часть района Бауэри в районе Канал-стрит служила центром нью-йоркской торговли драгоценными камнями. «Самая причудливая в мире ювелирная биржа, – написал один репортер, заглянувший сюда весной 1920 года, – тут всё в движении, жужжащий улей». Продавцы с покупателями – в крошечных магазинах-офисах, но их споры о цене слышны даже на тротуаре. Другой журналист, Уилл Б. Джонстон из нью-йоркской газеты «Ивнинг Уорлд», уподобил здешнюю оживленную торговлю с мини-Уолл-стрит. «Но только тут спекулируют» не акциями и облигациями, «а драгоценностями». Бэрри требовался скупщик, который рискнет нагреть руки на его трофеях.
Он подошел к стойке позади одного из магазинчиков на Канал-стрит, протянул бриллиант поменьше и попросил оценить. Продавец определил ценность камня в 350 долларов. Бэрри наплел ему байку, будто бы камешек оставил ему друг в залог за деньги, взятые взаймы. А поскольку тот друг так и не вернул долг, Бэрри решил залог продать. Продавец предложил ему 125 долларов, и они ударили по рукам.
– Будет еще что-нибудь, – крикнул продавец вслед выходящему Бэрри, – добро пожаловать!
Проблема со скупщиком решена. Еще за несколько ходок в тот магазинчик Бэрри продал весь свой улов, выручив две с половиной тысячи – больше, чем школьный учитель в Нью-Йорке зарабатывает за год или вустерский фабричный работяга – за два. Всего пара минут работы – и такое баснословное вознаграждение, тридцать две тысячи триста долларов в сегодняшних ценах. Теперь Бэрри знал, что делать, когда нужны деньги.
«Бывало, что совесть давала о себе знать, – однажды сознается он, – но после того раза она меня больше не тревожила».
Той осенью в Йонкерсе произошло еще с полдюжины подобных краж. «Таинственный вор знай себе ворует, – писала “Йонкерс Стэйтсмен” в ноябре, – а полиция знай себе его ищет». Среди жертв оказался бывший мэр. Один ушлый страховой агент придумал, как подзаработать, – он предлагал хозяевам домов полисы для защиты их драгоценностей в разгар эпидемии краж. «Домушники, – говорилось в его рекламе, – считают Йонкерс урожайным местом».
Во всех случаях Бэрри следовал одному и тому же выверенному сценарию. Он проникал в дом, когда все его обитатели садились ужинать. Через козырек крыльца или крышу террасы он забирался на второй этаж, проникал в спальню через незапертое окно, быстро обшаривал ящики бюро в поисках шкатулок и отдельных предметов и незамеченным покидал дом. Самый крупный разовый улов принес ему камней на тысячу долларов, но порой дело заканчивалось жалкой сотней.
На следующий год домушник с похожим почерком начал орудовать в элитном городке Ардсли в десятке миль вверх по реке. Городок, где проживало меньше тысячи человек, славился «обширными поместьями» – по описанию «Нью-Йорк Трибьюн», – где обитали в основном фондовые маклеры, банкиры и бизнесмены с офисами на Манхэттене. В октябре 1921 года некто пробрался в особняк банкира Эдварда Тельмана, пока тот ужинал с семьей, и украл две шкатулки с драгоценными украшениями общей стоимостью 10 тысяч долларов. Никто не слышал, как он проник в дом, а кражу обнаружили лишь на следующий день. Вскоре появились сообщения, что местные жители видели подозрительную личность.
Вечером последнего февральского дня 1922 года служанка поднялась на второй этаж виллы Генри Грэйвза III и его жены Маргарет. Грэйвз, сколотивший миллионное состояние уже к двадцати пяти годам, был одним из первых лиц в «Нью-Йорк траст компани» и внуком основателя «Атлас Портленд симент компани», главного поставщика цемента для строительства Панамского канала. Супруги ужинали внизу, но служанка, войдя в спальню, тем не менее приняла стоящего у бюро человека за хозяина.
– Ой, прошу прощения, мистер Грэйвз, – произнесла она, пятясь из комнаты. Мужчина улыбнулся и, прикрывая лицо, бросился к окну. Выпрыгнув – и выронив при этом шкатулку, – он приземлился на крышу террасы и спустился по приставной лестнице.
Перепуганная служанка завопила.
Грэйвз позвонил в ближайший полицейский участок в Доббс-Ферри, схватил револьвер и ринулся к дверям. Ему показалось, что он видит какую-то фигуру, бегущую через кусты, и выстрелил. Шум поднял на ноги соседей, и целая группа их шоферов подогнала на место свои автомобили, чтобы фарами освещать территорию, помогая полиции искать следы злоумышленника. К поискам подключилась дорожная служба штата, но преступнику удалось скрыться. С собой он, в частности, унес кольца с крупными бриллиантами и браслеты из чистого золота, усыпанные, опять же, бриллиантами и сапфирами общей стоимостью примерно шестьдесят две тысячи. Вещи были застрахованы, но их утрата все равно глубоко огорчила Маргарет Грэйвз – ведь среди украденного были дорогие сердцу свадебные подарки.
Преступление тщательно планировалось – работал профессионал. Полиция осмотрела всю мебель в спальне, но ни единого отпечатка не нашла: вор, очевидно, орудовал в перчатках. Подобно грабителю из Йонкерса, он пробрался в дом во время ужина и действовал молниеносно. Этот осторожный воришка не менее внимательно следил за своей внешностью. Служанка описала мужчину в стильном, цвета соли с перцем костюме и шляпе-федоре – такой же, как у принца Уэльского на фотографиях, – именно благодаря принцу эти шляпы в то время начинали входить в моду. Девушка лишь через несколько секунд поняла, что перед нею вор, подарив ему время, необходимое, чтобы уйти.
Грэйвз пришел в ярость. Ведь дело не только в том, что он лишился памятных сувениров, – речь шла о безопасности семьи. Пока преступник рылся в бюро, буквально за стенкой спали трое детей, которым не было еще и трех. То, как соседи участвовали в поимке злоумышленника, натолкнуло Грэйвза на идею. Буквально за пару дней он организовал комитет общественной безопасности на случай, если наглый воришка заявится снова. Комитет нанял вооруженных охранников, а над ухоженными лужайками и садами установили прожекторы, превращающие ночь в день. Грэйвза с некоторыми его состоятельными друзьями назначили помощниками шерифа, они имели при себе оружие и по ночам на своих машинах патрулировали территорию. Их стали называть «Отрядом Золотого значка» – правда, одна газета предпочла менее лестное название: «Добровольные охотники за бандитами».
Однажды, вскоре после тех событий, Грэйвз вместе с братом Дунканом и юным банкиром по имени Генри Уилсон совершали патрульный объезд, как вдруг фары встречной машины ослепили сидевшего за рулем Дункана. Он резко повернул руль, машину занесло, она выкатилась с бетонной дороги, ударилась боком о каменную стену и врезалась в дерево. Грэйвз и Уилсон погибли. И завершившаяся автокатастрофой инициатива по защите города перестала мелькать в заголовках.
В итоге окружная полиция Уэстчестера установила, что человек, виновный в прокатившейся волне преступлений, – не кто иной, как Артур Бэрри. Здешние пригородные поместья были его любимыми охотничьими угодьями. Он подходил под описание, данное служанкой Грэйвзов. А ходить на дело в богатые дома, одеваясь как джентльмен, стало частью его фирменного стиля.
Однако и месяца не прошло после кражи у Грэйвзов, как стало создаваться впечатление, будто Бэрри решил завязать с карьерой «работника второго этажа». Но дело было в том, что его посадили за решетку в другом штате по обвинению в преступлении куда более серьезном.
Глава 6. Нападение без отягчающих
Один из двоих выбежавших мягким, безмятежным апрельским вечером из бриджпортского клуба «Швабен холл» громким рыком окликнул другую пару мужчин, которые покинули дансинг несколькими секундами ранее и уже успели дойти до проезжей части. Лерой Грегори – тот, что кричал, – был вне себя от ярости, второй – Питер Вагнер – изо всех сил пытался его удержать. Грегори снова рявкнул, приказывая тем двоим остановиться. Проигнорировав его приказ, они разделились и бросились в разные стороны.
Вдруг один развернулся. Вынул автоматический револьвер 25-го калибра и принялся палить из него с бедра. В тусклых сумерках были видны вспышки. Прозвучало пять, а то и шесть выстрелов. Две пули попали в Вагнера, тот пошатнулся и упал.
– Давай за ними! – крикнул он Грегори. – Я в порядке.
Из клуба хлынули люди, и на Френч-стрит собралось уже больше сотни человек. Вагнера погрузили в машину и повезли в больницу. Некоторые из его друзей отделились от толпы и тоже ринулись вслед за обидчиками – одного было настигли у вокзала, но он перепрыгнул через забор и растворился в темноте. Полиция расставила посты на всех крупных перекрестках и главных выездах из города. Но наутро стало ясно, что их уже не поймать.
Бриджпортским детективам вскоре удалось раздобыть их имена и описания внешности. К полиции в соседних юрисдикциях обратились с просьбой объявить в розыск Джозефа Портера и Артура Каммингса, хотя имена, скорее всего, были вымышленными. По сообщениям «Бриджпорт Таймс», полиция полагала, что разыскиваемые – «члены бутлегерской шайки» из Нью-Йорка.
Вагнера, двадцативосьмилетнего водителя грузовика, экстренно прооперировали в больнице святого Винсента. Одна пуля прошла навылет через брюшную полость, а другая, повредив печень, желудок и левую почку, раздробила ребро и застряла возле позвоночника. Ее удалили, но Вагнер «быстро терял силы», говорилось в газетном репортаже, и «надежд на его спасение почти не осталось». 28 апреля 1922 года – через пять дней после ранения – он умер от сепсиса и других осложнений. Теперь полиция расследовала убийство.
Коронер – как и газетчики – выяснил, что именно произошло в клубе. Человек, известный как Портер, пригласил жену Грегори Нину на танец, не зная, что она замужем. Нина отклонила приглашение. Задетый отказом Портер обозвал ее шлюшкой. Стоявшие вокруг потребовали извинений. Начали стекаться люди, назревала потасовка. Портер с Каммингсом отступили в гардероб, забрали свои шляпы и пальто и направились к двери. Они хотели «избежать неприятностей», – как писала бриджпортская «Телеграм», – понимая, что, если начнется всеобщая драка, у них, чужаков, не будет никаких шансов. Узнав о нанесенном жене оскорблении, разъяренный Грегори бросился за ними. Его кулаки – отметил один из свидетелей – были крепко сжаты. Опасаясь, что, если другу придется драться, силы окажутся неравны, Вагнер отправился следом. «Своим упрямством, – заключила газета, – Грегори спровоцировал роковую стрельбу».
Бриджпортские детективы вскоре установили местонахождение одного из сбежавших. Артура Каммингса через неделю после смерти Вагнера арестовали в Вустере, Массачусетс, в доме его сестры. Ему предъявили обвинение в убийстве первой степени.
На самом деле его звали Артур Бэрри.
Как полиция вышла на Бэрри – так до сих пор и неведомо. Во время войны он успел немного поработать в Бриджпорте на военном производстве, и не исключено, что в «Швабен холле» его кто-то узнал. Бэрри не отрицал, что был в тот вечер в дансинге, но категорически отвергал обвинения в ношении оружия и настаивал, что в Вагнера стрелял Портер, чье подлинное имя ему неизвестно, и где сейчас находится Портер, он тоже понятия не имеет. Полицейские не поверили ни единому его слову. Шеф вустерской сыскной полиции Джеймс Кейси заявил репортерам, что Бэрри присутствовал на танцах и «имел все возможности произвести роковой выстрел».
Однако экстрадиция Бэрри откладывалась. Он занемог – причем столь серьезно, что ответственные за аресты чины решили доставить его в больницу. Чем именно он заболел, пресса не сообщила, известно лишь, что его состояние ухудшалось и врачи в какой-то момент стали подумывать об операции. В больнице Бэрри пролежал неделю под надзором полиции, и, когда ему стало лучше, его переправили в Коннектикут, где он обвинялся в убийстве – преступлении, караемом смертной казнью. «Петля виселицы, – мрачно сообщала “Бриджпорт Таймс”, – смотрела прямо ему в лицо».
Представ 8 мая перед бриджпортским судом, Бэрри ни видом, ни поведением не напоминал человека в шаге от смерти. В зале было полно друзей Вагнера, которые с самого утра отстояли очередь, чтобы им хватило мест. Бэрри не обращал никакого внимания на враждебно настроенную аудиторию и «сидел с невозмутимым выражением лица», как выразился один репортер. Выглядел он, как всегда, безупречно. Вел себя «учтиво, галантно», одет был с изяществом, «но не броско, не кричаще». Источником его самоуверенности служил сидящий рядом человек по имени Джордж Мара. Родители Бэрри – хоть они в свое время и поставили на непослушном сыне крест – наняли лучшего в Бриджпорте адвоката. Выпускник Йельской юридической школы, Мара обладал богатым опытом ведения уголовных дел и нужными связями – был близким другом и политическим союзником местного прокурора штата Гомера Каммингса, с которым они бок о бок работали во время организации общенационального съезда Демократической партии 1920 года.
Коронер Джон Фелан зачитал обвиняющий доклад, утверждая, что Бэрри с Портером одинаково виновны в смерти Вагнера. Выходя из клуба, Вагнер с Грегори имели все причины опасаться за себя, но оба были безоружны. Поскольку те, кого они преследовали, не находились в «непосредственной опасности для жизни» и им не угрожали ни серьезные увечья, ни смерть, применение ими оружия ничем не обосновано.
Однако стороне обвинения не хватало сильных улик, делающих Бэрри соучастником убийства. Мара пошел в атаку. Он потребовал провести предварительные слушания, где обвинению еще предстоит доказать, что улик достаточно для суда над его клиентом, – весьма редкое, как отметили специалисты, ходатайство защиты в деле об убийстве. Этот маневр поставил прокурора Винсента Китинга перед необходимостью латать все дыры в обвинении, имея в запасе всего пару дней.
Свидетели, дававшие показания на досудебном заседании, подтвердили, что видели Бэрри в дансинге до стрельбы, но никто не мог с точностью сказать, что он был на улице, или идентифицировать его как убийцу Вагнера. Лерой Грегори во время конфликта находился всего в паре футов от тех двоих, но свет уличных фонарей делал лица размытыми. «Не могу поклясться, – сказал он, – что Бэрри – именно тот, кто стрелял». Двое других свидетелей, которые стояли на улице у «Швабен холла», наблюдали сцену со стрельбой, но ни один из них не опознал в Бэрри стрелявшего. Перекрестный допрос нанес решающий удар по надежности показаний главного свидетеля обвинения. После множества вопросов Грегори признался адвокату, что «в половине случаев сам не знал, что говорит».
Бэрри ликовал. «Все свидетели доказали мою невиновность», – позже вспоминал он.
Китинг не оставлял попыток укрепить разваливающееся дело. «Бэрри, – утверждал он под конец слушаний – играл по меньшей мере роль сообщника и подстрекателя. Даже при самой мягкой трактовке закона он виновен». Мара указал на то, что обвинение так и не представило ни одного свидетеля, который видел бы Бэрри стоя́щим на улице у клуба или стреляющим из пистолета. Но судья Уильям Бордмен тем не менее постановил, что Бэрри должен предстать перед судом по обвинению в убийстве, – скорее всего, просто в силу отсутствия других подозреваемых. Бэрри и Портер вместе были в зале, а ушли всего за несколько секунд до выстрелов. «Допустить, что стреляли какие-то другие люди, – объяснил судья, – было бы серьезной натяжкой».
Через пару дней после слушаний Мара встретился с боссом Китинга и своим приятелем, прокурором штата Каммингсом. Они довольно долго обсуждали дело за закрытыми дверями, и в результате Каммингс объявил, что обвинение в убийстве заменяется обвинением в менее серьезном преступлении – причинении смерти по неосторожности. Бэрри свою вину отрицал, суд назначили на сентябрь. Поскольку необходимых для залога двух с половиной тысяч он найти не смог, ему пришлось остаться в окружной тюрьме Фэрфилда, дряхлом здании, возведенном в 1870-х во время президентства Улисса Гранта.
К началу суда Маре удалось добиться, чтобы причинение смерти по неосторожности заменили одним из самых легких в уголовном кодексе правонарушений. Когда 25 сентября Бэрри предстал перед судом первой инстанции, его признали виновным в нападении без отягчающих обстоятельств. Ему предстояло провести еще три месяца под стражей и выплатить судебные издержки в размере сорока трех долларов. Не в силах скрыть разочарования подобным исходом, «Бриджпорт Таймс» сообщила, что Бэрри «отделался мягким приговором».
Бэрри крался по темному коридору мимо тюремных камер. Шел ноябрь, пять утра, два часа до рассвета, его срок за решеткой уже вот-вот истечет. Раздался скрежет металла о металл – его ножовка распилила засов на двери, и он вошел в необитаемую часть тюрьмы. Хватаясь за решетки пустующих камер и подтягиваясь на руках, он перебрался с первого на верхний, третий ярус, где открыл окно люкарны и, ежась от холода – температура близилась к нулю, – шагнул на крышу. Потом спрыгнул на землю и был таков.
«БЭРРИ СБЕЖАЛ ИЗ ОКРУЖНОЙ ТЮРЬМЫ!» – вопил 22 ноября заголовок на первой полосе «Бриджпорт Таймс». Коннектикутские полицейские вместе с коллегами из штатов Нью-Йорк и Массачусетс были подняты на ноги, но шериф округа Фэрфилд, которого дерзкий побег застал врасплох, два дня не предавал новость огласке.
Побег – «моя маленькая шалость», как позднее называл его Бэрри, со смешком вспоминая тот день, – потребовал тщательнейшего планирования. Бэрри пришел к выводу, что слабые места тюрьмы – это пустые камеры и окна, ведущие на крышу. Он с кем-то договорился, чтобы ему тайком передали ножовку. «У меня на воле оставались друзья», – отмечал он. Бэрри приступил к своей операции как раз перед тем моментом, когда дневные охранники сменяют ночных.
«Я знал расписание обходов», – рассказывал он. Ему требовалось, чтобы надзиратель наверняка отметил его присутствие, и поэтому перед обходом уселся на койку и закурил. Чтобы выиграть время, он сделал голову из припасенной заранее буханки, приделал к ней волосы, которые подметали с пола тюремной цирюльни, и уложил ее на подушку. Для имитации туловища свернул одеяло и накрыл его простыней. По подсчетам Бэрри, путь на крышу займет около пяти минут. Единственная заминка вышла, когда он после прыжка приземлился не под тем углом. Пытаясь привести в порядок вывихнутое плечо, он запрыгнул в проходящий мимо трамвай, а потом сел в поезд до Манхэттена.
В газетах назвали побег Бэрри «одним из самых дерзко спланированных и осуществленных в истории тюрьмы». Через пару дней этот маршрут повторили еще двое беглецов, что повлекло за собой расследование по поиску «дыр» в системе тюремной безопасности.
Бэрри пользовался доверием тюремщиков и на момент побега выполнял функции хозобслуги. Его камеру, в отличие от камер других арестантов, оставляли незапертой, чтобы он мог принести им, например, воду или что-то еще. Обычно это поручали заключенным с маленьким сроком, которые едва ли попытаются бежать накануне освобождения. Бэрри оставалось всего десять дней, но у него имелась веская причина для побега. У вустерской полиции был ордер на его арест по обвинению в угоне автомобиля, и сразу по истечении срока в Бриджпорте его собирались задержать и посадить обратно за решетку.
«Я не угонял ту машину», – утверждал он позднее, но у него не было ни малейшего желания вновь угодить в тюрьму и доказывать оттуда свою невиновность. Бэрри просидел в общей сложности семь месяцев. Ему хотелось вернуться к привычным занятиям – присматривать элитные усадьбы, планировать проникновения и красть драгоценности. «Оставаться в тех краях я не собирался».
Вряд ли Бэрри стрелял в Вагнера, тут он, пожалуй, не врал, но то, что ему неизвестна личность его спутника, – это была ложь. С убийцей Вагнера, известным под именем Джозеф Портер, Бэрри познакомился еще в Вустере, они дружили с детства. Его звали Джеймс Фрэнсис Монахан. И именно он, скорее всего, снабдил Бэрри ножовкой.
Скрывая личность Монахана, Бэрри рисковал жизнью – он вполне мог заработать смертный приговор. Монахану отчаянно хотелось вернуть другу этот долг. Позднее они объединятся в неустойчивый, обреченный союз для кражи драгоценностей.
Глава 7. Все, что блестит
Они стояли в конце темного узкого прохода под Долиной Царей в Луксоре, месте последнего приюта великих египетских фараонов. Занимавшийся здесь раскопками археолог Говард Картер ждал этого момента больше тридцати лет. Рядом с ним – британский аристократ лорд Карнарвон, многолетний спонсор его экспедиций. Если их предположения верны, то помещения, ведущие в усыпальницу юноши-царя Тутанхамона, которую никто не тревожил вот уже три тысячелетия, – всего в паре метров. Картер стальным прутом проковырял отверстие в гипсовой перегородке. Он поднял свечу – ее пламя затрепетало в хлынувшем потоке выходящего воздуха – и заглянул внутрь. Какое-то время его глаза привыкали к тусклому свету свечи. И тут он их увидел. «Диковинные животные, статуи и золото, – вспоминал он потом, – блеск золота – повсюду».
Карнарвон стал проявлять нетерпение.
– Есть там что-нибудь?
– Да, – произнес наконец Картер, – тут масса чудес.
Это был ноябрь 1922 года – месяц, когда Артур Бэрри бежал из коннектикутской тюрьмы, а археологи сделали одну из самых важных находок в истории. Помещение было набито всевозможными вещами, которые могли пригодиться фараону в загробной жизни. Статуи экзотических зверей, египетских богов и самого Тутанхамона, кровати и прочая мебель, колеса со спицами от разобранных колесниц, сундуки с драгоценностями. Предметы обстановки, фигуры, колесницы – все было отделано золотом и инкрустировано обсидианом, бирюзой, ярко-синим лазуритом и другими полудрагоценными камнями.
В последующие месяцы люди из команды Картера открывали все новые и новые заваленные артефактами помещения, пока не достигли собственно усыпальницы с мумией фараона и его ослепительной золотой погребальной маской. «Представьте гору драгоценных камней невообразимой стоимости, – писал один из первых журналистов, которым выпал шанс побывать внутри. – Усеянная сокровищами пещера Али-Бабы на этом фоне покажется лавкой безделушек».
Всего в подземных посещениях при усыпальнице было обнаружено около пяти тысяч предметов, и она, таким образом, стала единственной фараоновой гробницей, найденной в практически нетронутом виде, в то время как остальные были в той или иной мере разграблены еще в античную эпоху. Но это не значит, что воры не побывали и здесь. Когда туда вошли Картер с Карнарвоном, многие ценности уже отсутствовали – камни извлечены из оправ, из мебели выдраны золотые украшения, со стрел сняты бронзовые наконечники. Вскоре после смерти Тутанхамона в его гробницу вламывались по меньшей мере трижды, но либо воришек удавалось поймать, либо они прихватывали только мелкие предметы. Когда Картер подметал пол в одном из помещений, из которого уже вынесли все артефакты, он обнаружил еще кое-какие брошенные драгоценности и отдельные камешки, затерявшиеся в пыли.
Они наглядно демонстрировали, что ремесло Артура Бэрри – одно из древнейших в мире.
Человечество начало изготавливать и носить ожерелья, браслеты и кольца еще в каменном веке. Как сказала писательница и модная журналистка Стеллин Воландс, «в начале были украшения». Старейшие известные нам экземпляры – найденные в сибирской пещере каменный браслет и мраморное кольцо, их возраст – пятьдесят тысяч лет. Люди делали украшения из морских раковин, рыбьих костей, черного дерева задолго до того, как мастера художественной ковки в Египте и других древних цивилизациях научились превращать драгоценные металлы, камни и стеклянные бусины в произведения искусства.
Сформировавшиеся глубоко в углеродных отложениях земных недр и вынесенные на поверхность потоками лавы, алмазы веками добывались в индийском регионе Голконда. Знаменитые камни Кохинор и Хоуп родом оттуда. Индостан оставался главным источником алмазов вплоть до 1870-х, когда залежи этих камней были открыты в Южной Африке. Рубины самых разных цветов и оттенков – от розоватого до кроваво-красного – долгое время добывали на территории сегодняшней Бирмы, но позднее их рассеянные месторождения обнаружили и на других континентах. Сапфиры, их темно-синие кузены, были известны еще в Древнем Риме, а самые крупные их экземпляры привозили с Цейлона. Темно-зеленые изумруды – драгоценные камни берилловой группы, в которую также входят более светлые аквамарины, – начали добывать в Египте две тысячи с лишним лет назад. Рождающиеся внутри устриц и других моллюсков жемчуга, перлы, упоминаются и в Новом Завете, и в Коране.
Драгоценности со временем стали убедительным символом богатства и власти. Своим царственным блеском они утверждали имперскую мощь, королевский престиж и незыблемость монархий. Для защиты их элитного статуса императоры принимали специальные законы. Восхищенный бесподобными изумрудами Клеопатры, Юлий Цезарь постановил, что драгоценные камни вправе носить только римские аристократы. Юстиниан, правивший в VI веке Византийской империей, закрепил за собой исключительное право производить, иметь в собственности и носить изумруды и жемчуга. Многим самым крупным в мире бриллиантам, рубинам и изумрудам на роду было написано красоваться в коронах королей и королев. Корона Британской империи, которая использовалась на церемонии коронации королевы Виктории в 1838 году и в которой британские монархи с тех пор ежегодно открывают сессию парламента, несет на себе почти три тысячи алмазов, а среди прочих камней – огромный красный рубин, украшавший шлемы Генриха V и Ричарда III на поле боя.
Драгоценные камни строили империи, финансировали войны, разжигали революции, создавали и уничтожали целые страны. Испанские конкистадоры смяли катком геноцида южноамериканские цивилизации ради золота, серебра и богатых изумрудных залежей Колумбии. Слухи о том, что надменная, с головы до ног усыпанная драгоценными украшениями Мария-Антуанетта заказала очередное дорогое ожерелье, вызвали общественный протест, кульминацией которого стала Французская революция. Борьба за южноафриканские алмазы и золото спровоцировала две войны между Британской империей и местными бурами.
Драгоценные камни, «наименее первостепенные предметы роскоши», как назвал их журнал «Таун энд кантри», служили оружием в битве за социальное доминирование. С их помощью богачи и аристократы кичились своим богатством и утверждали статус. Они тратили целые состояния на драгоценные камни и украшения, просто потому что могли, и никаких иных резонов за этим не стояло. «Бриллианты покупают из-за того, что это – предметы роскоши, доступные немногим», – заметил в 1908 году парижский банкир Жорж Обер.
То, чем владели одни, не терпелось отнять другим. В Карибском море пираты нападали на суда с драгоценностями. Когда армия вторгалась в страну, мародеры разграбляли сокровищницы и храмы. Состоятельных путешественников на дорогах поджидали разбойники, а ювелиры и обитатели зажиточных поместий становились жертвами грабителей. Особо ценные ювелирные изделия, исчезнувшие или украденные, порой объявлялись спустя десятилетия в частных коллекциях или каталогах аукционных домов. «Драгоценности обладают необъяснимой притягательной силой, – отмечал в 1920-е годы шеф сыскной полиции Нью-Йорка Джон Кафлин. – Ради них мужчины и женщины лгут, крадут, страдают, убивают, сами становятся жертвами убийц чаще, чем по каким-либо иным причинам, – даже чаще, чем из-за любви».
Соблазнительность драгоценных камней, поступки, на которые решались их обладатели, дабы их заполучить, или воры – дабы их украсть, – подарили сюжеты многим писателям. В «Лунном камне» Уилки Коллинза, написанном в середине XIX века, одном из первых детективных романов, повествование вращается вокруг кражи редкого, с желтоватым оттенком, индийского бриллианта. В «Голубом карбункуле» (1892), раннем рассказе Артура Конан Дойла о Шерлоке Холмсе, великий сыщик называет драгоценные камни «ловушкой сатаны», которая «притягивает к себе преступников, словно магнит». «…Каждая грань может рассказать о каком-нибудь кровавом злодеянии», – говорит он доктору Ватсону. «Кто бы сказал, что такая красивая безделушка ведет людей в тюрьму и на виселицу!»[11].
В рассказе Агаты Кристи «Кража в Гранд-отеле» (1923) Эркюль Пуаро ослеплен великолепием шикарных украшений – «скорее просто выставленных напоказ, нежели со вкусом подобранных к туалетам» – в элитном брайтонском «Гранд Метрополитене». При виде этого океана драгоценностей даже знаменитый супердетектив испытывает соблазн: «Мне остается только пожалеть, – обращается он к своему другу, капитану Хастингсу, – что я трачу свой ум на поимку преступников; гораздо более разумным было бы самому стать преступником. Какие здесь благоприятные возможности для вора с выдающимися способностями!»[12]
«Бурные двадцатые» были идеальным временем, чтобы начать карьеру «вора с выдающимися способностями». «Сегодня козырная масть – алмазы[13], – объявила “Нью-Йорк Дейли Геральд” в начале 20-х, – и все ее разыгрывают». Из-за немецкой оккупации Антверпен сложил с себя корону столицы огранки алмазов, и его место лидера гранильной отрасли занял Нью-Йорк, где работали сотни искусных мастеров. Огромными темпами рос спрос и на другие камни. «Люди, которые открыто делали деньги во время войны, сейчас пожинают плоды и увешивают себя бесценными сокровищами», – писала газета «Палм-Бич Пост», издававшаяся на излюбленном зимнем курорте нью-йоркской элиты. «Нынешняя массовая скупка ювелирных изделий уже граничит с истерией, – рассказывал в интервью “Нью-Йорк Таймс” главный редактор библии отрасли, журнала “Джуэлерс Секюлар”. – И ведь речь идет не о дешевых украшениях. Это – подлинные драгоценности, когда у тебя в одной руке – целое состояние».
Жемчужная масть тоже была козырной. Жемчуга обрамляли шеи важных фигур социума – женщин, могущих себе позволить выложить круглую сумму за одно-единственное украшение, которые либо достаточно богаты сами по себе, либо имеют богатых мужей. Натуральные жемчужины идеальной формы, безупречно собранные на нитке, стоили баснословных денег: нью-йоркский финансист Мортон Фриман Плант, например, передал в 1917 году права собственности на свой особняк на Пятой авеню французскому ювелиру Пьеру Картье в обмен на ожерелье за миллион долларов из ста двадцати восьми жемчужин для своей жены. «Для американских нуворишей начала ХХ века, – отмечает писательница и публицистка Виктория Финли, – владеть парой-тройкой жемчужных ожерелий – это как иметь дом в Хэмптонсе, быструю яхту или несколько новых автомобилей, по которым все сходят с ума». Иными словами, каприз, который могут себе позволить лишь избранные.
Для Фрэнсиса Скотта Фицджеральда, главного летописца одержимого богатством десятилетия, драгоценности выступали символом блеска и упадка эпохи. В одном из его рассказов мальчик, хвалясь перед одноклассником безмерным состоянием своей семьи, делает экстравагантное заявление: «Вот у моего отца есть алмаз побольше отеля “Риц”»*[14]. Миллионер Джей Гэтсби, охотник за американской мечтой, предавался хобби, от которого за версту несло излишествами века джаза. «Я стал разъезжать по столицам Европы – из Парижа в Венецию, из Венеции – в Рим, – ведя жизнь молодого раджи: коллекционировал драгоценные камни, главным образом рубины…»[15], – рассказывал он своему соседу и впоследствии биографу Нику Каррауэю. Накануне венчания его возлюбленной Дейзи и Тома Бьюкенена жених дарит невесте жемчужное колье стоимостью триста пятьдесят тысяч долларов. Зеленый огонек на причале у виллы Бьюкенена, который Гэтсби наблюдает с другой стороны бухты, светится подобно изумруду, далекому и недосягаемому, как сама Дейзи.
Артура Бэрри и подобных ему воров весь этот блеск притягивал как магнит. В одном только Нью-Йорке, по словам шефа сыскной полиции Джона Кафлина, детективы ежегодно расследовали кражу драгоценностей на два миллиона с лишним долларов. Многие богатые дамы, сетовал он, появлялись в театрах и на светских мероприятиях, «увешенные украшениями, как витрина ломбарда», не оставаясь незамеченными для злоумышленников. Другие запирали свои драгоценности в сейфы или банковские ячейки, а на людях носили стразы – имитацию подлинных камней. «Сколько денег спущено на украшения, которые с тем же успехом могли оказаться стразами, – горевала жительница Филадельфии, из чьего летнего дома воры вынесли драгоценных камней на сто тысяч долларов. – Безрассудно тратить на них столько денег».
В середине 20-х газета «Бруклин ситизен» советовала своим читательницам: «Если вам непременно нужны ювелирные украшения, не покупайте дорогие. Если вам непременно нужны дорогие, не надевайте их». Но, к счастью для Бэрри, бо́льшая часть нью-йоркской элиты была исполнена решимости продемонстрировать всем и каждому символы своего богатства и тонкого вкуса.
Глава 8. «Клиентки»
Вечером 28 февраля 1923 года Энн Фрейзер, прежде чем спуститься в столовую, сняла с себя украшения и положила их на туалетный столик. После ужина она обнаружила, что драгоценности – кольца и броши с бриллиантами, ожерелье и браслет общей стоимостью двадцать пять тысяч – исчезли. Ее муж Дункан, сын владельца горнодобывающих и сталелитейных компаний, позвонил в полицию. Доехав до Ардсли, четверо полицейских обнаружили знакомый почерк. Окно над крышей террасы стояло открытым. Судя по следам на снегу, незваный гость добрался до второго этажа по приставной лестнице. «Этот вор пользуется теми же методами», – сообщила «Йонкерс Стэйтсмен», что и пробравшийся год назад в соседний дом трагически погибшего миллионера Генри Грэйвза III.
«Вор с лестницей» округа Уэстчестер снова в деле.
Как отметила «Йонкерс Геральд», 1923-й выдался «самым урожайным» годом для неуловимого вора. Меньше недели спустя после Фрейзеров ограбили дом прокурора Джона Хеннингера на юге Йонкерса. В середине апреля преступник проник к его соседу, главе рекламной фирмы Джеймсу Лэкки. Осенью – новая вспышка домовых краж. В начале ноября жертвой стал аптекарь Оррин Дулиттл на севере Йонкерса. Через несколько дней приставная лестница уже фигурировала в деле о краже из дома Фрэнклина Коу, издателя популярнейшего среди элиты 20-х годов журнала «Таун энд Кантри». Эти преступления принесли в сокровищницу вора драгоценностей на семь с половиной тысяч долларов.
Полиция Йонкерса судорожно пыталась остановить эту волну. Более десятка офицеров в свободное от службы время добровольно патрулировали анклав вилл на севере города. Полицейские задерживали любого прохожего со стремянкой и призывали местных жителей сообщать о каждом увиденном таком человеке, серьезно осложнив жизнь малярам и другим рабочим.
Усиленные полицейские меры, похоже, еще больше раззадорили преступника. В середине ноября на юге Йонкерса он пробрался в дома городского фининспектора и некоторых его соседей. Однажды прошмыгнул через усадьбу местного комиссара по общественной безопасности – того самого чиновника, который приказал допрашивать всех людей со стремянками. «Он не горит желанием попадать в расставленные ловушки, – сетовала “Йонкерс Геральд”. – В городской полиции все сходятся во мнении, что это – самый неуловимый преступник в ее истории».
В Ардсли ассоциация владельцев недвижимости возродила комитет общественной безопасности, созданный покойным Генри Грэйвзом после серии подобных краж в 1922 году. Местным жителям выдали разрешения на ношение оружия, и они – предупредила вероятных воров «Йонкерс Стэйтсмен» – были «полны решимости воспользоваться им без всяких колебаний». Каждый раз, когда жену одного из домовладельцев Джона Уилера будил какой-нибудь звук, тот, вооружившись армейским кольтом и фонариком, отправлялся осматривать дом – что не помешало преступнику однажды умыкнуть все их сокровища, пока они танцевали на благотворительном вечере. Всем раздали полицейские свистки. В некоторых усадьбах установили прожекторы и сигнализацию. Жители организовали ночные патрули и получили полномочия арестовывать любого чужака, который не сумеет объяснить, что он здесь делает. «У нас уже был подобный опыт в прошлом году, и мы справились, – заявил представитель Ассоциации владельцев недвижимости. – Справимся и в этот раз».
Однако в первые месяцы 1924 года «вор с лестницей» все еще орудовал. Среди жертв оказался член комитета общественной безопасности, руководитель телефонной компании Генри Брукс – однажды мартовским вечером, пока он ужинал с женой Кларой, из спальни на втором этаже вынесли украшения на тысячу долларов.
Представитель ассоциации, который хвалился тем, как эффективно им удалось в 1922 году отвадить вора, ошибался. Кражи прекратились просто потому, что с апреля по ноябрь Артур Бэрри сидел в коннектикутской тюрьме. Полиция и окружная прокуратура Уэстчестера в итоге сопоставили факты и пришли к выводу, что именно Бэрри в начале 20-х спланировал и осуществил большинство, если не все «лестничные кражи» в Йонкерсе, Ардсле и соседних городках.
Но в Уэстчестере улов зачастую был довольно скромным. Порой Артур вылезал из окна, положив в карман драгоценностей меньше чем на тысячу – при том, что от скупщика получит лишь часть. Бэрри – который теперь представлялся Артуром Гибсоном, или доктором Артуром Дж. Гибсоном, если возникала необходимость назваться полным именем или выглядеть солидно, – решил искать клиентов побогаче. И его охотничьи угодья раздвинулись до роскошных усадеб, рассыпанных вдоль Северного берега Лонг-Айленда.
«Казино Центральный парк» – изящное уединенное место – ресторан неподалеку от входа в парк с Пятой авеню и 72-й улицы, в готическом стиле, с увитыми лозами стенами и четырьмя обеденными залами: «Кафе о Ле», оформленным как парижский уголок, «Синим залом», декорированным в эбеновых, золотых и, разумеется, синих тонах, «Перголой», где столики стояли под навесами из голубого и темно-желтого шелка в окружении решетчатых перегородок и пальм в горшках, и, наконец, «самым затейливым из них», по мнению «Нью-Йорк Таймс», – «Залом Людовика XVI», где посетителя встречали панели, украшенные веджвудским фарфором, трио массивных канделябров и дверные проемы, обрамленные в помпейском стиле зеленой драпировкой. Бэрри предстояло выбрать один из четырех.
«Казино» – этим словом задолго до появления игорного бизнеса называли парковые постройки павильонного типа, – словно магнит притягивало светских львиц Нью-Йорка. Туда стекались элегантные дамы в огромных шляпах от солнца и длинных узорчатых платьях с оборками. За ланчем и чаем они болтали о том о сем, делились сплетнями. За фоновую музыку отвечал камерный ансамбль под управлением бывшего концертмейстера Бостонского симфонического оркестра. Некоторые из посетительниц, несомненно, обратили внимание на привлекательного, хорошо одетого мужчину под тридцать за столиком у стены. Он выделялся на общем фоне. Хоть ресторан, открытый в 1860-х под названием «Салон отдохновения для дам», и перестал служить пристанищем для женщин, решивших в одиночестве прогуляться по парку, но все же летним днем мужчина был здесь редким гостем.
Бэрри тоже обратил на них внимание. И на их украшения.
«Множество состоятельных женщин, приехавших в Нью-Йорк пройтись по магазинам, завершали свой маршрут в “Казино”, – вспоминал он. – Поэтому я тоже туда заглядывал, чтобы познакомиться с ними поближе. Приметив даму, усыпанную бриллиантами, я шел за ней до лимузина и записывал номер».
Потом направлялся к ближайшей телефонной будке и звонил в дорожную инспекцию – новое полицейское подразделение, созданное для наведения порядка в хаосе забитых автомобилями улиц Манхэттена. Он представлялся патрульным – одно из имен, которое он запомнил, было «патрульный Шульц», – и называл выдуманный номер жетона.
– У меня тут происшествие, – рявкал он в трубку, – и мне нужны имена и адрес хозяев одного «кадиллака».
Сотрудник на другом конце провода находил данные, и вскоре Бэрри знал, как зовут даму в бриллиантах и где она живет – это всегда оказывалась пышная усадьба в округе Уэстчестер или на Лонг-Айленде.
Для выяснения личности перспективных жертв – он предпочитал называть их «клиентками» – Бэрри прибегал к этой уловке многократно. «Инспекция никогда не давала себе труда проверить, что это за патрульный Шульц, – рассказывал он. – Мне просто называли имя и адрес». Однажды визит в «Казино» оказался весьма урожайным – полдесятка клиенток, и последовавшая серия домовых краж принесла ему семьдесят пять тысяч долларов.
«Кража с проникновением, – отметил однажды Бэрри, – это на восемьдесят процентов подготовка и на двадцать – удача». Он всегда держал в голове урок, полученный от его ментора Лоуэлла Джека: «Хороший уровень готовности плюс скрупулезное планирование – вот краеугольный камень успешного дела».
Следить за нью-йоркской элитой оказалось делом несложным. В поисках наводок Бэрри внимательно просматривал страницы светской хроники, и ему нередко попадались полезные фотографии дам, щеголяющих своими самыми изысканными украшениями. «Репортеры светских разделов ежедневных газет, – признался он, – часто выступали моими невольными сообщниками». Он был в курсе, кто уезжает на лето в свои загородные виллы, кто решил провести зиму в Палм-Бич, кто путешествует по Европе, кто и в какой день принимает гостей. Обращал внимание на объявления о помолвке, на даты венчаний, на информацию о грядущих вечеринках, раутах, танцевальных приемах в богатых загородных клубах. Подобные сведения порой оказывались бесценными. «Я знал, что миссис Такая-То собирается в такой-то день устроить вечеринку, и даже при отсутствии списка гостей мне было прекрасно известно, с кем она дружит и кто почти наверняка будет там». Если оказывалось, что одна из потенциальных жертв – в ее самых дорогих украшениях – скорее всего, приедет туда, то кража переносилась на другой вечер, когда женщина со своими драгоценностями останется дома. «Какой смысл навещать дом, когда там нет миссис … с ее побрякушками?»
Нью-йоркский «Светский календарь» – выходивший дважды в год алфавитный список-справочник городских миллионеров и особ голубых кровей – тоже был вещью незаменимой. Как написал один обозреватель, этот перечень знаменитых имен и престижных адресов вызывал в воображении образы «старых денег, Лиги плюща, траст-фондов, привилегий по факту рождения, охоты на лис, первых балов, яхт, поло, прославленных основателей рода, закрытых имений в Андирондакских горах, родословных, испещренных именами магнатов XIX века». Нувориши и выскочки, горевшие желанием примкнуть к этому «реестру фешенеблей» – по выражению острого на перо публициста-сатирика Г. Л. Менкена – «совершали титанические усилия, лишь бы вставить туда свое имя».
А в воображении Бэрри этот список вызывал образы алмазов и жемчугов. По его словам, он наизусть знал целые крупные куски из «Календаря», собирая информацию о тех, кого приметил в «Казино» или увидел в газетах. Если это так, то его память можно считать феноменальной. Стандартное издание того времени состояло из примерно двадцати тысяч статей на семистах с лишним страницах. Больше пятидесяти страниц были посвящены одной только литере W.
Порой он ездил в Уэстчестер или на Лонг-Айленд, чтобы свести знакомство с молодой прислугой из роскошных вилл. Горничным, гувернанткам и поварихам льстило внимание учтивого, обеспеченного молодого человека – тем более на пафосном красном двухместном «кадиллаке» класса люкс за четыре тысячи. «После пары коктейлей я уже всячески им сочувствовал, выслушивая истории о несправедливости, а порой и жестокости хозяев, – вспоминал он, – составляя тем временем довольно полную картину распорядка жизни в их домах». Одна служанка проболталась, что ее хозяйка придумала средство от воров – прятать драгоценности на ночь в шелковый чулок, который засовывала под белье в корзину для стирки. Через пару ночей диковинный тайник наутро оказался пустым.
Однако в большинстве случаев Бэрри приходилось продумывать планы самостоятельно, без помощи невольных сообщников или инсайдеров. Он мог порой по нескольку дней вести наблюдение за домом, чтобы понять примерное расписание дня хозяев и прислуги. Часами сидя в кроне дерева или выглядывая из-за изгороди, он фиксировал время, когда кто-либо обычно покидал дом и когда возвращался. Готовясь к очередной массированной атаке на сокровища той или иной семьи, он порой совершал предварительные ночные проникновения, чтобы запомнить расположение комнат второго этажа и отметить про себя вероятные тайники. В один из домов в Ардсли, вспоминал Бэрри, ему пришлось проникать четырежды, но никак не удавалось понять, где именно хозяева хранят драгоценности, а что они где-то в доме, Бэрри не сомневался. Однако сдаваться он не желал и провел следующие пять вечеров на дереве, наблюдая за домом в бинокль. Наконец он увидел, как чья-то фигура в хозяйской спальне выдвигает ящик комода и, приподняв второе дно, достает шкатулку. В ту же ночь, дождавшись, когда все легут спать, он пробрался внутрь и изъял вожделенные сокровища.
Большинство хозяев домов при хранении своих драгоценностей вели себя куда менее осмотрительно. Бэрри нередко натыкался на дорогие украшения прямо на бюро или туалетном столике. Если же их куда-то убрали, значит, они почти наверняка в правом верхнем ящике туалетного столика в хозяйской спальне. «В девяти случаях из десяти, – говорил он, – именно там я и находил весь свой улов». Что бы он посоветовал тем, кто хочет понадежнее припрятать свои бриллианты? «Храните их на кухне».
Никаких проблем со сбытом своего «добра», как называл Бэрри краденое, он не испытывал. «Какие там проблемы! – отметил он однажды. – В те времена были скупщики, способные сплавить хоть статую Свободы». В Нью-Йорке 1920-х годов скупкой и продажей краденых драгоценных камней занимались, по словам Бэрри, сотни ломбардов, магазинов секонд-хенд, ювелиров – ему самому лично приходилось иметь дело не менее чем с пятьюдесятью из них. Некоторые камни – те, что покрупнее и поизысканнее – обычно уходили в Европу, где их подвергали переогранке и продавали, но основная доля его добычи оставалась в Нью-Йорке. Бутлегеры, например, покупали их для отмывания огромных доходов – припрятывали в сейфовых ячейках и по мере надобности обналичивали.
Однако из большинства камней и жемчуга делали новые ожерелья, броши и кольца, которые опять покупали состоятельные нью-йоркцы. Некоторые покупатели знали или подозревали, что вещь краденая. «Тех, кто хочет подешевле купить драгоценности, обычно мало заботит их происхождение, – писала в 1927 году газета “Бруклин Дейли Игл”, – и если на украшении нет каких-либо опознавательных знаков, они непременно воспользуются случаем и его купят». И не исключено, что эти камни в один прекрасный день вновь окажутся в кармане вора. «У камушков, – отмечал Бэрри, – причудливый жизненный путь».
Он внимательнейшим образом изучал не только своих будущих жертв, но и саму теорию ювелирного дела. Из иллюстрированного еженедельника «Джуэлерс секюлар» он узнал, как на стоимость камней влияют размер, цвет, чистота и то, насколько они редкие. «Я не упускал ни единого аспекта», – рассказывал он. Ведь чем больше знаешь, тем больше денег можешь требовать со скупщиков. Те же обычно соглашались выплачивать лишь небольшую долю от стоимости краденых камней – где-то от десяти до двадцати процентов, – а значит, если Бэрри хотел лучше заработать, ему требовалась добыча покрупнее. В золотую пору своей карьеры, в середине 20-х, он, по его собственным оценкам, добывал драгоценностей как минимум на полмиллиона долларов, что приносило ему ни много ни мало сто тысяч в год – полтора миллиона в сегодняшних ценах. «Главная сложность, – сетовал он, – найти скупщиков, имеющих под рукой достаточно наличных для моих объемов».
Бэрри осваивал и совершенствовал новые приемы своего прибыльного ремесла. Он дал себе зарок ни за что не оставлять отпечатков пальцев и был буквально одержим перчатками. Он не снимал их даже в поезде по пути на дело и обратно: а вдруг проводник что-нибудь заподозрит, и тогда полиция найдет его отпечатки на отрывном талоне? К лестнице он голыми руками не притрагивался. Если в усадьбе был ночной сторож, Бэрри изучал маршрут его обхода территории и вычислял, в какое время лучше пробраться внутрь; лишь однажды – хвалился он – сторож застал его врасплох и ему пришлось удирать. Сторожевые собаки тоже не служили серьезной преградой – их несложно успокоить или войти к ним в доверие. У Бэрри был свой пес, и его запаха хватало, чтобы свирепый настрой сменился виляющим хвостом. Иногда, чтобы пес отвлекся и хоть какое-то время не вылезал из конуры, он приносил ему лакомство или приводил с собой суку. «Почти у всех сторожевые собаки – кобели, – отмечал он. – Это ошибка».
Он не жалел времени и труда на планы отхода. «Это обычный здравый смысл, – указывал Бэрри, – но некоторым жуликам попросту не хватает на него мозгов». Ведя разведку у очередной усадьбы, он всегда смотрел, где ближайший полицейский участок, и прикидывал, каким путем, скорее всего, поедет патруль в случае вызова. Если дом входил в маршрут полицейского обхода, он проникал туда, когда знал, что патрульный сейчас – в самой удаленной точке. «Всегда можно рассчитывать, что до прибытия полиции у тебя будет минут пять-десять, – отмечал он. – Хороший бегун, если он при этом пользуется головой, многое успеет».
Бэрри по несколько дней исследовал территории вокруг богатых анклавов в пригородах Нью-Йорка. Во время одной из таких вылазок он обнаружил скрытую в лесу тропинку, которая на протяжении около десятка миль – от Тарритауна до Йонкерса – шла рядом с основной дорогой, и порой, возвращаясь с успешной охоты, он ею пользовался, чтобы незаметно наблюдать, как навстречу со свистом несутся полицейские машины. Однако в большинстве случаев он предпочитал поезд, куда запрыгивал на мелких полустанках. При подготовке он изучал расписание и всегда знал точное время прибытия поезда, который быстро доставит его на Манхэттен. «На каждом деле, – хвалился Бэрри, – у меня все было распланировано поминутно – как на радио».
Что до систем сигнализации, Бэрри считал их лишь мелким неудобством. Отключить их, хвастался он, «практически детская работа». «Пинкертон», «Бернс» и прочие охранные компании нередко ставили таблички, предупреждая о сигнализации на территории. Предполагалось, что эти таблички отпугнут возможных незваных гостей, но для Бэрри эти предостережения служили подарком. «Они оказывали мне бесценную помощь», – отмечал он, ведь раз есть табличка, значит, в доме наверняка есть и ценности, достойные того, чтобы их охранять – и чтобы их украсть. Он заказал солидные визитки с логотипами крупных охранных фирм. Потом с визиткой в кармане спецовки и с сумкой инструментов в руках появлялся у входа в дом.
– Обслуживание сигнализаций, – объявлял он дворецкому или горничной, и его приглашали войти.
В доме его вели к шкафчику с главной панелью и тревожным звонком. На схеме обычно отмечались двери и окна, при открытии которых сигнализация сработает. «А дальше – секундное дело – перерезать пару проводков». В некоторых случаях он, оставляя провода нетронутыми, загибал язычок звонка, чтобы тот при срабатывании системы дергался беззвучно. «Простое решение, – объяснял он, – как с молоточком будильника: если его отогнуть, то не зазвонит». Завершая спектакль, он просил кого-нибудь из прислуги расписаться под документом, что система прошла проверку и находится в рабочем состоянии. Все готово – теперь через пару ночей сюда можно спокойно приходить.
Мастер в спецовке – это было лишь начало. Вскоре Бэрри изобретет куда более дерзкий сценарий, позволяющий просачиваться сквозь кажущуюся неуязвимость элегантных домов, которые он планировал обокрасть.
Глава 9. Американский Раффлс
Никто из гостей не мог припомнить этого привлекательного, обаятельного молодого человека, а вот он, похоже, знал всех. Он с легкостью присоединялся к светским беседам. Сыпал именами, болтал о пустяках. Он представлялся Артуром Гибсоном и, обладая изяществом и осанкой благовоспитанного джентльмена, постепенно превращался в эксперта по проникновению без приглашения на эксклюзивные лонг-айлендские вечеринки.
Артур Бэрри был интересным собеседниом, с которым комфортно. Он умел имитировать манеру речи гарвардских студентов – ему доводилось сталкиваться с ними в Массачусетсе, где он вырос. Внимательное изучение «Светского календаря» и газетной светской хроники превратило его в ходячую энциклопедию «Кто есть кто в высшем обществе Нью-Йорка». Он излучал самоуверенность и утонченность. В деловом костюме он выглядел неотразимо и больше походил на голливудского Бэрримора[16], чем на вустерского Бэрри.
В образе обходительного, добродушного Гибсона он запросто по-дружески общался с миллионерами, одновременно обдумывая, как бы половчее освободить их от бремени изысканных и дорогих ювелирных украшений. Особенно легко было попадать на светские приемы, когда их проводили в саду. «На этих вечеринках всегда полно народа и никто никого не знает». Он парковал свой «кадиллак» где-нибудь поблизости от усадьбы, перебирался через наружную стену, чистил щеткой смокинг. Прибыв на место, смешивался с приглашенными гостями. «Мужские и женские силуэты вились, точно мотыльки, в синеве сада, среди приглушенных голосов, шампанского и звезд»[17], – так Фрэнсис Скотт Фицджеральд описывал в «Великом Гэтсби» блистательные «садовые вечеринки» в аристократических усадьбах Лонг-Айленда. Бэрри оставалось лишь влиться в поток.
«С коктейлем в руке я спокойно проходил в дом, – вспоминал он, – дабы запечатлеть в памяти его географию». Никем не замеченный, он беспрепятственно шел наверх в поисках мест, где хозяева могли держать драгоценности, и намечал маршрут, которому будет следовать, вернувшись сюда через пару дней с ночным визитом.
Порой Бэрри интересовала не планировка дома, а гости, и он высматривал «самые нарядно украшенные дамские шеи и пальцы». Любовался выставленными напоказ драгоценностями и сразу начинал планировать, как и где он ими завладеет. Говорят, чтобы попасть на приемы для самых избранных, ему иногда приходилось наряжаться в форму дворецкого, а по меньшей мере однажды выдать себя за священника, для чего он надел пасторский воротник, и его пригласили в дом, который он намеревался обокрасть.
Бэрри был «…аферистом с развитым интеллектом… с мягким нравом и изысканными манерами, – как отмечал его биограф Нил Хикки. – Скрупулезность, трезвость ума, шахматистское внимание к правилам – вот что составляло основу его метода».
«Он был безупречно воспитан, – вспоминал Роберт Уоллес, один из немногих журналистов, кому довелось лично с ним побеседовать. – Умел превосходно себя держать, был интереснейшим собеседником и отчасти денди».
«Элегантный дьявол, – так Бэрри однажды назвал сам себя. – Хладнокровный, словно ледяная вершина».
Бэрри совершал преступления столь же идеальные и безукоризненные, как камни, которые он крал. Он проникал в дома и в жизнь людей, но большинство жертв не догадывались о его визитах, пока не обнаруживали пропажу ценностей. Иногда в это время они ужинали внизу, а порой уже спали всего в паре дюймов от прикроватной тумбочки, из которой он тут же выгребал их драгоценности.
– Это ты, Пол? – спросила однажды женщина, разбуженная звуками его работы.
– Да, – ответил Бэрри полушепотом, но она не купилась и громко завизжала. Ему пришлось быстро ретироваться.
Еще был случай, когда он не удержался и оставил «визитную карточку». Вынув драгоценности из считавшегося надежным тайника, вырезанного внутри толстой книги, он положил на их место две сигареты. А как-то раз, приметив из машины легендарного частного сыщика Уильяма Бернса, проследил за ним до дома, а позднее «просто забавы ради» проник внутрь и прикарманил камней на несколько тысяч.
Однажды Бэрри обокрал уэстчестерский дом доктора Джозефа Блейка и его жены Кэтрин, тещи знаменитого композитора Ирвинга Берлина, но вскоре вернул по почте весь свой улов – драгоценности на сумму пятнадцать тысяч долларов. Этот поразительный и благородный поступок он объяснил единственной фразой: «Мы не забываем людей, которым обязаны». Возможно, его совесть пробудили газетные сообщения о краже, где упоминалось, что доктор в Первую мировую служил военным врачом во Франции.
Однако подобные сомнения посещали Бэрри нечасто. «Любой, кто может позволить себе ожерелье за сто тысяч, может позволить себе и его утрату». В похожем ключе рассуждает бывший профессиональный вор Джон Роби, персонаж Кэри Гранта из фильма Хичкока «Поймать вора» (1954): «Если на то пошло, – говорит он, – я не крал у людей, живущих впроголодь».
«Одна из моих главных заповедей: сохраняй спокойствие, – признался Бэрри. – Я никогда не давал волю лишнему азарту». Он утверждал, что ни одна из жертв не пострадала от его руки. У него обычно имелся при себе револьвер, но он, похоже, выстрелил из него только однажды – когда спасался от полиции. По его словам, пистолет служил лишь средством припугнуть «клиентку», заставить ее молчать, а «такт и учтивость» сделают все остальное. Кроме того, оружие было своего рода страховым полисом, крайним средством на случай, если его вот-вот арестуют и отправят в тюрьму. «Я порой думал, – объяснял он, – что покончу с собой, если арест будет неизбежен». Большинство его краж проходили без сучка без задоринки. Но порой случалось, что ему приходилось бросать начатое, а пару раз в него даже стреляли, но всегда мимо. Одна пуля прошла столь близко, что задела булавку для галстука. «Почувствовав неладное, я сразу же сматывал удочки, – рассказывал он».
Непокорный малолетний правонарушитель преобразился в галантного афериста высшего класса. Бэрри был хамелеоном, внешним видом и манерой речи неразличимым на фоне окружавшей его аристократической среды. Достойный искусного актера талант к перевоплощению совмещался в нем с ловкостью мошенника-виртуоза и коварным умом криминального гения.
Артур Бэрри был вором-джентльменом. Американским Раффлсом.
Раффлса придумал британский писатель Эрнест Уильям Хорнунг. Поскольку его женой была Констанс Дойл, сестра Артура Конан Дойла, возник своеобразный, неожиданный сплав двух несовместимых литературных героев. «Великий детектив Шерлок Холмс и великий вор Раффлс, – указала “Нью-Йорк Таймс”, – стали своего рода двоюродными братьями».
«К чему работать, когда можно красть? – спрашивает лондонский джентльмен и звезда крикета А. Дж. Раффлс у своего друга Гарри Мандерса. – Разумеется, это дурно, но не всем же быть добродетельными, да и взять хотя бы наш принцип распределения богатства – разве это не дурно?» Так «взломщик-любитель» Раффлс в первом из двадцати шести рассказов о его приключениях логически обосновывает свою двойную жизнь (досужий джентльмен днем и взломщик сейфов с драгоценностями ночью), а также свою миссию перераспределения материальных благ.
Рассказы о Раффлсе, публиковавшиеся в период с 1898 по 1905 год в крупнейших журналах, а затем изданные в виде трехтомного сборника, пользовались огромной популярностью по обе стороны Атлантики. Критик Клайв Блум назвал его «последним викторианским героем и первым антигероем модернизма». Премьера пьесы по этим рассказам состоялась в Нью-Йорке в 1903 году, и затем труппа возила ее по всей Америке в течение трех лет. «История безупречного в социальном отношении персонажа, – отмечала “Таймс”, – была одной из самых нашумевших в театральном мире». В мире кино – тоже: среди сыгравших главную роль в немых киноверсиях был Джон Бэрримор. Спустя полвека после первого появления Раффлса, писал Джордж Оруэлл, «он по-прежнему остается одним из самых известных персонажей английской беллетристики»[18]. В 1905 году, в самый разгар первой волны Раффлс-мании, французский писатель Морис Леблан выпустил первое сочинение в длинной серии новелл и романов об Арсене Люпене, помеси Шерлока с Раффлсом, воре в цилиндре и с моноклем, который умел не только совершать преступления, но и раскрывать их. Этот бандит-джентльмен стал культурной иконой.
Раффлса зовут Артур – вероятно, почтительный кивок Конан Дойлу. В «Мартовских идах», первом рассказе цикла, оставшийся без средств Мандерс, которого Раффлс называет детской кличкой «Кролик», обращается к герою с просьбой спасти его от окончательного финансового краха, и тот вербует его себе в напарники. Мандерс потрясен, узнав, что у его школьного знакомца проблемы с деньгами не менее серьезны, чем у него самого, и именно благодаря преступлениям он способен оплачивать квартиру на фешенебельной Пиккадилли и держать марку. «Помимо собственной изворотливости, у меня нет решительно никаких источников дохода», – говорит ему Раффлс. Мандерс завороженно смотрит на их первый совместный улов после кражи в ювелирной лавке на Бонд-стрит. Раффлс выгребает на стол краденое добро. «Столешница переливалась блеском сокровищ», которые Мандерс перечислял: «кольца – дюжинами, бриллианты – десятками… бриллианты, испускающие разящие лучи; они ослепляли меня – слепили».
Раффлс считает, что стоит над законом, но твердо придерживается личного кодекса чести. Он верен друзьям, по-рыцарски великодушен с женщинами, чурается насилия и выбирает в жертвы, как правило, людей корыстных, коррумпированных и неприлично богатых – владельца рудников, например, который щеголяет своим неправедно нажитым состоянием, или аристократа, злоупотребляющего положением и властью. Что может быть лучшей мишенью для «основательно бессовестных» вроде него самого, рассуждает Раффлс в рассказе «Подарок на юбилей», чем драгоценности и дорогие побрякушки «бессовестно богатых»? И при этом ни одному истинному джентльмену даже в голову не придет злоупотребить гостеприимством. «Он может совершить грабеж в доме, куда приглашен в качестве гостя, – отмечал Оруэлл, – но жертвой будет лишь такой же гость, как он сам, хозяин – никогда».[19] Для джентльмена спортивная честь и чистая игра – превыше всего, даже если он мошенник, – а если не так, то это попросту «не по-крикетному».
Раффлс приобрел столь широкую популярность и известность, что само его имя «вошло в язык газетных передовиц», как писал журналист и эссеист Э. Дж. Либлинг. Если видишь в заголовке слово «Раффлс», значит, речь пойдет об учтивом воре, проникшем в высшее общество поживиться за счет богатых. Пресса начала соотносить преступления Бэрри с делами Раффлса уже в начале 1922-го, когда он проворачивал свои первые вечерние кражи в Уэстчестере. Бэрри слыхом не слыхивал о знаменитом персонаже и, озадаченный этими параллелями, однажды отправился в публичную библиотеку, где полистал одну из книг Хорнунга.
Несомненно, он был польщен. Кролик называет Раффлса человеком «невероятной дерзости и удивительного самообладания». Подобно самому Бэрри, он скрупулезно планирует свои кражи и по нескольку дней внимательно наблюдает за магазинами и домами, куда собирается проникнуть. Как и Бэрри, он предпочитает не носить оружия, а если и берет с собой пистолет, то надеется, что тот ему не пригодится. «Думаю, это придает уверенности»[20], – объясняет он Кролику после их первого дела. «Но случись что не так – легко оказаться в неприятном положении, даже пустить его в ход, а ведь это совсем не игрушка». В «Подарке на юбилей» Раффлс выносит из Британского музея изысканную золотую чашу, но потом проявляет патриотизм и возвращает ее королеве Виктории, «самой лучшей из возможных монархов», в качестве подарка на шестидесятилетие царствования. Когда Бэрри вернул Блейку его драгоценности, этот изящный жест был столь же великодушным и неожиданным.
В эпоху кровавых гангстеров и стрельбы направо и налево хитроумные кражи Бэрри выделяются на общем фоне. В 1925-м и начале 1926-го вооруженная банда во главе с Ричардом и Маргарет Уиттмор ограбила как минимум десять ювелирных магазинов, похитив драгоценностей на полмиллиона с лишним долларов. Они врывались с пистолетами наголо, запугивали продавцов, отвешивая удары рукоятками и «демонстрируя подавляющую мощь», как пишет Гленн Стаут, автор хроники их преступлений.
Роберт Лерой Паркер, известный под именем Буч Кэссиди, был бандитом-джентльменом, Артур Бэрри, воплощенный в реалиях Дикого Запада. В фильме «Буч Кэссиди и Сандэнс Кид» (1969) Пол Ньюман изобразил этого легендарного преступника, харизматичного главаря «Дикой банды» добросердечным и учтивым грабителем банков и поездов. Он был вежлив, благовоспитан, крайне редко прибегал к стрельбе и тщательно продумывал каждую операцию. «Мы извиняемся, – обратился он однажды к охранникам во время налета, – но нам известно, что вы сидите на огромной куче денег, а мы как раз сидим в огромной нужде». Один знакомый Буча описывал его как человека «на редкость приятного, обаятельного и даже культурного». Он, как и Бэрри, отбирал ценности только у тех, кто может себе позволить эти убытки, то есть в его случае – у неприлично богатых банкиров и железнодорожных магнатов. Рассказывают, что однажды, когда его банда ворвалась в очередной банк, чтобы взорвать сейф, сотрудники полезли в карманы за своими деньгами и ценностями. «Уберите! – приказал он. – Нам не нужно ваше, нам нужно их».
Еще одного преступника из породы Бэрри звали Вилли Саттон. Бруклинский ирландец, на пять лет младше своего коллеги по краже камушков, Саттон ограбил десятка два банков, положив в карман около двух миллионов, и за все это время не сделал ни единого выстрела. «Я задумывал и планировал свои налеты так, чтобы никто не пострадал», – однажды объяснил он. Саттон порой размахивал пистолетом или томпсоном – но исключительно ради угрозы. «Одними личными качествами и обаянием банк не возьмешь», – подчеркивал он. «Нью-Йорк Таймс» называла его «учтивым злодеем». Дабы застать людей в банке врасплох, он маскировался под курьера, охранника или даже полицейского, поэтому его прозвали Вилли-Артист. Один из следователей, которые в конце пятидесятых положили конец череде преступлений Вилли, считал его самым милым из тех, кого ему доводилось упрятать за решетку. Выбегая из банка после одного из налетов, Саттон на мгновение остановился, чтобы успокоить съежившихся от страха людей внутри. «Не волнуйтесь, страховка все покроет!» – крикнул он им.
В числе последователей Саттона был Форрест Такер, вежливый грабитель, имевший слабость к пафосным шмоткам и быстрым тачкам. Свой первый банк он взял в 1950-м и после этого – в перерывах между отсидками – провернул еще сотни налетов, последний из которых – во Флориде, когда ему уже стукнуло семьдесят восемь. В тот раз он остановился в дверях и поблагодарил кассиров, которых только что ограбил. «Этому парню надо отдать должное – у него есть стиль», – отметил один из отправивших его в тюрьму присяжных. Ограбления Такера всегда были педантично продуманы и отрепетированы, как театральная постановка. «Нужно присмотреться как следует, ты должен знать помещение, как собственный дом», – советовал он начинающим грабителям банков. Каким он пользуется оружием? «Просто реквизит», – ответил он. У Такера и в мыслях никогда не было в кого-то стрелять. «Ограбление банка – больше искусство, – сказал он журналисту “Нью-Йоркера” Дэвиду Гранну. – Насилие – первый признак дилетанта». Артур Бэрри непременно бы согласился.
«Его сценическое обаяние было безупречным, – писал о Бэрри журналист Роберт Уоллес, – вкус в одежде – превосходным, а в грамотной речи даже король Англии не услышал бы ничего подозрительного».
Вскоре Бэрри это докажет.
III. Джентльмен-вор
Глава 10. Косден и Маунтбаттен
Зашуршавшая в темноте штора разбудила спящего в паре футов от нее человека. Звук был такой, словно кто-то слегка задел ее – кто-то, вошедший в гостевую комнату.
«Это случилось перед рассветом», – вспоминал потом тот человек. Он прислушался, включил лампу. Но никого не увидел. Он вырос в роскошных домах с целым штатом дворецких, лакеев, камердинеров, горничных и привык к еле слышным, почти неразличимым звукам неприметно входящих и выходящих слуг. Возможно, в комнату заглянул кто-то из прислуги, решил он. Или штору потревожил порыв ветра из открытого окна.
Лорд Луис Маунтбаттен, гостящий у нефтяного магната Джошуа Косдена, офицер артиллерии британских ВМС, правнук королевы Виктории и кузен принца Уэльского, перевернулся на другой бок и вновь уснул.
Присоединившись в сентябре 1924-го к свите принца во время его поездки на Лонг-Айленд, Маунтбаттен с женой Эдвиной остановились в Сидарсе, усадьбе Косдена в Сэндс-Пойнте, на усеянном виллами северном побережье острова. «Золотой берег» – как называли эту территорию – представлял собой архитектурную мешанину из протянувшихся вдоль пляжей французских шато с коническими башенками, симметричных георгианских домов, элегантных строений в колониальном стиле. Каждый дом окружало мини-королевство – конюшни, пристройки для прислуги, ухоженные территории с тщательно подстриженными садами. Из соседей Косденов можно было составить реестр «старых денег» Нью-Йорка: Гуггенхаймы, Асторы, Вандербильты, Уитни. Новая вилла, Кловерли Мэнор, примыкавшая к территории Маунтбаттена, принадлежала Винсенту Астору – ему было всего двенадцать в 1912 году, когда его отец Джон Джейкоб Астор IV утонул вместе с другими пассажирами «Титаника», оставив малолетнему сыну 70 миллионов долларов – наследство, которое сегодня сделало бы его дважды миллиардером.
Предыдущим летом в поселке Грейт-Нек, отделенном от Сэндс-Пойнта бухтой Манхэссет-Бэй, снял дом Фрэнсис Скотт Фицджеральд. И именно там, в атмосфере «приятного сознания непосредственного соседства миллионеров»[21] писатель начал делать наброски персонажей и сюжета «Великого Гэтсби». В романе Грейт-Нек переименован в Уэст-Эгг – именно там располагалось увитое плющом шато таинственного Джея Гэтсби. Сэндс-Пойнт, стоящий в конце мыса, вдающегося в лагуну Лонг-Айленд-Саунд, превратился в фешенебельный и эксклюзивный Ист-Эгг, где в одной из тамошних пышных усадеб уединилась Дейзи Бьюкенен. Очень может быть, что вилла Бьюкененов написана с Сидарса.
Подобно Фицджеральду и созданному им Гэтсби, Джошуа Сэни Косден, не имея родословной с голубыми кровями, выбился в люди самостоятельно. Вместе с женой Нелли они ворвались на светскую сцену Лонг-Айленда, явившись из Талсы, где фирма «Косден энд компани» управляла одним из крупнейших в мире нефтеперерабатывающих заводов. Косден начинал продавцом в балтиморском аптечном магазине, но потом отправился на запад и обогатился на оклахомских нефтяных месторождениях. «Из земли хлестала нефть, а с неба лился денежный дождь», – писала «Майами Трибьюн» в статье о Косдене, но автор этого краткого резюме упустил из виду годы спадов и тяжкого труда.
Пусть его соседи по Лонг-Айленду и родились в богатых семьях, но зато Косден, которого за целеустремленность прозвали Боевой Джош, заработал состояние своими руками. В нем по-прежнему угадывался человек, помогающий рабочим на буровой скважине или сидящий за баранкой нефтевоза в те годы, когда эти скважины и перерабатывающий завод еще не успели сделать из него мультимиллионера. «Ни один сказочный герой не добился состояния и славы столь эффектно», – восторгалась нью-йоркская «Дейли Ньюс». «Шривпорт Таймс» писала, что биография Косдена – история из серии «как я стал богатым» и «мне все по плечу» в духе романов Горацио Элджера[22] – служит воплощением «духа Америки». «Ведь без таких, как Косден, людей, готовых идти на большие риски и с боем возвращаться на исходную позицию после каждого поражения, наша страна погрязла бы в косности и отсталости». Шестнадцатиэтажное здание штаб-квартиры, возведенное Косденом в центре Талсы, стало не только первым в городе небоскребом, но и памятником его амбициям и успеху.
К 1924 году этот «невысокий, одетый с иголочки энергичный человек» – как назвала его «Индианаполис Стар» – в свои сорок три уже успел обзавестись всеми атрибутами «ультрабогача»: восьмикомнатные апартаменты в отеле «Плаза» на Пятой авеню, семидесятикомнатная вилла в испанском стиле в Палм-Бич, поместье в Ньюпорте, Род-Айленд, охотничий домик в Канаде, собственный пульмановский вагон, названный «Странником». После покупки Сидарса, которым раньше владел Уильям Бурк Кокран – конгрессмен и пламенный оратор, учивший юного Уинстона Черчилля искусству политики и публичных выступлений, – Косдены вплотную подошли к дверям в высшее общество Нью-Йорка. Эта усадьба считалась одной из самых шикарных на северном берегу – сто двадцать с лишним гектаров полей и леса, включая три четверти мили прибрежной полосы, виды на бухты Манхэссет-Бэй и Хемпстед-Бэй. Косден построил новую виллу среди высоких деревьев, добавил поле для гольфа с девятью лунками и пришвартовал у пристани свою паровую яхту «Кримпер». После всех этих достроек и доделок стоимость дома с прилегающей территорией выросла до немыслимых по тем временам полутора миллионов долларов. «Дейли Ньюс» окрестила усадьбу «Нефтяным за́мком».
Чтобы попасть в круг нью-йоркских аристократов-землевладельцев, одних денег недостаточно. Но конкретно эти кандидаты без труда сделались там своими. «Косден имел все задатки славного парня, – отмечала писательница и публицистка Винифред Ван Дюзер, – а миссис Косден была женщина редкой красоты и обаяния». Последним камушком на весах стал конный завод в Виргинии и конюшня с тремя десятками скаковых лошадей. Чистокровные английские скакуны Джошуа Косдена – включая коня, шутливо названного Снобом II, который обошелся в неслыханные сто тысяч, – были постоянными участниками скачек на ипподроме Бельмонт-Парк, где собирались все неравнодушные к лошадям обитатели Лонг-Айленда. «Любой миллионер может водить лимузин, – объясняла Ван Дюзер, – но чтобы скакать на чистокровном английском скакуне – для этого нужен чистокровный английский скакун». На карикатуре, опубликованной в 1922 году виргинской «Таймс Диспатч», Косден в цилиндре, фраке и меховых ковбойских штанах галопом въезжает на коне в самую гущу вечеринки с коктейлями, рядом с ним – Нелли на своей лошади.
Кроме всего прочего, у Косденов имелся высший светский козырь – они были на короткой ноге с членами королевской семьи.
Маунтбаттен – Дикки, как называли его друзья и родные, – привлекательностью и амбициозностью не уступал боевому Джошу. Он был высок и худощав, продолговатое узкое лицо, копна волос и широкая улыбка баловня судьбы. Он родился во владениях Виндзоров на периферии королевской семьи, а в орбите принца Уэльского оказался в 1920 году, когда попал в число сопровождавших Эдварда в турне по Австралии и Новой Зеландии. Последовавшие официальные визиты в Индию в 1921 году и Японию в 1922-м еще больше укрепили их дружбу. Маунтбаттен был на шесть лет младше принца, но, благодаря зрелости и привычке брать инициативу в свои руки, он сделался его компаньоном и наперсником. «Милый мальчик», «ближе друзей не бывает» – так принц отзывался о Маунтбаттене, а тот в свою очередь считал принца «необыкновенным человеком» и «лучшим в жизни другом». Эдварду претила роль «будущего короля». «Терпеть не могу свою работу!» – жаловался принц личному секретарю, собираясь в очередное кругосветное турне. В минуты дурного настроения, когда возникала потребность выговориться о своей «прогнившей» семье, своей «гнилой» жизни, отзывчивая жилетка Маунтбаттена всегда была к его услугам.
В самый разгар поездки по Индии состоялась помолвка юного друга принца, его компаньона, с Эдвиной Эшли, дочерью члена Парламента. У нее имелись и собственные связи с Короной. Ее дед, банкир сэр Эрнест Кассел, в свое время выступал финансовым советником Эдуарда VII, и король согласился быть ее крестным отцом. После смерти Кассела в 1921 году Эдвина унаследовала два миллиона фунтов – чуть меньше ста двадцати миллионов сегодняшних долларов – и в свои девятнадцать стала одной из самых богатых женщин Англии. Ее волосы непокорными прядями падали на лоб, и их подстригали, чтобы прическа обрамляла лицо чуть выше подбородка с ямочкой. Она была умна, элегантна и под стать жениху отличалась поразительной для своего возраста зрелостью и самоуверенностью. «В лондонском светском обществе, – писал Филип Циглер, один из биографов Маунбаттена, – она сверкала неистовым блеском, который некоторых тревожил и почти всех ослеплял». Ослепленным сильнее других оказался Маунтбаттен.
Эта пара являла собой идеальную компанию для визита августейшего гостя в Америку. В 1922 году, после венчания – где свидетелем, нужно ли говорить, выступал Эдвард, – Маунтбаттены отправились в десятинедельное свадебное путешествие по Штатам. В Нью-Йорке они ходили на бейсбол, где однажды обменялись рукопожатиями с Бэйбом Рутом[23], на Бродвее посетили «Безумства Зигфельда»[24]. Ездили в Гранд-Каньон. В Голливуде гостили у Дугласа Фэрбенкса и даже мелькнули в эпизоде у Чарли Чаплина. Чета приближенных – «близкий родственник короля Англии» и «самая богатая в мире наследница», как назвала их «Вашингтон Геральд», – пленила прессу, особенно орду одержимых принцем репортеров.
«Никто из ныне живущих не может похвастать столь полным отсутствием права на личную жизнь, – писала “Нью-Йорк Таймс” в 1924 году накануне августейшего визита. – Принца Уэльского теперь обсуждают за завтраком, как погоду». Когда лайнер с принцем на борту входил в гавань Нью-Йорка, на причальной стенке его поджидали семь десятков репортеров с камерами и вопросами наперевес.
В море газетных репортажей и заметок то и дело мелькало имя Косден. В усадьбе у нефтяного магната принц как-то раз играл в гольф. Не успев приехать на Лонг-Айленд, он отправился на ужин к Джошуа и Нелли. Однажды принц был замечен вместе с гостившими у Косденов Маунтбаттенами поднимающимся на борт яхты «Кримпер». «Вероятно, Косдены, – сообщала вашингтонская “Ивнинг Стар”, – без особой шумихи развлекали принца чаще, чем кто-либо другой». Кто-то обратил внимание, что принц проводит у Косденов едва ли не больше времени, чем в доме, где остановился, – а остановился он на вилле у промышленника Джеймса Бердена в дюжине миль оттуда.
Артур Бэрри не мог не сделать стойку на имя Косденов. Чета значилась в «Светском календаре». Они постоянно фигурировали в разделах светской хроники, которую Бэрри внимательно просматривал, разыскивая потенциальных состоятельных «клиенток». «Нью-Йорк Трибьюн» и «Нью-Йорк Геральд» докладывали ему о каждом шаге Косденов: вот они в Сэндс-Пойнте, вот устраивают прием в своих апартаментах в «Плазе», а вот садятся в личный вагон, чтобы на зиму уехать в Палм-Бич. Их дорогие украшения тоже порой попадали в новости. В одной из них Нелли Косден представляла кольцо с крупной блестящей черной жемчужиной, которую газета «Палм-Бич Пост» в статье о драгоценностях знаменитостей назвала одной из самых изящных на свете. Но даже эта изысканная вещица меркла на фоне знаменитых «жемчугов Флетчера».
Айзек Дадли Флетчер, нью-йоркский фабрикант и коллекционер произведений искусства, сделавший состояние на продаже продуктов перегонки угля, в течение десяти лет собирал одинаковые по размеру и цвету жемчужины, а потом подарил собранное из них ожерелье жене. Наряду с черной жемчужиной Нелли Косден это ожерелье слыло одним из утонченнейших в мире образцов идеальной подборки жемчуга. После смерти Флетчера ожерелье продали, предварительно разделив на две нитки по шестьсот тысяч долларов каждая (эквивалент сегодняшних девяти с лишним миллионов), и одну из них Джошуа Косден купил своей жене. Газеты тут же опубликовали фотографии Нелли Косден с внушительными жемчугами на шее – публичной декларацией богатства и статуса пары.
Леди Маунтбаттен тоже весьма нечасто появлялась на фото без хотя бы одной нитки дорогого жемчуга. Уезжая в путешествия, она бо́льшую часть драгоценностей упорно брала с собой и продолжила эту практику даже после того, как вор, забравшийся в их летний дом на острове Уайт, прикарманил кое-что из ее коллекции. Украшения – как отметил автор ее биографии Ричард Хоф – дарили ей «утешение и покой». И сделали усадьбу Косденов еще более привлекательной целью для охотника за драгоценностями, виртуозного мастера вращаться в высшем обществе. Сцена для одной из самых дерзких и масштабных краж в карьере Бэрри была полностью готова.
Артур Бэрри припарковал свой «кадиллак» у края усадьбы. Было уже около четырех утра, но окна вовсю горели. Позднее он узнает из газет, что Косдены вместе с Маунтбаттенами и их спутницей Джин Нортон в тот момент только-только вернулись с танцевального вечера в поместье на том берегу бухты Хемпстед-Бэй. Примерно через час дом погрузился во тьму.
Повторяя путь, уже проделанный пару ночей назад, он прокрался к дому и по шпалере с розами забрался на крышу террасы. Ночь стояла теплая, так что найти открытое окно труда не составило. Планировку верхней части дома он изучил во время разведывательного визита еще в тот вечер, когда подружился с принцем. Спальная пятикомнатная секция Косденов располагалась в западной половине. Снятые перед сном украшения Нелли оставила прямо на туалетном столике. И Бэрри тихонько опустил их в карман.
Затем направился в соседнюю комнату к Маунтбаттенам, где сгреб побрякушки с подноса у постели леди. Он приметил бумажник, но стоило ему протянуть руку, как лорд заворочался. Бэрри еле успел нырнуть за оконную штору, в спальне зажгли свет. Когда в комнате вновь стало темно, он убедился, что пара спит и на цыпочках вернулся в главный коридор.
Визит в спальню Косденов принес Бэрри то самое кольцо с черной жемчужиной, булавки с бриллиантами и браслеты с рубинами в общей сложности на сто тридцать тысяч долларов. Украшения леди Маунтбаттен – три искрящихся бриллиантами кольца, рубины, сапфиры, изумруды плюс платиновый браслет с рубинами квадратной огранки – добавили к улову еще сорок две тысячи. Как стало известно из газет, в бумажнике, буквально выскользнувшем у него из рук, лежало восемь тысяч долларов в банкнотах. Бэрри понимал, что на вилле есть еще чем поживиться, включая бесценные жемчуга Флетчера, но, поскольку его только что лишь чудом не поймали, он решил, что пора и честь знать.
Через полчаса он снова был на Манхэттене. А к полудню уже успел сплавить скупщикам все камушки до единого. Если он согласился даже на десять процентов, то прошлая ночь принесла ему семнадцать тысяч долларов – больше четверти миллиона в сегодняшних ценах.
В одиннадцать утра 9 сентября Косдены и их гости еще спали, когда камердинер заметил отсутствие жемчужной запонки. Вскоре обнаружились и прочие пропажи. Косдены и Маунтбаттены известили о случившемся своих страховщиков. Частные детективы опросили прислугу и перерыли всю усадьбу в поисках следов и улик. Сторож, по ночам сидевший в одной из нижних комнат, утверждал, что ничего не слышал и не видел. Слуги, жившие в отдельном доме, свою причастность отрицали.
Косдены, стремившиеся во что бы то ни стало избежать потери лица и скандала, попытались сохранить кражу в тайне. Но уже на следующий день эта новость появилась на всех первых полосах рядом с сообщениями о приговоре одиозным чикагским убийцам Натану Леопольду и Ричарду Лебу (пожизненное заключение). Крепкая смесь изобретательного вора и супербогатых жертв, да еще и связанная с главным ньюсмейкером эпохи, принцем Уэльским, – перед такой историей устоять невозможно. «Дейли Ньюс» поместила фотографию Нелли Косден более счастливых времен, где она позирует в знаменитом жемчужном ожерелье. Балтиморская «Ивнинг Сан», задыхаясь, сообщила о том, что мишенями вора стали «две из числа самых богатых семейств Соединенных Штатов и Англии». Вылазка Бэрри вскоре попала в газетные заголовки по всему миру – от Роттердама до Шанхая. В Лондоне основные ежедневные издания снабдили читателей интимными подробностями о «Тайне камней Маунтбаттенов» и «Утрате леди Луис». За кулисами один британский, но живший в Америке разъяренный бизнесмен написал на Даунинг-стрит, грозя пальцем в сторону принца и его свиты за то, что те водят шашни с «социальными изгоями и парвеню».
Руководитель следствия, манхэттенский частный сыщик Джерард Луизи попытался выставить кражу малозначительным преступлением. «Тут не замешаны никакие криминальные профессионалы, – сказал он газетчикам во время осмотра усадьбы. – Небольшое хищение, совершенное жуликом средней руки». Визит принца, заявил он, едва ли как-то связан с этим делом, а скорее всего – вообще никак.
Никто ему не поверил. Появились сообщения, что за принцем по пятам следует банда международных воров, выжидающая удобного случая ограбить людей, с которыми он встречается. «Бруклин Дейли Игл» попала в самое яблочко, предположив, что к Косденам проник «джентльмен вроде Раффлса… учтивый, хорошо одетый человек с вкрадчивыми манерами», который «вращается в высшем обществе». У «Нью-Йорк Таймс» были схожие мысли: «Известно, что на светские мероприятия в честь принца проникали люди со стороны, – писала газета. – Опытному вору, знакомому с устройством высшего света, не составит труда попасть в богатый дом».
Косдены не стали заявлять в полицию. Фредерик Сноу, шеф отделения в соседнем поселке Порт-Вашингтон, пытался было начать расследование, однако Косдены отказались от сотрудничества. Но когда пара обратилась к нему с просьбой прислать людей для охраны усадьбы от газетчиков, он взял реванш и отправил к ним одинокого патрульного.
Окружавшие принца детективы из Скотланд-Ярда и полиции штата усилили меры безопасности. В день кражи на вечернем приеме в честь принца, где хозяином выступал страстный любитель гоночных машин и яхт Уильям К. Вандербильт, у входа в его усадьбу на Лонг-Айленде всех гостей тщательно проверяли. «Ни единого камешка не пропало, – иронизировала “Буффало Таймс”. – Ни одной жемчужины не исчезло с аристократического бюста». Среди гостей были Нелли Косден и Маунтбаттены, прибывшие прямо с гольфа, и – насколько мог судить репортер из «Дейли Ньюс» – они «ничем не выдавали своего огорчения» по поводу утраченных драгоценностей.
Расследование Луизи застопорилось. Он утверждал, что его людям удалось напасть на «существенный след», однако никакие имена не прозвучали и никого не арестовали. Появились теории о том, что кража – дело рук кого-то из своих – дескать, вора навел кто-то из прислуги, – но вскоре они были отброшены. Сообщалось, будто жемчуга Флетчера на шестьсот тысяч долларов тем временем лежали в незапертом ящике туалетного столика Нелли Косден, и отсюда делался вывод, что работал любитель. Другие же специалисты усматривали в этом факте подтверждение работы искушенного профессионала, который взял лишь то, что лежало под рукой, и не стал рыться в ящиках и шкафах, рискуя быть пойманным.
Через неделю после кражи Косдены все же встретились с местной полицией и объяснили, что не видели необходимости писать официальное заявление, поскольку расследованием занимались страховые компании. И громкая кража вскоре исчезла из газетных заголовков.
В ноябре страховщики Ллойда выплатили Косденам и Маунтбаттенам в общей сложности 125 тысяч долларов, компенсировав основную часть утраченного. «Поисками похищенных драгоценностей, – писала “Сан-Франциско экзаминер”, – занимались ищейки и в Европе, и в Америке – но тщетно».
Проникновение на прием к Косденам, экскурсия по ночному Манхэттену для наследника британского престола – роль стильного доктора Гибсона увенчалась богатым уловом и стала, как хвалился позднее Бэрри, кульминацией его «успеха в качестве вора-джентльмена». Но на самом деле это было лишь начало его профессиональной стези.
Глава 11. Жемчуг из «Плазы»
Ближе к вечеру последнего дня сентября он вышел из такси у зеленого оазиса на Пятой авеню, где начинается Центральный парк. Солнце уже опустилось за нависающее над ним здание, чья тень в форме зуба пилы падала на площадь Гранд-Арми-Плаза, давшую название известному отелю. Вдохновленная французскими шато форма сводов на крыше – высоко парящие верхушки фронтонов, закругленные башенки на углах, мансарды с люкарнами – тихонько нашептывала о Париже, но связывающий восемнадцать этажей лифт вовсю вопил о Манхэттене. Если по дороге от такси к главному входу в «Плазу» Артур Бэрри поднял глаза, его взгляд наверняка устремился на окна в юго-восточном углу шестого этажа, ведь он направлялся именно туда.
Открывшаяся пару десятилетий назад «Плаза» успела стать магнитом для тех нью-йоркцев, которые привыкли жить в роскоши «позолоченного века»[25] и ценили престижность самого местоположения – на Пятой авеню. Наследники легендарных состояний Гулдов и Вандербильтов стали там постоянными жильцами, заводя знакомства с соседями из мира «новых денег», включая прославившегося своими дрожжами Юлиуса Флейшмана или Джона Уорна Гейтса, чья колючая проволока внесла свою лепту в укрощение Запада. Собственные апартаменты в «Плазе» были лишним козырем, укрепляющим положение в свете, – как в случае с Косденами.
Собственники отеля вбухивали миллионы сверх запланированных расходов, лишь бы их постоянные жильцы «ощущали совершенство», недостижимое «ни в одном другом отеле мира». Их инвестиции в создание атмосферы роскоши вылились в тысячу шестьсот с лишним люстр, сверкающих под потолками, и отделанные золотом столовые приборы в обеденных залах. Рассказывая о главном банкетном зале «Плазы», один из современных летописцев жизни американского бомонда называет его «лучшим в Нью-Йорке местом для светских приемов». Когда Фрэнсису Скотту Фицджеральду понадобилось подобрать шикарный манхэттенский отель для стычки между Томом Бьюкененом и Джеем Гэтсби, выбор был очевиден: где еще может разгореться конфликт между двумя миллионерами, как не в апартаментах «Плазы»?
Лобби встретило Бэрри со старосветской элегантностью – мозаика на полах, позолоченные стеновые панели, кессонные потолки, белый итальянский мрамор со множеством прожилок. Он оделся, чтобы не выделяться на общем аристократическом фоне: синий костюм, жемчужно-серый галстук, черная фетровая шляпа. Коричневый кожаный портфель завершал образ бизнесмена, вернувшегося домой после поездки. Он направился в холл с украшенными бронзой дверцами лифтов. «Пятый», – бросил он лифтеру. Полдюжины стоявших с ним в кабинке людей видели, как он, выйдя на пятом этаже, пошел направо, удаляясь от лестницы. Стоило лифту закрыться, он тут же вернулся к лестнице и взбежал на шестой этаж. Шагая по коридору – до нужной двери было шагов двадцать, – он натягивал на руки серые шелковые перчатки. Общий ключ сработал, и через пару секунд Бэрри уже стоял в гостиной. Он ожидал застать апартаменты пустыми, но, прикрыв за собой дверь, услышал приглушенные голоса.
Бэрри замер на месте. Он тут не один.
Обитатели апартаментов, Джеймс и Джесси Донахью, провели лето 1925 года в Европе. Они отправились в путешествие, чтобы переждать ремонт своего дома в Верхнем Истсайде рядом с Пятой авеню, но когда вернулись в конце сентября, работы еще не завершились. Они могли отправиться на свою прибрежную виллу в Палм-Бич, где обычно по-царски развлекались зимой, или в саутгемптонскую усадьбу Вулдон Мэнор на Лонг-Айленде, их летний приют. Но предпочли дожидаться окончания ремонта в роскошной «Плазе».
Джеймс Пол Донахью был фондовым брокером с офисом на Парк-авеню. Его семья сделала некоторое состояние на непрестижном бизнесе – вытапливании жира. Они жили «обеспеченно, но скромно», – без обиняков оценила уровень их достатка нью-йоркская «Дейли Ньюс». Джеймсу никогда даже на секунду не приходила мысль о том, чтобы претендовать на включение в «Светский календарь», пока в 1912 году он не женился на Джесси Мэй Вулворт. Она была младшей дочерью того самого Фрэнка Уинфилда Вулворта, который совершил революцию в розничном секторе, открыв сеть из тысячи с лишним магазинов дешевых товаров. Пяти- и десятицентовые монеты он конвертировал в состояние достаточно крупное, чтобы для штаб-квартиры своей компании построить в Нью-Йорке шестидесятиэтажный небоскреб Вулворт-билдинг, который около двух десятилетий оставался самым высоким зданием в мире. Вулворт умер в 1919 году, оставив после себя состояние в пятьдесят пять миллионов, треть которого – двести восемьдесят миллионов сегодняшних долларов – досталась Джесси, превратившейся в одну из самых богатых американок. Сумма ее налогов за 1924 год составила миллион долларов – примерно столько же, сколько у основателя «Стандард Ойл», мегамагната Джона Д. Рокфеллера.
Миллионы жены позволили Донахью перейти от биржевой игры на новый уровень – попытать счастья за рулеточным столом. Он сделался завсегдатаем в одном из клубов Палм-Бич, где, как поговаривали, однажды просадил девятьсот тысяч долларов всего за одну зиму. Чтобы контролировать расходы мужа во время полосы неудач, Джесси договорилась с руководством клуба, что ему установят лимит и будут просить покинуть заведение по достижении определенной суммы проигрыша.
У Джесси Донахью имелась собственная страсть – драгоценности. И страсть эта – вместе с мужем-игроком – сжирала довольно солидные куски ее богатства. Она заказывала и покупала готовые дорогие украшения, предпочитая не держать их в сейфе, а выставлять напоказ. Появлялась на публике «разряженная, как принцесса, – в ошеломительных модных одеждах и усыпанная драгоценностями». Нью-йоркские газеты разместили множество фотографий с одного светского раута, где она – в огромной сверкающей тиаре, достойной блистать в лондонском Тауэре. «Нью-Йоркер» однажды с сарказмом назвал ее коллекцию «фамильными сокровищами Вулвортов».
Потом началась история с ожерельем. «Моя жена всегда любила жемчуга», – сказал как-то раз Донахью, и это он еще мягко выразился. Чета на протяжении почти десятилетия собирала розовые жемчужины. «Как только нам попадалась жемчужина, совпадавшая по оттенку с теми, с которых мы начали, – объяснял он, – мы тут же ее покупали». Считалось, что некоторые из них некогда принадлежали персидским царям. К 1925 году они собрали нитку из пятидесяти двух жемчужин, и Джесси Донахью носила ее не снимая – за обедом, за ужином, даже на заднем сиденье лимузина во время ежедневной автомобильной прогулки по городу. В Париже они тем летом нашли еще две жемчужины, идеально сочетавшиеся с остальными и достаточно крупные, чтобы стать главными элементами композиции. Их прислали в Нью-Йорк и 29 сентября доставили в «Плазу». В тот же день после обеда Джесси пошла к Картье на Пятую авеню, чтобы там их добавили к ее ненаглядному ожерелью, стоимость которого в результате выросла до четырехсот пятидесяти тысяч. Супруги оказались почти в одной лиге с Косденами, обладателями прославленных жемчугов Флетчера.
– Что ж, – заметил Донахью жене, когда они любовались новыми жемчужинами. – Полагаю, ожерелье завершено.
Это было накануне. А сейчас Бэрри стоял, прижавшись спиной к входной двери и прислушиваясь к голосам. Разговаривали две женщины, одна из них порой смеялась. Бэрри не мог разобрать, о чем они говорят.
Общий ключ он раздобыл у одного бывшего портье «Плазы». Бэрри нанял подельника, чтобы тот наблюдал за отелем и фиксировал передвижения супругов и их прислуги. Он ожидал, что в это время никого не застанет.
Как быть? Выскользнуть назад в коридор с пустыми руками? Или продолжить начатое, рискуя быть пойманным? Если его припрут к стене, он сможет выхватить револьвер, который обеспечит ему прикрытие для побега. Не прошло и секунды, и он принял решение – метнуть все же кости, поставив на то, что успеет обнаружить камешки раньше, чем кто-нибудь успеет обнаружить его самого.
Комнаты в «Плазе» соединялись дверями, давая возможность создавать апартаменты любой величины и конфигурации – как для кратковременных постояльцев, так и для тех, кто планирует оставаться здесь подольше. Однако эта концепция подразумевала наличие в каждой комнате еще одной, дополнительной двери – в главный коридор. Шесть комнат в апартаментах Донахью располагались буквой L, окна восточной стороны смотрели на Пятую авеню, а окна южной – на 58-ю улицу. Гостиная, куда проник Бэрри, была центральной, угловой комнатой. Спальня и ванная Джесси находились в той части, что выходит на 58-ю, то есть справа от Бэрри, а комнаты с окнами на авеню занимал ее муж.
Бэрри пересек гостиную и приоткрыл дверь, ведущую, если он правильно понял, в спальню. Там никого не было, но голоса зазвучали громче – из примыкавшей к ней ванной.
В туалетном столике он ничего не нашел. А вот в незапертом ящике бюро обнаружилась бархатная шкатулка, заполненная украшениями. Особенно выделялось великолепное кольцо с десятикаратным бриллиантом огранки «маркиз», к которому прилагались два кольца с бриллиантами поменьше, призванные окружить с обеих сторон и выгодно акцентировать красоту мерцающего солитера. Еще там лежали крупная булавка с бриллиантами и рубинами, еще одно кольцо, брошь и украшенный драгоценными камнями ридикюль. Бэрри сгреб все это в портфель.
Он просунул руку вглубь ящика и выудил шесть ниток жемчуга, завернутые в шелковую бумагу. Некоторые из них – наверняка имитация. Если допустить, что все они настоящие, то в его руке сейчас миллионы долларов.
«Самый простой способ отличить настоящий жемчуг от имитации, – позднее рассказывал Бэрри, делясь секретом, – это слегка потереть жемчужиной зубы. Если она настоящая, то будет ощущение трения, шершавости, а подделка – гладкая и плавно скользит».
Он проверил первую нитку. Жемчужины скользили. Он вернул ее на место и взял следующую – розовую, только что собранную из пятидесяти четырех бусин. А эти оказались шероховатыми и отправились в портфель вместе со следующей ниткой – из пятидесяти двух жемчужин, которые тоже прошли тест. Стоимость обеих ниток в сумме составит двести тысяч долларов.
Бэрри находился в спальне уже около трех минут. Он знал, что в любой момент сюда могут нагрянуть Донахью или кто-нибудь из слуг. Удовлетворенный уловом, он убедился, что гостиная пуста, и поспешил к входной двери. Когда он закрывал ее за собой, из ванной по-прежнему доносились голоса.
Он спустился по лестнице на пятый этаж, стягивая на ходу перчатки, а оттуда добрался до лобби на лифте. Выйдя из отеля, он на 59-й улице сел в такси, ехавшее на восток, но вскоре – на случай если за ним следят – попросил остановить. Там поймал другое такси, которое двигалось в противоположном направлении. Водитель высадил его на 115-й улице возле парка Морнингсайд, когда солнце уже садилось. До своего дома на 119-й улице он прошел пешком. В портфеле ощущалась тяжесть: камни и жемчуга на семьсот тысяч долларов – эквивалент сегодняшних десяти миллионов.
Дерзкая кража не заняла и получаса.
Когда пара одевалась к ужину, Джесси выдвинула ящик бюро, где лежали ее любимые жемчуга. Она сегодня уже надевала новое розовое ожерелье для обеда с мужем в одном отеле на Парк-авеню. Вернувшись примерно в полпятого, она завернула ожерелье в шелковую бумагу, чтобы жемчуг не портился, положила его в бюро и отправилась принимать ванну.
Через три часа ожерелья на месте не оказалось – вместе со второй ниткой и прочими драгоценностями.
– Это ты спрятал мои камешки? – крикнула она мужу, заподозрив его в розыгрыше.
– Нет, – ответил он, – даже не прикасался.
После осмотра всех комнат они поняли, что их обокрали. Вызвали гостиничного детектива. Позвонили страховщикам. Прошел целый день, прежде чем они решили обратиться в полицию, и газетчики тут же обо всем прознали.
Сочетание богатой жертвы и дерзкой, практически неосуществимой кражи – какой соблазн для прессы! «НАСЛЕДНИЦУ ВУЛВОРТА ОБОКРАЛИ В “ПЛАЗЕ”, – кричала первая полоса «Нью-Йорк Таймс». «Бруклин Дейли Игл» назвала произошедшее «самым успешным похищением драгоценностей за всю историю города».
Столь громкое преступление заслуживало реакции на высочайшем уровне. Комиссар полиции Нью-Йорка Ричард Инрайт лично помчался в «Плазу» и провел там почти два часа, утешая потрясенных Донахью. Он поручил это дело шефу сыскного отдела Джону Кафлину. Тот собрал команду из двадцати человек, а вести следствие назначил двух своих лучших подчиненных, лейтенанта Оскара Майера и сержанта Гровера Брауна, обладающих, как отметила «Бруклин Дейли Игл», «обширным опытом в расследовании краж облигаций на Уолл-стрит». Им приказали не останавливаться до тех пор, пока не появится имя подозреваемого и не найдутся драгоценности.
Можно ли говорить, что кражу провернули профессионалы? Газетчики предполагали, что группа искусных жуликов – «международных воров высокого калибра», как назвала их «Бруклин Ситизен», – следила за Донахью от самой Европы. Новые жемчужины прибыли в Париж прямо накануне кражи – выбор времени слишком идеален, чтобы оказаться совпадением.
Или это дело рук кого-то из домашних? Донахью не выходила из спальни, кроме тех десяти или пятнадцати минут, пока принимала ванну. Может, кто-то дал знать злоумышленнику, что путь свободен? Кафлин и его люди допросили горничную и камердинера, а также массажистку, которая была в ванной вместе с Джесси – именно их голоса слышал Бэрри, – и всех троих довольно быстро вычеркнули из списка подозреваемых. Также допросу подвергли сотрудников «Плазы», которые в тот день работали поблизости от апартаментов, но и их сочли невиновными.
Пресса вскоре набросилась на самих пострадавших, обвиняя супругов в попытках утаить информацию о краже. Джеймс в ответ заявил, что они, мол, опасались, как бы огласка не привлекла к их богатству внимание других воров и не сподвигла их похитить ради выкупа двух их сыновей-школьников. Это была слабая отговорка – ведь Джесси, постоянно щеголяя на публике в своих драгоценностях, и без того служила живым напоминанием о том, что денег у нее куры не клюют.
Фора в виде дня отсрочки – признал Кафлин – сильно помешала следствию. «Драгоценности пропали, и это все, что нам пока известно, – фыркнул он, отвечая на вопрос репортера. – Мы потеряли целый день, поскольку о краже нам сообщили не сразу».
Колкая «Дейли Ньюс», всегда с готовностью разоблачавшая слабые стороны миллионеров и знаменитостей, упрекнула Джесси в том, что та ежедневно носит дорогие украшения, в то время как многие состоятельные дамы чаще надевают имитации, а оригиналы хранят в безопасном месте.
Журналисты «Нью-Йоркера» сделали из нее и ее утраты объект для шуток: наследницу, конечно, освободили от «пары литров» камешков на «десяток миллионов пятаков[26]», но – прогнозировал журнал – она «без труда заменит пропавшие драгоценности их точными копиями из магазинов покойного батюшки».
Две вещи можно было констатировать с определенностью. Кем бы ни оказался похититель, он явно следил за супругами, знал обо всех их передвижениях. И обладал профессиональным знанием жемчуга. В ящике лежали шесть ожерелий, из которых четыре – как объяснил полиции Джеймс – были имитациями, парижскими подарками друзьям, и именно эти четыре остались нетронутыми. Преступник – человек, «тонко разбирающийся в жемчуге», указывала «Нью-Йорк Таймс», поскольку подделки столь высокого качества «ввели бы в заблуждение даже знатока».
У Кафлина, однако, на руках имелся важный туз. Он мог сделать получение прибыли от кражи практически невыполнимой задачей для этого продвинутого воришки. Все городские ломбарды и ювелирные магазинчики секонд-хенд получили предупреждение – держать ухо востро на случай, если появятся жемчужины и прочие украденные у Донахью вещи. Картье, собравший розовое ожерелье, предоставил фото и подробное описание каждой жемчужины. Эту информацию разослали по всем полицейским отделениям Северной Америки и телеграфом отправили в Лондон, Париж и другие европейские столицы. «Дейли Ньюс» исполнила свой гражданский долг, опубликовав фотографию ожерелья, чтобы весь Нью-Йорк был начеку. Кафлин предупредил похитителя из «Плазы»: «Сбагрить эти бесценные сокровища у тебя не получится».
Бэрри, скорее всего, посмеивался, читая интервью с Кафлином, где тот называл его «мастером воровского дела». Детектив даже не подозревал, что скрупулезно спланированное преступление, назначенное на время, когда в апартаментах никого не будет, едва не провалилось. И еще Бэрри наверняка мысленно благодарил Кафлина за предупреждение. Попытайся он сбыть украденное у Донахью добро, его бы тотчас поймали. Для продажи улова предстояло искать другие каналы. И он знал, к кому обратиться.
Глава 12. Великий Добытчик
В лобби «Эндикотта» Артур Бэрри уселся в кресло, развернул газету и принялся ждать. Семиэтажное здание отеля из тонкого ржаво-коричневого римского кирпича на Западной 81-й улице выделялось на фоне остального ландшафта Верхнего Вест-Сайда. Мраморный пол вздрагивал всякий раз, когда по надземной эстакаде сбоку от здания с грохотом проносился поезд.
Через вращающиеся двери в отель вошел высокий стройный человек с аккуратно подстриженными усами. Бэрри узнал его в лицо, и репутация этого человека тоже была ему известна. «Тайм» однажды назвал Ноэля Скаффу «самым прославленным из американских частных детективов». Его семья перебралась сюда из Сицилии, когда ему было девять, и детство он провел на подсобных работах в подрядной компании отца. Отец рано умер. Его бизнес достался сыну, но у того дело не пошло. Официального образования Ноэль не получил, но – как однажды написала «Дейли Ньюс» – «ему хватило ума, чтобы понять: на свете есть места, где деньги так или иначе добываются легче».
Устроившись на конторскую должность в знаменитое детективное агентство Пинкертона, он вскоре и сам стал принимать участие в расследованиях. Увидел, что искать улики, решать загадки и разрабатывать источники у него получается лучше, чем читать строительные чертежи. Обзавелся друзьями в криминальной среде, наладил там контакты, подсказывавшие ему верное направление при поиске похищенных украшений и прочих ценных вещей.
В 1920 году он открыл собственное дело. «Детективное агентство Скаффы» расположилось на самом юге Манхэттена, неподалеку от Уолл-стрит – по соседству со страховыми компаниями, миллионерами и их драгоценностями. Жертвы воров, не желая огласки, и страховщики в надежде снизить издержки нередко первым делом шли не в полицию, а к нему. Его прозвали Великим Добытчиком, он имел репутацию надежного профессионала, сумевшего вернуть хозяевам украшения на миллионы долларов. «Если их не нашел Скаффа, – писала нью-йоркская “Дейли Миррор”, – значит, они канули в Лету».
Бэрри встал с кресла и приблизился к человеку, которому звонил накануне, чтобы договориться о встрече.
– У меня есть кое-что интересное для вас, – произнес он.
Выйдя из гостиницы, они пересекли Коламбус-авеню и пошагали вдоль Центрального парка. Скаффа был повыше Бэрри, метр восемьдесят с лишним, а федора на голове визуально увеличивала рост. Они остановились и присели на лавку лицом к проезжей части.
– Имеется возможность вернуть камешки Донахью, – сказал Бэрри. – Сколько выложат страховщики?
Страховщики Донахью к Скаффе не обращались, но из газет он представлял стоимость украденного.
– Штук шестьдесят, – небрежно бросил он.
То есть примерно десятая часть общей суммы – столько же, сколько дали бы скупщики. Делая вид, что выступает в роли посредника, Бэрри запросил на несколько тысяч больше – в оплату собственных услуг.
Скаффа попросил пару дней, чтобы все организовать. Потом они снова встретились в «Эндикотте», оттуда на такси проехали через парк и вышли на Пятой авеню. Сели на скамейку, и Бэрри поставил между ними портфель. В своей записной книжке Скаффа набросал опись ожерелий и прочих лежащих в портфеле вещиц. Но тут сделка чуть не сорвалась. Скаффа протянул Бэрри чек на шестьдесят четыре тысячи долларов, но тот хотел только наличные.
Тогда они придумали «план Б», достойный шпионского романа: Скаффа обналичит чек в банке, а Бэрри, в свою очередь, спрячет драгоценности в надежном месте – таком, чтобы у него не было возможности нарушить договор и сбежать с добычей. Они взяли такси, отправились на вокзал Пенн-стейшн на Восьмой авеню, где Бэрри сдал портфель в камеру хранения, а квиток вручил Скаффе. Когда тот вернулся, они забрали портфель и вновь поехали к той же скамейке в Центральном парке. Скаффа переложил драгоценности в карманы и сунул Бэрри толстый конверт. Бэрри насчитал в нем шестьдесят четыре тысячные купюры – без малого сегодняшний миллион.
Убрав конверт в нагрудный карман пиджака, Бэрри пожал Скаффе руку.
– Быть может, еще увидимся, – сказал он.
13 октября Скаффа вошел в кабинет Джона Кафлина и положил на стол сверток в упаковочной бумаге. Внутри оказались те самые бесценные украшения, которые шеф сыскного отдела тщетно пытался найти вот уже две недели.
Вызванный в отделение Джеймс Донахью подтвердил, что это – украденные вещи. Скаффа поначалу отказывался объяснить, как эти бриллианты с жемчугами оказались у него. Адвокат, сказал он, посоветовал беседовать на эту тему только с окружным прокурором.
Скаффу тут же повезли в здание уголовного суда на Центр-стрит, где он два часа отвечал на вопросы Кафлина и Фердинанда Пекоры, главного помощника окружного прокурора, восходящей звезды в прокурорских кругах Нью-Йорка и политического хамелеона: сначала он поддерживал республиканца Тедди Рузвельта, а затем переметнулся на сторону демократа Вудро Вильсона. Как и Скаффа, он был сицилианец и точно так же еще в детстве вместе с родителями приехал в Нью-Йорк. Заслужил репутацию упорного сыскаря и самую, пожалуй, почетную для прокурора характеристику: «жесткий, но справедливый».
Скаффа поведал, что выплатить шестьдесят четыре тысячи долларов за возврат драгоценностей его уполномочил менеджер страховой фирмы «Чабб и сыновья». Человек, с которым он имел дело, представился Сэмом Лэйтоном, и это все, что ему о нем известно. Скаффа виртуозно пустил полицию во главе с Пекорой по ложному следу. В его описании тот человек выглядел старше, крупнее и смуглее, чем Бэрри. Само имя Скаффа придумал на ходу. И сказал, что они встречались лишь однажды – в люксовом отеле «Принц Джордж» на Восточной 28-й, в трех милях от «Эндикотта». Обмен камней на деньги, написал он в объяснении, состоялся в одном из номеров наверху.
Если полицейским вдруг захочется разыскать свидетелей, которые видели этих двоих вместе, то они пойдут не в тот отель, станут опрашивать штат и постояльцев гостиницы в другом районе города. По меньшей мере один из газетчиков – из «Нью-Йорк Таймс» – проявил достаточный скептицизм и выяснил, что никакого Скаффы в тот день в «Принце Джордже» не было.
Встречаться со Скаффой лицом к лицу – для Бэрри это был риск, но он все же сделал ставку на то, что детектив не станет сотрудничать с властями. Ведь украденные драгоценности – главная фишка Великого Добытчика, и если он сдаст полиции человека, который якобы действует от имени похитителя драгоценностей Донахью, то в преступном мире никто и никогда больше не станет иметь с ним дело. «Один раз надует, – резюмировал Бэрри, – и пиши пропало».
Скаффа в своей лжи продвинулся дальше. «Когда камни уже лежали у меня в кармане, – сказал он Пекоре, – Лэйтон якобы перезвонил ему и предложил сдать вора за дополнительные пять тысяч. «Дайте неделю, – упрашивал он, – и я уговорю Лэйтона вывести его – и полицию вместе с ним – на воришку из “Плазы”». Пекоре тогда не пришло в голову, что Скаффа блефует и пытается выиграть время, и он согласился. Объявил, что дает Скаффе шанс выявить и выследить злоумышленника. При этом он не стал распространяться, как именно драгоценности вернулись к хозяевам, но дал клятву, что «воришку» непременно поймают и арестуют.
«Никаких компромиссов с ворами! – заявил он. – Ни в этом деле, и ни в каком ином». Его босс, окружной прокурор Джоав Бэнтон, высказался в том же духе: «Никаких сделок с мошенниками!»
Пресса, однако, восприняла недельную отсрочку Скаффы как сделку с жуликами. Авторы передовиц всячески высмеивали атмосферу тайны, нагнетаемую вокруг возврата камней. «Общественность вправе знать факты», – грозно объявила «Дейли Ньюс», упрекая Пекору за то, что тот облачил всю эту историю в «покров таинственности». Раздавались требования арестовать Скаффу – ведь уведоми он полицию своевременно, детективы устроили бы ловушку и вор сидел бы уже за решеткой. «И это называется “охраной правопорядка”? – вопрошала “Бруклин Дейли Игл”. – Возврат награбленного не конец дела. Наоборот, это должно стать лишь началом». «Если полиция вместе с прокуратурой смотрят сквозь пальцы на то, как вор получает вознаграждение за свой улов, – предупредил один из бывших окружных прокуроров, – это наверняка послужит стимулом для новых жуликов». Профессиональные юристы подтвердили, что в соответствии с законами штата Нью-Йорк Скаффу можно было бы обвинить в целом ряде правонарушений: во-первых, приняв украденные ценности, он становится соучастником, а во-вторых, он препятствует расследованию, принимая деньги за сокрытие преступления или затягивание следственных мероприятий.











