Читать онлайн Понедельник завершается в субботу. Ностальгическая сказка для бывших младших научных сотрудников
- Автор: Лев Кирищян
- Жанр: Современная русская литература
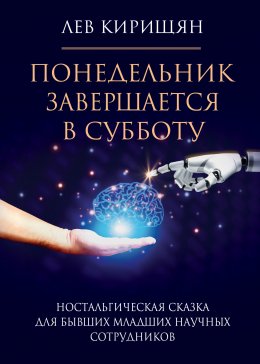
© Л. Кирищян, 2025
© «Время», 2025
© iStock, 2025
Посвящаю книгу моей дорогой жене и сердечному другу Ирине, сказочное долготерпение и помощь которой привели к появлению этой сказки
Человечество смеясь расстается со своим прошлым.
Карл Маркс
Предисловие
В некотором царстве, в некотором государстве, которого уже давным-давно нет на белом свете, жили-были два брата-сказочника. И писали они всякие сказки для взрослых, а однажды даже написали сказку про взрослых. Только написали они эту сказку не про всех взрослых, а только про тех, кого они хорошо знали. А звали этих взрослых «младшие научные сотрудники», или сокращенно м.н.с., и работали они в институтах, называвшихся Научно-исследовательскими институтами, или сокращенно НИИ. В этом царстве вообще любили многое сокращать. И делали в этих НИИ всякие чудесные и загадочные вещи, настолько загадочные, что даже для некоторых научных сотрудников, особенно младших, оставались загадкой. И тогда для таких вот непонятливых и написали братья-сказочники свою сказку, и назвали ее просто и понятно: «Понедельник начинается в субботу». И была эта сказка про НИИЧАВО, то есть про Научно-исследовательский институт Чародейства и Волшебства. И все мэнээсы, которые до этого «ниичаво» не понимали о многих чудесах и волшебстве, творившихся у них в НИИ, прочитав сказку, сразу все поняли и полюбили сказку так, что даже говорить стали фразами из нее, как, например: «Суета вокруг дивана» или «Кадавр жрал». Достаточно было сказать такое вот волшебное слово, и все сразу понимали, о чем речь идет, хотя ни в каком словаре такого волшебного слова, как, например, «кадавр», не было, а все равно читавшие сказку младшие научные сотрудники сразу все понимали и даже могли кадавров показать почти в любом НИИ. А вот кадавры не знали, что они кадавры, потому что сказки не читали и сами себя узнать не могли.
А потом в этом царстве-государстве царствовать стал Тот-Кто-Хотел-Все-Перестроить, но страшные кадавры окружили его и отняли у него царство. Только они не знали, что царство это было заколдованное и поэтому сразу исчезло, и НИИ все исчезли, а младшие и другие научные сотрудники разъехались кто куда по другим царствам-государствам. И стали там они кто учеными, кто инженерами, а некоторые превратились даже в программистов, хотя, честно говоря, так и остались в душе своей младшими научными сотрудниками, читавшими ту волшебную сказку, написанную в прошлом веке двумя очень добрыми и мудрыми братьями-сказочниками.
А потом захотелось одному из бывших мэнээсов, так и не ставшим программистом, узнать, как же так получилось, что НИИ все исчезли, а на месте их расплодились кадавры, которые все сожрали и оставили после себя то, что в сказке так подробно было описано, – пустыню! И тогда подумал этот бывший м.н.с., а может, и другим бывшим младшим научным сотрудникам это тоже интересно будет узнать? И решил он сотворить Зеркало, и посмотреть в него вместе с другими бывшими мэнээсами, чтобы понять прошлое свое, а значит, увидеть и будущее. Ведь в Зеркале так много можно увидеть, особенно издалека…
Однако, заглянув в Зеркало это, он увидел лишь светлую часть той жизни и мира, в котором работали и остальные научные сотрудники, ведь Зеркало это отражало лишь Свет. Нет не дало ответ Зеркало на вопрос: как же случилось, что Свет этот погас и наступила Тьма? И лишь после этого, понимая, что Зеркало не создает Света, а лишь его отражает, пришлось внимательно посмотреть в тень от Зеркала… в Зазеркалье. Это очень трудно смотреть во Тьму из Света. Но всегда находятся люди, именуемые пророками, которые находят в себе силы и мужество смотреть в Зазеркалье, чтобы увидеть Светлое будущее из Тьмы настоящего.
Часть первая
Зеркало
Иногда отражение в зеркале более реально, чем сам объект.
Льюис Кэрролл. Алиса в Зазеркалье
Глава 1
Новые веяния
Человек, который верит в сказку, однажды в нее попадает, потому что у него есть сердце.
Сергей Королев
Александр Петрович Привалин был младшим научным сотрудником, или сокращенно м.н.с., в Научно-исследовательском институте Числовой Электроники, Робототехники, Телеметрии и Автоматики, сокращенно НИИЧЭРТА. Впрочем, коллеги и товарищи звали его просто Саша. В Институт этот он был направлен работать по распределению после окончания МАИ, Московского авиационного института, который закончил по специальности «системы управления». Саша сидел за своим рабочим столом и смотрел в окно. Теоретически предполагалось, что он работает, и работа его протекает в мыслях. Но Саше не работалось, а мысли его в основном вращались вокруг процесса принятия во внутрь собственного организма пары кружек пива, конечно же, в кругу друзей. Друзья Саши обычно реализовывали этот вдохновенный процесс в заведении, именовавшемся в народе «Байконур». Название это не имело ни малейшего отношения к всемирно известным «воротам в космос», а было оно присвоено данному заведению его завсегдатаями благодаря старой военной ракете, установленной на пьедестал перед городским музеем Вооруженных сил. Музей этот по неизвестным причинам был возведен прямо перед окнами пивбара. Видимо, вид этой грозной ракеты должен был вдохновлять любителей пива к подвигам во имя страны и соответствующего технического прогресса ее же.
За окном Института в очередной раз начала свое традиционное буйство весна. В стране же завершал свой жизненный цикл спокойный период застоя. Поэтому работать не хотелось, а хотелось мечтать о светлом «завтра» и, видимо, еще более светлом «послезавтра».
Но вдруг этот сладостный круг предсубботних мыслей был прерван вызовом заведующего отделом, которого в глаза и за глаза называли в Институте Шефом. Саша был вызван на ковер в конце рабочего дня, недели, и вообще… это было просто бессовестно и даже бесчеловечно! И Саша пошел к начальству под сочувственные взгляды коллег, потому что к начальству просто так в конце недели не зовут, а если зовут не просто так, значит, предвидится «болезненный процесс ввода керосиновой клизмы с патефонными иголками и фитилем» – как обычно это называлось в отделе.
Однако, вопреки ожиданиям, Саша вернулся от начальства улыбающийся, возбужденный и одновременно с этим удивленный. Удивишься тут, когда ожидал получить клизму, а дали конфетку. В общем, что-то произошло не то!
Шеф деликатностью не отличался, а к молодым сотрудникам в особенности, и что-то давно никто не видел младших научных сотрудников, выходивших от Шефа в улыбающемся состоянии!
– Мужики, – сказал кто-то в лаборатории, – у нас либо Шеф испортился, либо Саша! Говори сейчас же, что стряслось, иначе пива лишу!
– О жестокий, – Саша артистично вознес руки к потолку, – не лишай меня, бога ради, божественного байконурского эля, и да воздастся тебе!
Саша вошел в роль, куражился, что-то там продолжал вещать, но нехороший человек сути не говорил.
– Слушай, Александр, не испытывай терпения коллектива! – воскликнул заведующий лабораторией, которого вместо имени-отчества все называли просто Завлаб. – Говори сейчас же, какая муха Шефа укусила или тебя – я не знаю!
Саша понял, что народ уже взведен, и начал удивительный рассказ о пережитом на шефском ковре.
– Значит, так, расскажу, ребята, – начал он, – не поверите, это не муха Шефа кусала, а само Министерство родное в лице кого – страшно сказать! Ну, то есть, как я понял, кусало наше Маленькое стерство не непосредственно Шефа, а Директора, естественно, ну а тот, соответственно, спустил «укус» по инстанциям. Ну вот и до нас докатилось, но уже в ослабленном виде! А суть в том, что в связи с наличием разрядки международной напряженности за окном нашему Микростерству умудрились выделить какую-то валюту. Соответственно, оно, трясясь от радости, накупило там, за бугром, всякого барахла. Как я понял, и нам перепала по разнарядке какая-то система, которая нам нужна как зайцу стоп-сигнал! Но, оказывается, ее к нам не только привезут, чтобы поставить в угол, а еще и какая-то их пусконаладочная бригада приедет все это запускать.
– А ты при чем, дорогой? – продолжал интересоваться Завлаб.
– А притом, – гордо подняв голову, отвечал Саша, – что им нужен, с одной стороны, человек, который что-то соображает в этих системах, а с другой стороны, сможет им что-то на английском языке умное сказать. И, предваряя ваш недостойный джигитов хохот, спешу сообщить, что начальство единственный раз за всю историю существования этой конторы поступило неестественно мудро, выбрав на эту роль меня!
Однако, несмотря на предупреждение, задорный хохот аудитории унять не удалось.
– Слушайте, ребята, – потупив взор артистически, произнес Саша, – ну чего вы на меня набросились. Ну, нужен начальству кто-то, кто бы с этой «бандой» сидел рядом, неужели непонятно. Ну и выбрали меня. Сидеть рядом – не работать ведь. А может, они все шпионы, и я совершу очередной подвиг на ниве защиты Отечества от утечки сверхсекретной информации о наших ржавых железках из стен родного Института?!
– Ладно, кончайте базар, – сказал Завлаб, – собрались в «Байконур», так идите, а то пиво кончится!
Прошло месяца четыре, вся эта весенняя суета уже было стала забываться, как вдруг в Институт приехал большой грузовик. Группа загадочного вида грузчиков в синих комбинезонах стала выгружать из него что-то очень импортное и, видимо, очень дорогое. Важность процесса была видна уже по тому, как сопровождавшее грузчиков начальство на грузчиков громко кричало и сильно возмущалось, что означало, что начальство переживало. Грузчиков было человека четыре, а начальства было человек шесть. Во всяком случае, четверо работали, а шестеро кричали. Но, видимо, сил начальства все же не хватило для достойного проведения процесса разгрузки, и к нему на помощь вскоре прибыло уже непосредственно институтское начальство. Далее вновь прибывшее начальство стало кричать сразу на всех: и на грузчиков, и на их начальство, и на водителя грузовика, и на сам грузовик, на котором гордо было написано: «УМ Треста СпецДорСтроймонтаж». При этом слово «УМ» в названии грузовика никакого отношения к его разуму не имело, а означало аббревиатуру от слов «Управление механизации». Кто этого не знал, мог, глядя на грузовик, впасть в заблуждение.
Потом начальства обоих контор сцепились друг с другом, размахивая какими-то очень важными бумагами, что позволило грузчикам наконец работать спокойно и выгрузить многочисленные импортные ящики и контейнеры.
Грузовик с грузчиками давно уехал, а начальство, прибывшее на отдельных легковых автомобилях, все выясняло свои взаимоотношения. Архитектура здания Института была явно рассчитана на подобного рода представления, ибо НИИЧЭРТА в плане был п-образен, что позволяло одновременно всем сотрудникам института, как в амфитеатре, наблюдать как процесс разгрузки «импорта», так и не менее задушевный процесс грызни приемо-сдаточных начальств.
– Опять что-то стащили… – провокационно предположил Саша.
– Не стащили, а недоположили, – поправил его умудренный опытом Завлаб.
– Друзья, я не понимаю, о чем песня! – продолжал Саша свою «трель». – Нет, вы мне скажите, а как в принципе может «импорт» дойти из экспортной страны до нашего Института в целости и сохранности, когда он такой разноцветный, а по дороге у него встречается столько наших портов, складов, грузчиков и самое главное – начальства?! Это же невозможно по определению.
Саша прочувствованно вздохнул.
– Чему я действительно удивляюсь, что какая-то часть импортных вещей все же доходит до стен родной конторы, а ведь могла бы и не доходить целиком, и никто бы не заметил. Так что радуйтесь и тому, что доехало!
А по Институту уже бегали институтские «девушки», трогательно спрашивая всех, не знают ли, что в «импорте», бижутерия или парфюмерия, и когда будут «давать», и самое главное – где, чтобы очередь занимать?! Но признаков «раздачи», как то: вызова руководителей отделов «на совещание», баррикадирования всех подступов к институтскому складу, бесследного исчезновения Главного Бухгалтера в районе директорского кабинета – не наблюдалось, что настораживало.
– Слушайте, ребята, тут что-то не то творится. По отсекам тишина, все местные институтские «орлы» на местах, – заподозрил кто-то в лаборатории.
– Ну да, и даже Шеф еще своей супруге не звонил, – заметил Завлаб, – я сейчас от него, сам не слышал! А уж Шеф-то рванул бы в первых рядах!
– Это как пить дать. Слушайте, а может, этот «импорт» не тот? – спросил один из ветеранов лаборатории, которого все звали Михалыч.
– Что значит не тот, а какой же еще?! – воскликнул Завлаб.
И тут вдруг Саша вспомнил про «систему» с пусконаладочной бригадой.
– Ребята, я, кажется, догадываюсь, в чем дело, – сказал он.
Все взоры в лаборатории устремились на младшего научного сотрудника Александра Привалина, причем на такого младшего, но все же сотрудника, что верить ему сразу же не хотелось.
– Похоже, час мой пробил, – с грустью в голосе сказал Саша, – и буду я сидеть безвылазно с этой «бандой» наладчиков, и по-«бандитски» с ними говорить, и пива пить мне никто не позволит!
– Ты это о чем, дружок? – похоже, в лаборатории Сашу никто не понимал, видимо, под гипнозом свежеразгруженного «импорта».
– Я это о том, друзья мои, что не «импорт» это, – продолжил свои догадки Саша, – а та самая система, которую нам родное Микростерство выделило. И вот это ее и привезли! А вслед за системой приедут и «империалистические» наладчики – и прощай «Байконур».
– Да, возможно, «устами младенца глаголет истина», – заметил Завлаб.
– А чего тогда так орали все там, внизу? Не скажи, кусок системы кто-то стащил к себе в огород парники с огурцами автоматизировать? – вопросил у Завлаба кто-то из лаборатории.
– А что и стащили! – продолжал Завлаб. – Что там на каком-нибудь местном складе много понимают? Увидели надпись на ящиках типа «МАДЭ ин ЮСА» и стащили на всякий случай. Потом, конечно, разберутся и выбросят, а нашему руководству каково? Примут, потом иди рассказывай высоким инстанциям, почему систему собрать не могут! И ладно бы еще, если бы систему «в угол» ставили, как обычно. А то тут, как «западная» бригада приедет, им-то, как нашим, не скажешь: «Извините, тут по дороге кусок вашей системы „недоположили“, приезжайте в другой раз». Тут уже не керосиновой клизмой пахнет, а, скорее всего, тротиловый. Головы у начальства враз отвинтят и на полку поставят, предварительно выдернув теплые сиденья из-под сильно развитых начальственных мест. Так что поорать было вполне почему!
В общем, общественное мнение лаборатории стало все больше склоняться к идее, что «давать» на этот раз ничего не будут, а Саше придется какое-то время пиво не пить, чтобы тонко чувствующие «империалисты» не были бы повержены наземь запахом из Сашиного рта, косвенно свидетельствующем о высоком качестве местного пива, производящей это пиво промышленности и, самое главное, общей безалкогольной обстановки в стране. И под самый конец дискуссии в лабораторию гордо вошел Шеф.
Шеф был человеком не злобным, но шумным. Он всегда придерживался правила, что сотрудников лучше переругать, чем недоругать. За что ругать? Такого вопроса у него никогда не возникало. Шеф обладал феноменальной памятью на любые проступки своих сотрудников или, точнее, поступки, которые Шеф считал проступками. Иногда казалось, что уже прошло много лет со времени того или иного события и, наверное, все о нем давно забыли, но не Шеф. Все, что могло быть использовано для «наезда» на своих сотрудников, им запоминалось навсегда, с тем чтобы потом быть использованным в «воспитательных целях». Но ныне у Шефа настроение было невоспитательным, поэтому он не стал прямо с порога рассказывать, что он конкретно думает о работе лаборатории за все время ее существования, а также о каждом из ее сотрудников, включая также и тех, кто давно уволился, перешел в другие отделы или покинул пределы страны.
Шеф сказал нижеследующее: «Я тут решил немного погулять из кабинета и зашел, чтобы вас всех предупредить, что с завтрашнего дня вы будете готовить Большую лабораторию под установку новейшей зарубежной системы, в чем-то похожей на ту, что мы разрабатывали два года назад для Уральского завода тяжелого машиностроения. Это понятно, я думаю?»
Фраза была типично шефской. Она начиналась с обязательного «Я», давала исчерпывающее объяснение, почему не лаборатория в полном составе была вызвана к нему, а Шеф зашел сам для дачи ценных указаний. Но главное – фраза эта подчеркивала, что новейшая западная система и в подметки не годится той, которая была бог знает как давно создана под его, Шефа, чутким руководством. И потому всему составу лаборатории должно быть совершенно понятно, что он, Шеф, вообще не понимает, почему эта система была руководством Министерства закуплена, но, соблюдая субординацию, прямо об этой глупости не говорит. Указания были выслушаны молча, а некоторыми даже стоя, так как Шеф лишних вопросов не любил, а сидячее положение своих сотрудников в процессе дачи им ценных указаний воспринимал как личное оскорбление с соответствующими последствиями.
Вообще-то говоря, Шеф специалистом в узкой области этой странной техники не был. Более того, он и не считал необходимым быть таким специалистом. Он считал себя специалистом более широкого профиля – крупным специалистом в области «человеческих отношений». Он считал, что «командир производства» должен, как и командир на поле боя, находиться в нужном месте и правильно стимулировать как раз тех работников, от которых зависит успех. В случае успеха главной его задачей было обеспечить получение лично ему полагающихся наград и премий, а в случае неуспеха точно знать, кто из «стрелочников» вверенного ему отдела виноват и должен понести соответствующее наказание. Эта безусловно правильная позиция была проверена временем и из года в год возносила его все выше и выше по служебной лестнице и по не менее важной лестнице личного благосостояния.
В качестве же основного средства «стимуляции» Шефом использовался так называемый разнос сотрудников. Обычно в процессе подобной стимуляции того или иного сотрудника из-за закрытых дверей шефского кабинета раздавался такой визг и грохот, которому могла бы позавидовать эскадрилья реактивных истребителей, взлетающая на форсированном режиме работы двигателей. А так как дело свое Шеф, как истинный профессионал, очень любил, то почти не прекращал этого увлекательного процесса стимуляции подданных ему сотрудников. Поэтому к концу дня он очень уставал, а отдел в Институте справедливо считался довольно шумным. Но, как справедливо заметил в свое время Михалыч: «Если вас ударят в глаз, вы, конечно, вскрикните. Раз ударят, два ударят, а потом привыкнете!» Так и сотрудники отдела постепенно привыкли к его обычной шумности, и даже, когда Шеф находился в нечастых командировках или в отпуске, им чего-то не хватало. Что-то во внешней среде было не то, какая-то стояла настораживающая тишина!
На следующий день в отделе началась соответствующая предподготовительная суета. Конечно, в первую очередь для подготовки лаборатории к размещению западной электронной системы было решено разработать соответствующий… плакат, вдохновляющего на подвиг содержания. Отдел вообще славился тематикой создаваемых в нем плакатов. К числу наиболее вдохновляющих мог бы быть отнесен плакат с надписью «Инженер – как тебе паяется?» с соответствующим паяльником посередине плаката и с двумя кругами схемных изображений транзисторов по бокам. Длительное время над Сашиной головой висел плакат с грозной надписью «Не влезай – убьет!», а в туалетной комнате красовался позаимствованный где-то в цеху сварочных работ могучий плакат с надписью «После работы, концы опускай в масло!» с соответствующей иллюстрацией того, как это правильно надо делать. В столовой Института местные шутники умудрились уговорить заведующего повесить плакат с надписью «Каков стол – таков и стул!». Заведующий был человеком малограмотным в тонких аспектах высокоинтеллектуального юмора, и поэтому этот замечательный плакат висел в столовой довольно долго, на радость его инженерно-техническим посетителям, пока его специальным распоряжением высокое руководство не указало снять. Собственно, длительность висения подобного рода плакатов и объяснялась тем, что высокое руководство столовую своим высоким посещением не баловало. А все вышеописанное указывало на то, что творческий потенциал по созданию вдохновляющих плакатов в Институте был.
Создание подобных плакатов всегда было привилегией младших научных сотрудников, потому что, а кого же еще? Вот и сейчас это важнейшее мероприятие было поручено Саше. Он маялся весь день в творческих потугах, но потом все же создал соответствующий шедевр, который гласил: «Неразрешимых проблем не бывает – просто знаний не хватает!» Безусловно, любой молодой человек узнал бы в этом плакате прямой пересказ известной поговорки: «Некрасивых женщин не бывает – просто водки не хватает». Плакат предполагался соответствующим, ибо Большая лаборатория считалась пусконаладочной, а при наладочных работах, как известно, возникают именно неразрешимые проблемы, граничащие с черной магией. Плакат, по традиции, был представлен пред очи Шефа, который долго на него смотрел, читал видимо, а потом изрек: «Самокритика – это хорошо, а особенно хорошо будет выглядеть этот плакат для американских наладчиков. Я представляю, как они будут себя чувствовать, когда не смогут там, в своей системе, что-нибудь запустить, а тут им плакатик этот все как раз и объяснит! Мол, у вас неразрешимые проблемы? Так это потому, что у вас знаний не хватает! Это правильно! Только надо бы плакат этот на английский язык перевести и снизу подписать – кто это сказал, например Шекспир там какой-нибудь, в общем американский автор!»
После разработки плаката Саша по громкой связи был вызван в Первый отдел. Вообще-то говоря, в разных организациях отделы, занимавшиеся секретностью и безопасностью организаций, именовались по-разному, но всегда почему-то имели номерные имена. Видимо, для того, чтобы никто не догадался, чем они там занимаются. Но все же большинству секретчиков очень нравилось называть себя первыми! Складывалось впечатление, во всяком случае внутри этих отделов, что они самые главные и организация без их присутствия будет немедленно растаскана многочисленными иностранными разведками и отдельно взятыми шпионами. С целью поддержания так называемого режима секретности, секретилось все, что можно и нельзя. Это, безусловно, создавало огромную массу сложностей. Все эти груды так называемой секретной литературы, включающей даже справочники и старые зарубежные технические журналы, десятилетиями занимали огромные площади организаций. Для прочтения сверхсекретных документов требовался так называемый доступ. А для получения «доступа» необходимо было прохождение специальных курсов о том, как эту «секретность» соблюдать. Далее требовались специальные подписки о неразглашении и т. д. В общем, Первые отделы, будучи по определению бюрократическими образованиями творческой части населения Научно-исследовательских институтов, на нервы действовали страшно. Поэтому, когда Сашу вызвали к Первачу, он громко и прочувствованно высказался, но пошел, а что делать?!
Когда Саша зашел в кабинет, то Первач писал что-то за совершенно необъятным реликтовым письменным столом. Писал он, видимо, столь важный документ, что минут пять не мог даже головы поднять и заметить наконец вошедшего. Саша стоял. Потом Начальник Первого отдела отложил написанное, грозно взглянул на Сашу, как Ленин на буржуазию, и начал звонить по телефону. Саша стоял. Будучи человеком очень занятым, Первач времени других не ценил, потому что вопросы секретности и безопасности были в его понимании важнейшими в организации. Саша стоял. Вдруг начальник всеинститутской секретности громко сказал, обращаясь к своему столу: «Войдите». Саша стоял. Тогда начальник еще более грозно посмотрел на Сашу и, еще более повысив голос, уже буквально крикнул: «Я сказал – войдите».
Саша сообщил начальнику как можно более вежливым голосом, что он уже вошел, причем минут десять назад. Начальник секретного отдела минуты две сверлил Сашу взглядом, а потом ледяным голосом сообщил ему нижеследующее: «Дерзите, так я вас отстраняю от возложенной на вас задачи с последующим представлением к увольнению из организации! Доступно?»
– Нет, не доступно, – ответил все тем же вежливым голосом Саша. – К работе с этими американцами я совершенно не рвусь, а уволить вы меня не имеете права по закону, так как я молодой специалист и работаю здесь по распределению после института.
– Грамотные больно стали, – продолжил Первач. – Думаете, что управы на вас нет? Но мы найдем! Я обсужу вашу кандидатуру с руководством Института. Идите, мы вас вызовем!
Саша был человек молодой, что позволило ему от следующего визита отказаться, причем вслух.
– А я больше к вам не приду, – заявил он. – Я здесь не в армии и не в тюрьме, с секретными документами мне работать незачем, на секретные объекты ездить не хочется. Так что ищите себе кого-нибудь другого, а я сюда больше не приду!
Вернувшись обратно в лабораторию, Саша радостно сообщил, что пиво пить он теперь будет безостановочно, так как Первач решил отстранить его от работы с «западными товарищами». Однако настроение его было испорчено основательно.
Завлаб позвонил Шефу и поведал вкратце «состав вопроса», но договорить ему не удалось, так как Шеф уже начал отвечать. Собственно, трубку телефона, можно было вполне положить на место, так как слышно было и так, причем всему этажу, причем весьма отчетливо и без телефонных помех.
– Он кто такой? – орал Шеф. – Я назначил своего сотрудника. Я принял решение, а этот старый хрыч будет мне тут рассказывать, как надо людьми руководить. Я ему сейчас расскажу, чем он должен руководить. Его дело там в какой-то его бумажке печать поставить, пусть ставит, что он мне здесь в эн-ка-вэ-дэ играет. Я ему сейчас позвоню!
О, великое изобретение – телефон! Спасибо мистеру Александру Беллу, что он изобрел устройство, которое сократило в сотни раз человеческое мордобитие, увечья и безвременную гибель! Теперь стало возможно смело говорить прямо в ухо обижаемому лицу все, что обижатель об этом обижаемом лице думает в данный конкретный момент. Причем говорить без всякого риска получить по собственному лицу непосредственно через телефонную трубку. С другой стороны, в порыве чувств можно было и влепить трубкой телефона по чему-нибудь, и даже эту трубку поломать к чертовой матери. А при достаточном количестве резервных телефонов диспут можно продолжить, пока телефонов хватит. Наверное, по этой причине у большинства институтского начальства телефонов вокруг их рабочего стола было несметное количество. Видимо, это открывало какие-то большие возможности в наиболее интересные моменты телефонных дебатов друг с другом.
Будучи крупным профессионалом в области «человеческих отношений», Шеф через трубку телефона стимулировал Первача как только мог. Он весьма развернуто поведал ему о своих тесных отношениях с наиболее близкими родственниками руководителя Первого отдела, которые у Шефа сложились в связи с не совсем правильным пониманием того, кто руководит его, Шефа, отделом. Особо близкие отношения, оказывается, имели у Шефа место быть по поводу наличия Первого отдела как такового. Причем отношения эти, как неожиданно выяснилось, имели место быть практически со всеми сотрудниками этого отдела, а также с его инструкциями и основными положениями. Беседа длилась не более получаса, за время которого было разбито: а) телефонная трубка – 1 штука; б) пепельница стеклянная – 1 единица; в) надежды на мирное решение вопроса – все.
И тем не менее Шеф, видимо, что-то недоговорил, то ли очередной телефон оказался «недоподключенным», то ли не о всех близких родственниках оппонента вспомнилось в пылу полемики, так как следующие полчаса невольные слушатели отдела вынуждены были выслушивать все то, что недовысказалось в недоподключенную трубку.
– В общем, пиво пить спокойно мне не дадут, – резюмировал диспут Саша.
– Не спеши с выводами, Сашенька, еще не вечер, – успокоил его премного видевший Завлаб. – Сейчас погоди, Шеф поскачет добивать Первача к Директору, а там еще не факт, что Директор, наш всеобщий любимец, его поддержит. Хотя кто его знает? Этого первоотдельного кляузника все терпеть не могут, но, знаешь, как говорится, «живя в стеклянном доме, не надо швыряться камнями». Директор у нас, как известно, дипломат. Так что, может, тебе и повезет, и «пожертвуют» они тобой, и будешь ты в «Байконуре» свои баки пивом заправлять!
Слово – дело! И действительно не прошло и пяти минут, как, оставляя за собой шлейф грохота и визга, Шеф рванул в директорский кабинет для выяснения в очередной раз «кто в доме хозяин».
Директорский кабинет представлял собой нечто принципиально отличное от самого Института. Во-первых, кабинет, который сам по себе был необъятен, имел перед собой не менее необъятную приемную, именуемую в Институте не иначе как «шлюз». Все это образование было в паркете, коврах на полу, дубовой обшивке стен, импортной офисной мебели, т. е. во всем том, что в остальном убранстве Института отсутствовало напрочь. Объяснялась эта категорическая разница тем, что кабинет и приемная представляли, по мнению руководства, так называемое лицо Института. При этом сотрудники Института, возвращаясь из этого «лица» к себе в лаборатории, уставленные аппаратурой «не первой свежести», и точно зная, на какие стулья можно садиться, а на какие опасно для жизни, вполне понимали гигантскую дистанцию между «лицом» Института и, видимо, его «задом».
«Шлюз» был оформлен проще, чем сам кабинет, так как посетители, ожидавшие приема Директора, должны были за время ожидания в «шлюзе» полностью ощутить принципиальную разницу между ними, шлюзующимися, и самим Самым. Время ожидания приема колебалось от одной секунды для особо важных гостей до нескольких часов для не особо важных сотрудников самого Института. В качестве ворот «шлюза», предотвращавших преждевременное попадание тех или иных посетителей, собственно, в кабинет, служил секретарский стол, обороняемый секретаршей Директора, Мариной Семеновной. Средствами обороны и нападения на секретарском столе служила целая дивизия телефонов, интеркомов, каких-то звонков, пультов и т. д. В центре же секретарского стола горделиво возвышалась реликтовая печатная машинка, которая помнила всех директоров, секретарей и секретарш, хладнокровно печатая приказы о вынесении благодарностей и вынесении из стен. Эта машинка олицетворяла собой всю долгую и непростую историю Института и называлась в народе «Железный Феликс», видимо, потому, что была практически ровесником соответствующему «рыцарю революции». Через подобный заслон мог пробиться к Директору не каждый, но не Шеф. Шеф, входя в «шлюз», «шлюза» как бы не замечал! Он не замечал ни дожидающихся своей очереди посетителей, ни грозного строя оборонительных предкабинетных укреплений с вечно что-то печатающей на «Феликсе» Мариной Семеновной. Более того, он не замечал Марину Семеновну как таковую, даже когда она грудью бросалась на Шефа, как на фашистский танк, изрыгая из себя шквал предупреждений, запрещений и возмущений. Шеф видел перед собой только дверь, за которой прятался Директор, и не было такой силы, которая бы могла остановить тушу Шефа с грохотом и ревом вваливающуюся в «шлюз».
Тем не менее какое-то психологическое воздействие на Шефа «шлюз» все же оказывал, причем дистанционно. Уже на подходе к директорским покоям в реве, изрыгаемом Шефом, переставали прослушиваться некоторые специфические обертоны, в основном связанные с «материнскими отношениями» Шефа и очередных его обижателей. Теоретически у Марины Семеновны, как у павловской собаки, давно должен был бы выработаться условный рефлекс на бессмысленность попыток остановки Шефа на его пути к Директору, но проходили годы, а рефлекс все не вырабатывался и не вырабатывался. На неоднократные гипотетические посылы по этому поводу Шеф как-то категорически отрезал: «Что? Какие рефлексы там могут вырабатываться, когда она в сто раз глупее любой собаки. Она же динозавр, а у динозавров ничего не вырабатывалось, потому они и вымерли!»
На этот раз Шеф ворвался в директорскую приемную с тезисом «Он кто такой, – я спрашиваю, – нет, кто он такой?». Марина Семеновна привычно рванула с места наперерез, рассказывая, видимо, окружающим, о том, что Директора сейчас нет, но он скоро будет. В ответ на это Шеф непосредственно и в упор спросил директорскую секретаршу: «Нет, этот мерзавец, он кто такой, я вас спрашиваю? Вот вы мне можете сказать, он вообще откуда здесь взялся?» При этом движение к директорской двери продолжалось. Марина Семеновна закрыла собой все обозримое пространство неузкой директорской двери. Складывалось даже такое впечатление, что секретаршу в основном и подбирали по этому размеру.
– Директора нет, – резко отрезала она. – Вы понимаете?!
– Как это нет, когда я с ним только что говорил, – грубо наврал Шеф. – Причем только что.
Несмотря на то что эта дешевая уловка применялась Шефом всегда, Марина Семеновна перед открытым и честным взглядом Шефа вновь смутилась. Это смущение вызывалось тем фактом, что в действительности никто в Институте не мог с определенностью сказать, когда же Директор, помещавшийся в своем кабинете, там есть, а когда он там «скоро будет», оттуда при этом не выходя. Далее Шеф вновь вопросил в голос: «Нет, он кто такой?!», отодвинул Марину Семеновну с занятой ею оборонительной позиции и вошел к Директору.
Встреча Директора и Шефа ведущего отдела в народе называлась «лед и пламень». При этом кто кого там гасил, а кто растапливал было заранее не предсказуемо. Хотя, вообще-то говоря, Директор, негласным прозвищем которого было Кот Леопольд, сотрудников своих как-то мирить умел. Прямо с порога Шеф непосредственно спросил Директора, которого в кабинете, по официальной версии, не было: «Он кто такой?» После чего дверь закрылась, а в «шлюзе» ожидающим осталось только догадываться, когда окончится очередное выяснение отношений.
Утром следующего дня стало ясно, что Шеф одержал очередную победу над предпенсионным энкавэдэшником, путем регулярного задавания вопроса о том, какой по номеру отдел «кормит» Институт, а какой «кормится». Последней точкой дискуссии было его заявление Директору о том, что если вмешательство со стороны «некомпетентных органов» будет продолжаться, то он их всех скоро «прекратит». И видимо, это подействовало, хотя и было не совсем понятно, кого и как будет «прекращать» Шеф.
Результатом достигнутой с таким шумом победы было официальное назначение Саши в рабочую группу для работы с «иностранными специалистами».
– Ну вот, что я тебе говорил, – радостно констатировал Завлаб. – Еще не вечер, а ты все «Байконур» да «Байконур»!
– Теперь, слушай сюда, – продолжил Завлаб. – По последним сводкам институтского Информбюро, в Большой лаборатории решено в «темпе аллегро» отсозидать местный вариант потемкинской деревни.
– Ну вы представляете! – воскликнул он. – Приезжают импортные специалисты и вдруг видят на месте разворачивания их сверхсовременной и всевычислительной системы стоит наш стол, оцарапанный многими поколениями наших наладчиков! А если они еще и смогут прочитать то, что там конкретно нацарапано?! международный скандал получиться может!
– А посему, – продолжал он, – из каких-то там фондов нам выделены: стульев вращающихся, никелированных – шесть штук; столы монтажные, новые – две штуки; шкафы и инструменты и, что самое потрясающее, нам, наконец, всего через два года после заказа, привезут столь долгожданный шлейфовый осциллограф и частотомер, которые, правда, для этих работ не нужны, но иначе мы бы черта с два их когда-нибудь получили.
– А теперь весь личный состав мобилизуется на уборку Большой лаборатории и расстановку предметов «первой необходимости». Вперед, заре навстречу с вениками и песнями! – резюмировал Завлаб.
Приведение лаборатории в порядок был, конечно, процесс, причем процесс нечастый. Необходимость в нем, как правило, возникала лишь при ожидании приезда какой-нибудь министерской или, еще страшнее, Межведомственной комиссии, которые приезжали принять очередную разработку Института.
Преображение лаборатории в приемо-сдаточное состояние включало три основных элемента. Первое – уборку мусора, копившегося там порой годами, проведение небольшого косметического ремонта помещения, включавшего покраску стен, побелку потолка и порой даже циклевку паркетного пола; второе – обстановку помещения лучшей мебелью, которую можно было найти в отделе, а порой даже и в Институте. Причем обязательным элементом убранства являлся так называемый уголок отдыха, включавший в себя совершенно необъятный диван, пару кресел и специально для этих случаев жившую в отделе пальму. Предполагалось, что члены комиссии будут, принимая работу, сильно уставать, что потребует их отдыха под пальмой, либо прямо же под пальмой и будут эту работу принимать. И третье – установку в лаборатории как можно большего количества всевозможной аппаратуры, как правило не имевшей никакого отношения к сдаваемой работе. Главное, чтобы аппаратура была бы блестящая, жужжащая и мигающая всеми лампами и экранами. Замысел, видимо, заключался в том, чтобы, с одной стороны, продемонстрировать, какие приборно-технические ресурсы были задействованы для выполнения сдаваемой работы, а с другой стороны, создать так называемый приборный шум, где среди всевозможных приборов вообще трудно понять, что сделано в рамках самой работы, а что нет.
Работы по развертыванию потемкинской деревни были в полном разгаре, когда к подъезду Института подкатил небольшой автобус. Собственно, появление автобуса вряд ли было бы замечено, если бы из него не стали вдруг доноситься некие загадочные звуки, причем довольно громкие. Саша выглянул в окно и ошалел – прямо у входа разворачивался небольшой духовой оркестр!
– Слушайте, мужики! – воскликнул Саша. – Я не понимаю, мы кого вообще встречаем, президентов, султанов или фирменных наладчиков?
А тем временем оркестр развернулся полностью и начал издавать уже не просто разрозненные звуки, но что-то отдаленно напоминающее мелодию. Каждый, кто хоть раз слышал, что такое настройка духовых инструментов, может оценить все мужество непроизвольных слушателей, которые были вынуждены слушать нечто, напоминавшее гимн Советского Союза и, видимо, гимн «импортной» страны, в течение всего пары часов, пока шла спевка оркестрантов у ворот Института. Вспоминалась душевная фраза из миниатюры Михаила Жванецкого: «Подождите, вы же еще не слышали наше звучание!» – «Я себе представляю!»
– Ну теперь нам осталось только флаги на башнях поднять и вооружить всех способных носить оружие для создания собственного почетного караула, – резюмировал Завлаб. – Тогда уже можно совершенно спокойно встречать дорогих «империалистов».
– Ага, и еще потом доблестный марш устроить всех трех родов бездельников нашего Института – администрации, месткома и страшно вымолвить… парткома, – добавил Саша.
– Ты это брось тут парады устраивать, – заметил Заведующий лабораторией, – так вы всех иностранцев распугаете! Как же мы потом разрядку напряженности будем проводить, когда они наше самое страшное оружие увидят.
– С чего это наша славная администрация вдруг стала являть собой «страшное оружие»? – вопросил наивный Саша.
– А с того, что, как в том анекдоте поется, они быстрее атомной бомбы экономику любой страны уничтожить могут, причем изнутри! – заверил Завлаб.
Глава 2
Встреча
Каждую вещь следует называть ее настоящим именем, и если боятся это делать в действительной жизни, то пусть не боятся сделать это хоть в сказке!
Ханс Кристиан Андерсен
И вот наконец настал День великой встречи технических представителей разных стран, народов и политических систем, в общем, какой-то современный вариант встречи на Эльбе. По этой вполне понятной причине в Институте не работал никто. Все ждали.
По этому поводу Саша задал лаборатории вопрос: «А вот если бы нас, мол, пригласили бы в какую-нибудь американскую фирму что-нибудь там пусконаладить, также встречали бы?!» Вопрос единогласно был признан дурацким, и только Михалыч сказал: «Нет, конечно, – у них там время – деньги, а у нас тут время – праздник, причем почти все время. Смотри, какое у народа настроение, как под Новый год! А всего-то делов, какие-то два парня приезжают из Штатов к нам в командировку. Не умеют они себе праздники из ничего устаивать».
– Зато живут хорошо, – заметил кто-то из-за угла.
Но Михалыч тут же отпарировал: «Это как же можно жить хорошо, если праздника нету! Ну шмоток там полно, ну еды всякой – праздник где? Вот у нас отстоял очередь, и, например, за чем стоял, вдруг досталось – вот это праздник! Победителем домой приходишь – все тебя тут же любят и уважают! Причем и в доме при этом у всех становится хорошее настроение. А у них что? Ну ты представляешь праздник в их какой-нибудь американской семье, когда отец из магазина салями там принес или кило апельсинов? Никакого праздника при этом не предвидится, когда там сто наименований всяких колбас, а апельсины в магазинах круглый год, когда же радоваться? А у нас при этом одни сплошные праздники. И вообще, по частоте испытания чувства неподдельного человеческого счастья в единицу времени наш человек должен быть уже давно занесен в Книгу рекордов Гиннесса!»
– Нашего человека надо заносить не в Книгу рекордов Гиннесса, а в Красную книгу, – заявил вдруг Саша. – Потому что на единицу испытанного счастья приходится по меньшей мере десятка испытанного несчастья, и баланс все ухудшается и ухудшается! Вот возьмите, к примеру, меня. Как я могу быть счастлив, когда я хочу выпить пива, а не могу?
– Саша, ты же не животное! – воскликнул Завлаб. – Это животные когда хотят, тогда и пьют, а люди пьют только тогда, когда могут! А ты, Саша, носишь гордое звание Человек!
– Ничего подобного, – возразил Саша, – вот наш Шеф, неугасающее светило отечественной науки, мне неоднократно заявлял, что я не человек, а младший научный сотрудник. А мэ-нэ-эс, с его точки зрения, человеком быть не может по определению! Следовательно…
Тут тихое журчание внутрилабораторного трепа было прервано звонком Шефа, который указал Завлабу спуститься на совещание к Главному Инженеру.
Вообще-то на совещания к Главному Инженеру всегда вызывался сам Шеф, но Шеф ведущего отдела к Главному Инженеру Института ходить не любил. Причин было две: во-первых, в то время как Шеф был специалистом в тонкой области «стимулирования» и «мативирования» сотрудников, Главный Инженер был специалистом как раз в области техники, и уже поэтому Шефу трудно было найти с ним общий язык. Во-вторых, была и более глубокая причина далеко не всем понятная с первого и тем более невооруженного знанием реалий взгляда. Эта причина была в том, что Шеф был назначен на свое место из так называемых партийных кругов, а Главный Инженер вырос до своего поста из просто инженеров. Шеф и Главный были не просто из разных команд, но из очень разных кругов общества. И хотя Шеф по рангу институтской иерархии находился в прямом служебном подчинении у Главного Инженера, обе стороны этого факта как бы не замечали. Конечно, Шеф, соблюдая табель о рангах, Главного Инженера «мативировать» не решался, а Главный со своей стороны вполне был доволен тем, что к нему на совещания ходит Заведующий ведущей лаборатории отдела, с которым можно по-человечески говорить, причем на организационно-технические темы без риска быть непонятым.
Как-то однажды Саша, «изобразив дебила на лице», как это называл Завлаб, громко спросил лабораторию о том, как вообще на посту Главного Инженера мог оказаться инженер. На что получил ответ от старейшины Михалыча, которому, по выражению того же Завлаба, терять все рано было нечего, кроме пенсии: «А кто же лямку тащить-то будет, у Главного „спины нету“. „Спина“ его – тяжкая доля, да и „спина“ эта, в общем-то, „беспозвоночная“».
– Как это «беспозвоночная»? – спросил Саша.
– А так, – отвечал Михалыч, – что, когда дадут ему под зад коленом, позвонить в его защиту с большого верха будет некому, вот и пашет как папа Карло, а чем ему еще за свое положение расплачиваться? То-то!
Так вот к этому «беспозвоночному» Главному Инженеру Института, которого и в глаза и за глаза в Институте звали просто Главным, и был вызван Завлаб на совещание. Вообще-то, слово «совещание» ко всему тому, что происходило в кабинете Главного, подходило не сильно. Главный был человеком открытым и до предела демократичным. Маленькая комнатка перед его кабинетом называлась предбанником только по традиции, так как в самом кабинете Главный «бани» никому и никогда не устраивал. Поручения Главного выполнялись больше из уважения к нему, чем из страха перед ним. Постепенно с годами вокруг него сколотилась прочная команда профессионалов, на которую он мог опереться в любой ситуации и которая, понимая обоюдную взаимозависимость, буквально грудью вставала на защиту Главного, когда возникала какая-нибудь очередная бюрократическая интрига против него. Был случай, когда при попытке назначить на его место какого-то очередного министерского паразита, более двадцати человек ведущих сотрудников, заведующих лабораториями, мастеров и даже начальников цехов Опытного завода одновременно подали заявление об уходе из Института и никакие уговоры и угрозы в отношении каждого из них не сработали. С другой стороны, и Главный на предложение так называемого повышения с переводом куда-то в министерские задворки, ответил отказом, на радость всей своей команде.
Типичная картина так называемых совещаний в кабинете Главного выглядела примерно следующим образом: Главный сидел на боку своего колченогого стула, прижав левым плечом к уху трубку одного из многочисленных телефонов. Правая рука его выполняла при этом одновременно ряд функций: что-то писала на очередном клочке бумаги, нажимала на кнопки интеркома, листала какие-то справочники или папки и т. д. Левая же использовалась для отдачи просьб и указаний на языке жестов. Но основную работу все же выполнял голосовой аппарат.
– Алло, это Фрязино? Я не слышу, это Фрязино? – громким голосом взывал Главный. – Иваныч, дай вон ту желтую папку.
Левая рука при этом показывала ориентировочное месторасположение папки, а лицо Главного принимало просительное выражение.
– Алло, Фрязино? – повторял он. – Я вам уже час прозвониться не могу!
Правая рука хватается за какой-то документ, а левая жестом подзывает кого-то из присутствующих.
– Алло, я хочу говорить с Кириллом Матвеевичем.
В это время кто-то из ранее вызванных сотрудников входит в кабинет, точнее, как правило, влетает. Главный прикрывает правой рукой трубку телефона, лицо принимает грозное выражение.
– Василич, где трансформаторы ТН–36? – возмущается Главный. – Двадцать четвертый цех их уже месяц требует, а ты мне их месяц обещаешь.
В это время кто-то отвечает в трубке телефона. Лицо у Главного мгновенно меняется с грозного на радостное.
– Кирилл Матвеевич! – восклицает он. – Да, это я. К тебе прозвониться, как на Марс слетать! Куда вы там все исчезли?
Пока слушается ответ, правая рука пишет кому-то записку, а левая кого-то подзывает. И все в таком духе примерно 25 часов в сутки и 8 дней в неделю!
Несмотря на шумность и суету, царившую на совещаниях Главного, рабочая часть населения Института ходить на совещания любила, так как именно там и получала реальную информацию о том, что, где и когда надо действительно сделать. Собственно, эти совещания и были тем координирующим звеном, которые увязывали работу различных частей Института. И Завлаб Большой лаборатории отправился к Главному.
А в это время в лабораторию заглянул Крокодил Гена. Собственно, Гена в свое время был таким же сотрудником лаборатории, что и Саша. Но далее пути их разошлись. Пока Саша пил пиво с друзьями в «Байконуре», Гена неожиданно стал активным комсомольцем, потом вожаком комсомольской организации отдела, большим любимцем Шефа, который и рекомендовал его на должность секретаря комсомола всея Института. Мнению Шефа, как крупного специалиста в области человеческих отношений, перечить было нельзя, и Гена стал вождем всего институтского комсомола. После этого перед ним открылись широчайшие перспективы в области комсомольско-партийной карьеры, после чего он и получил прозвище Крокодил.
В отличие от мультяшного крокодила Гены, удивительно доброго существа, реальный Гена являл собой прямо противоположные качества, соответствующие скорее природному оригиналу, за что и получил свое прозвище. Так же как и упомянутая рептилия, Гена был существом пресмыкающимся. Внешне он выглядел малоподвижным и ленивым. В действительности это было просто внимательное наблюдение за целью. Когда же цель оказывалась в пределах досягаемости, Гена становился очень шустрым и с широко разинутой пастью бросался на цель и заглатывал ее целиком. После этого наступал период переваривания, в течение которого он опять выглядел тихим и малоподвижным.
Не будучи столь крупными специалистами в области человеческих отношений, как Шеф, Саша и все его друзья давно раскусили этого проходимца. С завидной регулярностью они посылали его вместе со всем комсомолом на соответствующие не первые буквы алфавита, что, впрочем, Гену нисколько не волновало. Саша и ему подобные Геной просто не воспринимались как нечто, заслуживающее внимания. Внимания заслуживали совсем другие люди, с которыми Гена регулярно по комсомольским путевкам ездил в загородные санатории и дома отдыха на так называемые Школы комсомольского актива. Активность, которую Гена там развивал, приносила ему новые связи, а следовательно, и возможности, но, с другой стороны, сильно утомляла. Опухший от почти непрерывных пьянок и последующей активности почти всего актива, Гена возвращался в Институт в свой отдельный кабинет, где целую неделю был не в состоянии никого принимать. Справедливости ради надо сказать, что ни ведущие сотрудники отделов, ни заведующие лабораториями своих кабинетов не имели, но вожак всеинститутского комсомола был столь важной персоной, что без кабинета обойтись не мог никак. А должность его называлась «освобожденный секретарь», причем от чего освобожденный, никак не уточнялось. И вот именно этот освобожденный от каких-либо дел, обязанностей и, самое главное, ответственности за что-либо Крокодил и зашел в Большую лабораторию поприветствовать рабочий класс и прослойку между ним и крестьянством, именуемую советской технической интеллигенцией. Приветствие вожака выглядело бесспорно оригинально.
– Здравствуйте, товарищи дураки! – зычно воскликнул Крокодил.
– А пошел ты… – хором ответствовали товарищи-комсомольцы.
– Да устал я туда ходить, – как ни в чем не бывало ответствовал вожак, – ничего там интересного нет, а то, что вы дураки, вы и сами знаете, только не признаетесь даже сами себе.
В общем, Гена зашел поболтать, скучно ведь в кабинете отгороженным от всех сидеть весь день, а делать все равно нечего, потому как должность, освобожденная от работы. Зато потом, после приема зарубежных гостей, где-нибудь в рапорте о награждении особо отличившихся сотрудников руководство сможет честно вписать его имя. И действительно, ведь в самый разгар работ Гена был в центре событий и яркой речью вдохновлял молодых комсомольцев, делился опытом, проводил идеологическую подготовку перед встречей с представителями западной капиталистической страны.
– Ну вот, смотрю на вас, не нарадуюсь, – продолжал вдохновляющую речь Гена, – четыре человека с лаборатории пашут, Бела спит, Аня свитер вяжет, Михалыч пенсию ждет, Завлаб на совещании навечно, обо мне и речи нет. И что смешно, все регулярно зарплату получают, а вы, кстати, самую маленькую. Так вот вы и пашете больше всех – ну разве не дураки? И после этого говорят, что у нас нет эксплуатации человека человеком! На одного работающего десять отдыхающих приходится!
– Во главе с тобой, – заметил Саша.
– Со мной, но прошу быть честными, ни в коем случае не во главе, – уточнил Гена, – во главе у нас ум, честь и одновременно совесть практически всей нашей эпохи. Так что куда уж там мне?
– Слушай, а ты не боишься, что на тебя за подобные речи в конце концов настучат и загремит твоя карьера комсомольская? – вопросил Михалыч.
– Нет, не боюсь, – ответствовал Крокодил, – ибо знаю, куда этот «стук» ляжет, и даже знаю, что мне за это скажут. Ну, будет просто очередной раз повод вместе выпить. Так что не боись, ребята. Вы, главное, работайте, а уж мы как-нибудь разберемся друг с другом.
– Кстати, я слышал, Саша, – продолжал Гена, – там из-за тебя Шеф какой-то грохот поднял, звал, говорят, Первача на ковер, грозился что-то там ему оторвать очень важное на старости лет! Чего это он тебя так любит?
– Гена, ты не ревнуй, умоляю тебя! – воскликнул Саша. – Такую любовь, какую ты вызываешь у Шефа своими телодвижениями, никто из нас возбудить не может в принципе. А что касается грохота, так это у него не от любви ко мне, а исключительно от любви к собственным приказам! Уж тебе ли не знать гордый характер орла нашего и заступника всеинститутского!
– Что же касается нашего «пахания» и твоего «отдыхания», – продолжал Саша, – то это больше вопрос вкуса, что кому нравится больше. По мне, так уж лучше заниматься электроникой, которая мне интересна, чем с серьезным видом сидеть на ваших идиотских заседаниях и все голосовать, голосовать, голосовать! Я вот один раз, помню, посидел, так три дня тошнило, с тех пор не хожу больше, а что вы мне сделаете? Только взносы эти копеечные с меня на ваши Активы берете. Ну да ладно, побирайтесь уж – я щедрый. Пейте свою водку на здоровье!
– Ты, Саша, у нас молодец, ты у нас умный, ты у нас талантливый, а мне каково? – вопросил Гена. – Ну не понимаю я всей этой науки, а потому делать ничего не могу. Остается только возглавить работу и руководить.
– Но ты прав, это, конечно, дело вкуса, – улыбнулся Крокодил. – По мне же, лучше быть старшим комсомольцем, чем младшим сотрудником, пусть даже и очень научным. А на заседаниях это тебе противно, потому что ты ничего не знаешь и не понимаешь во внутреннем механизме этой системы. А мне по той же причине от твоей электроники тошно. Но блага жизни на этой части земной суши распределяются как раз в том самом механизме, знать который ты не хочешь, а не в твоей электронике. И механизм этот называется простым словом «власть».
– Ух ты какую речугу толкнул, – возмутился Саша, – ради бога, ты без этих громких слов! Власть была всегда и всегда, в ней были реально властвующие и всегда были в ней холуи! Но ты же знаешь, Гена, кто ты там! Когда мимо вашей конторы прохожу и распоряжения ваши читаю, один смешной анекдот вспоминаю. Хочешь, расскажу, посмеемся.
– Ну давай, – согласился Гена, – люблю анекдоты.
– Значит, сидит старый Лев, царь, так сказать, зверей, но старый и обессилевший, – начал Саша. – Сидит гордо, весь олицетворение силы и могущества, но сам знает, что на лапы свои опереться не может больше. Старый стал – сил нет! А есть-то хочется. Знаешь, силы раньше покидают организм, чем жизнь!
– Сидит, а тут мимо него лиса пробегает, – продолжал Саша. – Лев и говорит лисе: «Слушай, лиса, я тебя записываю на обед, придешь сегодня ровно в два часа, и я тебя съем, а пока можешь пойти и попрощаться со своими лисятами». Лиса думает: «Что делать, сам Лев приказал, не послушаешь – сейчас разорвет, а так хоть пойду лисятам своим напоследок приготовлю что смогу». Дальше мимо Льва пробегает заяц. Лев и говорит зайцу: «Эй, косой! Придешь ко мне на ужин, и я тебя съем! Я тебя записываю на восемь часов. А сейчас я тебя отпускаю домой, чтобы ты с зайчихой своей попрощался». Загрустил заяц, потом мимо Льва проходит ежик. Лев и говорит ежу: «Слушай, ежик, ты хоть и колючий весь, но я тебя записываю на завтрак. Придешь ко мне утром часов в девять, и я тебя съем». Ежик взглянул на Льва и подумал, а что терять-то, хоть пошлю его напоследок как следует, а там пусть жрет, иголками моими давится! И послал его подальше вместе с его списком. «Ну ладно, – говорит Лев, – раз это вызывает у тебя такое возмущение, тогда я тебя вычеркиваю».
– Смешной анекдот, правда? – ухмыльнулся Саша, – так вот вся ваша компания мне напоминает того самого льва! Ноги этого льва уже не держат, потому что опорой ему теперь служат такие, как ты! А потому мы тебя посылали, посылаем и посылать будем! А ты будешь нас все время вычеркивать и вычеркивать!
– А в отношении того, как мы работаем на тебя, – продолжал Саша, – тоже народом тезис придуман: «Вы делаете вид, что платите нам зарплату, а мы делаем вид, что работаем». Так что такие вот дела.
– Ну ладно, – собрался уходить Гена. – Давай подождем несколько лет, а там время всех само рассудит, чего уж сейчас об этом говорить! Жизнь, она знаешь какая, она сама кого надо, того и вычеркнет. Посмотрим, знаешь ведь – «практика критерий истины». Время оно всем все покажет.
Видимо, время, выделенное вожаку на агитацию и пропаганду, кончилось, и Крокодил Гена удалился в свой кабинет!
А в коридоре тем временем происходила какая-то беготня. Собственно говоря, беготня происходила давно, но заметили ее только сейчас, потому что перепалка с Крокодилом отвлекла несколько от текущих событий. Вскоре влетел вернувшийся с совещания Завлаб и сообщил, что «империалистов», как ни странно, встретили и ни с кем там, в аэропорту, не перепутали и вот уже едут.
Перед входом в Институт уже было возведено некое подобие трибуны. Все это странное образование было задрапировано красной материей, а на вершине всего сооружения гордо высился совершенно невероятных размеров микрофон. Вокруг микрофона бегало человек пять из отдела Главного Электрика, которые куда-то тянули провод от микрофона и кричали «Давай-давай», а сам Главный Электрик регулярно стучал пальцем по микрофону и говорил в него «Расс-расс-расс». Наконец микрофон подключили к динамикам и от звуков «Расс-расс-расс» стали звенеть институтские стекла, а потом усилитель возбудился настолько, что выдал в эфир совершенно непереносимый визг. Как раз в это время из дверей Института появился Шеф, причем он, видимо, пребывал в не менее сильном возбуждении, чем микрофон, потому что, размахивая руками, стал что-то очень энергично объяснять Главному Электрику вместе со всем его отделом, но перекричать микрофонный визг все-таки не мог. И тогда Шеф обратился непосредственно к микрофону с призывом «Заткнись, сволочь!», и микрофон немедленно затих. А так как вышеприведенный призыв испуганный микрофон успел-таки выдать в окружающую атмосферу, то одновременно с микрофоном заткнулся и Шеф, удивленный таким обращением к нему со стороны микрофона.
Все сотрудники Института хорошо знали, что Шеф ничего просто так не делал, и уж если он вышел встречать гостей, значит, они вот-вот приедут. Сотрудники Института, собранные на площадке перед входом специально для приветствия американских наладчиков, несколько приободрились и даже на всякий случай стали размахивать флажками. Эти флажки двух ныне дружественных держав, СССР и США, были заранее подготовлены районным комитетом партии, которому и была поручена вся организация встречи. Собственно, у райкома была даже блистательная идея провести специальную тренировку по правильному маханию флажками, но, слава богу, у кого-то хватило ума догадаться, что неправильно размахивать флажками, вообще-то говоря, трудно. Все уже вроде бы было подготовлено, только автобуса с оркестром не наблюдалось. А во двор уже въезжали три «Волги» одинаково черного цвета с приблизительно одинаковыми номенклатурными номерами. Из машин по очереди вышли все руководящие лица, включая Директора Института, а после этого появились и американские гости, точнее наладчики. Их было двое, и вид у них был в лучшем случае сильно удивленный, если не сказать ошарашенный. Видимо, ни в одной другой стране, куда они приезжали для установки оборудования своей фирмы, их так не встречали. Никто перед фирмой заказчика не устраивал митингов и не махал флажками, наоборот, это их фирма всегда благодарила фирму-заказчика за контракт на поставку их оборудования и старалась обеспечить хорошее обслуживание. А так, чтобы с флажками встречали, – такого не было! Складывалось даже ощущение, что гости вообще не понимали, что они гости, а почему-то думали, что они сюда работать приехали. Высокое руководство поместилось на красной трибуне, куда были доставлены и гости с сопровождавшей их переводчицей. И тут Директор произнес речь.
– Дорогие товарищи! – воодушевленно начал он. – Сегодня у нас знаменательный день.
На этом содержимое оперативной памяти Директора закончилось, и он достал соответствующую бумажку, на которой, видимо, и была записана вся остальная речь.
– Сегодня, впервые за всю долгую историю нашего Института, – продолжил Директор после недолгой паузы, – мы встречаем представителей рабочего класса США, наших коллег по работе в наиболее высокотехнологичной отрасли – создании вычислительных систем.
Речь Директора была непривычно краткой, хотя и привычно демагогической и длилась всего сорок минут, что было столь не похоже на его обычные многочасовые выступления на частых торжественных заседаниях, куда собирали почти всех сотрудников Института. Однако в этот раз Директор был предупрежден в райкоме партии, что хотя холодная война и закончена вроде, но США пока еще не являются братской социалистической страной, и поэтому речь должна быть сдержанной и соответствовать, так сказать, текущему политическому моменту.
Представители рабочего класса вновь обретенной дружественной страны продолжали тем не менее выглядеть сильно удивленными. Через полчаса после начала директорской речи они попросили переводчицу предупредить менеджеров компании (так они именовали руководство Института), что, в соответствии с контрактом, работы по монтажу вычислительного комплекса должны начаться сегодня в двенадцать часов пополудни. Переводчица безусловно поняла просьбу американцев, но не решилась перебивать речь Директора. С другой стороны, она понимала, что надо донести просьбу американцев до руководства Института. Поэтому она тихо обратилась к стоявшему рядом с Директором человеку очень внушительной, а значит, и очень руководящей наружности. Как догадывается прозорливый читатель, это был Шеф. Шеф выслушал переводчицу, не глядя на нее, потому что отрывать взгляд от вещающего высшего руководства было, с его точки зрения, верхом неприличия. Далее Шеф кивнул, хотя было не очень понятно, был ли это кивок согласия с безусловно правильной речью Директора или кивок переводчице в смысле того, что он понял суть вопроса. Молоденькая переводчица совершенно растерялась и не знала, что же отвечать американским специалистам. Специалисты же совершенно нагло посматривали на свои часы, разве что еще не стучали пальцами по циферблату. Шеф боковым зрением видел все это и думал: «Вот хамье эти американцы, никакой культуры и уважения к выступающему, кроме своего поганого бизнеса, ничего знать не знают, только свое время-деньги считать умеют». Представители же рабочего класса США в свою очередь терялись в догадках в отношении того, почему руководство фирмы-заказчика оттягивает начало работ. Не могут же они не понимать, что время, отводимое на пусконаладочные работы, ограничено и, естественно, должно быть увязано с планами компании-заказчика по использованию закупленного и, очень дорогостоящего, оборудования. Во всяком случае, в других странах время простоя подобной системы считалось даже не по часам, а по минутам. Причем их фирма, прежде всего, рекламировала очень высокую надежность выпускаемых систем, что снижало непродуктивные простои как самой вычислительной машины, так и связанного с ней периферийного оборудования. Правда их компания еще не имела опыта по поставкам вычислительных систем в СССР, но ведущий менеджер их компании специально указывал, что это «пайлот-контракт», первая поставка, и поэтому как качество работ, так и в особенности сроки ввода системы в эксплуатацию должны соблюдаться особенно тщательно.
А в это время к воротам Института, фыркая и пыхтя, подкатил автобус с духовым оркестром. Ну опоздали на полчаса, всякое в жизни бывает. Музыканты, люди искусства, так сказать, часов не очень наблюдают. Руководитель оркестра, правда, быстро сориентировался и решил приурочить музыкальное приветствие если не к началу, то хотя бы к концу речи Директора. И вот перед явно обалдевшим взором руководства Института оркестр, гремя трубами и литаврами, выгрузился из автобуса и начал нестройными рядами строиться перед начальственной трибуной. Шеф инстинктивно рванул головой в сторону микрофона, и все флажки резко замерли, так как любой, кто видел физиономию Шефа в этот момент, с абсолютной точностью поняли, что Шеф «щас пошлет»… причем сотрудники шефского отдела даже прочитали на его лице, в каких конкретно выражениях будет сгенерирован «посыл». Директор Института, который недаром носил гордое звание «Кот Леопольд», шестым бюрократическим чувством остро ощутил назревавший международный скандал. С другой стороны, тормознуть Шефа в его порыве «про-мат-ивировать» создавшуюся идиотскую ситуацию было задачей не из легких. Однако перед мысленным взором Директора уже весьма отчетливо вырисовывался райкомовский ковер, где Шефа, конечно, пожурят для приличия за «мат-ивацию» оркестра перед лицом международной общественности, но главный удар за потерю контроля над ситуацией влепят, конечно же, ему, Директору. Причем влепят, как говорится, по самое что ни на есть «не хочу». Но Директор не случайно и не зря так долго руководил столь крупной организацией. Будучи человеком проницательным, с быстрым и гибким умом, он практически моментально принял правильное решение. На мгновение, прервав собственную речь, он обратился взором к руководителю оркестра и, слегка сдвинувшись на трибуне так, чтобы преградить рефлекторное движение Шефа к микрофону, сказал: «Спасибо, товарищи музыканты, за ваше участие в этом столь знаменательном событии как для нашей организации, так и для нашего города в целом. Ваше выступление мы все ждем после торжественной части», что означало после его, Директора, речи. Шеф резко осадил порыв чувств, переводчица опять не поняла, надо ли переводить эту чисто техническую реплику. Руководитель оркестра продолжил ощущать традиционную гордость за свой ударно-духовой коллектив. Флажки снова стали размахиваться, демонстрируя восстановившуюся разрядку международной напряженности, а американцы уже просто не отрывались от циферблатов своих импортных часов.
Минут через пять после этого критического момента Директор завершил свою речь, что и продемонстрировал шумным сворачиванием речевой бумажки.
Шеф зааплодировал первым, за ним аплодисменты подхватил и весь дружный коллектив Института. И тут грянул оркестр… Что он грянул, было совершенно неузнаваемо, но ясно было, что оркестр духовой и дух его весьма торжественный. Директор вытянулся в струнку. Шеф неожиданно для всех взял под козырек, которого не было. Дошедшие же до ручки американцы вдруг выпрямились и приложили правую ладонь к левой части груди. Это, видимо, означало, что они каким-то чудом распознали в издаваемой оркестром духовой какофонии свой родной американский гимн. А вот это уже святое, это вам не болтовню переводчицы слушать!
После гимна Соединенных Гражданской войной Штатов Америки оркестр сделал небольшой перерыв и какое-то странное перестроение в своих рядах, что, видимо, позволило затем затянуть уже нечто просто похоронное. Где-то к середине произведения наиболее одаренные слухом смогли уловить неясные элементы мелодии гимна Союза ССР, поэтому на трибуне никто не расслаблялся, а американские коллеги как стояли, держась за сердце, так и продолжали стоять до тех пор, пока звуки музыки не выдулись из оркестра окончательно. После этого Директор Института пригласил всех присутствовавших на трибуне в «банкетный зал», чем удивил очень многих, включая и вконец обалдевших иностранцев. Большинство присутствовавших даже и не знало, что в Институте есть специальный зал для банкетов, не догадываясь, что институтская столовая может быть названа столь звучно. Обалдевшие же иностранцы никогда не видевшие, чтобы банкетные залы были бы частью высокотехнологических компаний, на всякий случай переспросили переводчицу: «Ланч-рум?»
– Но, – ответила переводчица. – Банкуэт-холл!
Тем не менее они вновь попросили переводчицу сообщить Директору, что компания, в которой они работают, выделяет на период пусконаладочных работ 72 часа, или трое суток, плюс возможный сдвиг срока сдачи на час в случае непредвиденных и независимых от наладчиков задержек. Далее они утверждали, что это время очень точно рассчитано и так как срок начала работ наступил уже полчаса назад, это может привести к сдвигу времени сдачи комплекса в эксплуатацию, а следовательно, и нарушить планы компании-заказчика по использованию этого дорогого оборудования.
Директор долго и очень внимательно слушал переводчицу, несколько раз переспрашивая, правильно ли он понял смысл предложения. После чего он спросил у Шефа, действительно ли в Институте есть какой-то план дальнейшего использования этого вычислительного комплекса, и если есть, то откуда об этом известно американцам? Шеф изобразил по этому поводу на лице полное недоумение, ответив, что его отделу, во всяком случае, этот комплекс нужен как щуке зонт и что, если там, в Министерстве, не знают, куда вышвыривать валюту, могли бы вначале «провентилировать вопрос на местах», что означало спросить вначале у него. Директор улыбнулся Шефу своей леопольдовской улыбкой и попросил не срывать «мероприятия» резкими заявлениями и не ставить американскую систему «в угол» хотя бы до конца пребывания американцев, да и вообще «держать систему в горячем резерве», то есть в относительно рабочем, а точнее, «демонстрабельном» состоянии, на предмет появления какой-нибудь нежданной министерской комиссии.
После этого Директор спросил американских специалистов, выделяет ли их компания своим сотрудникам время для еды в период указанных 72-х часов? Американцы, будучи джентльменами, не смогли не сказать всей правды по этому вопросу.
– Да, – сказали они, – время на ланч и кофе-брейк учтено.
Директору очень понравилось словосочетание «кофе-брейк», которое переводчица перевела как «короткий перерыв на кофе». Поэтому он сразу же включил этот новый, но звучный термин в свою речь.
– А почему бы нам ни начать нашу работу, – вновь обратился Директор к американцам, – с небольшого кофе-брейка в честь возобновления технического сотрудничества двух великих держав, СССР и США. При этом Директор улыбнулся своей обезоруживающей улыбкой.
Переводчица в точности перевела заявление Директора, в особенности соблюдая порядок произнесения великих держав – вначале СССР, а уже потом США. Переводчица знала, что подобные ошибки в дипломатически важных заявлениях порой могут стоить карьеры. Место ее работы досталось ей нелегко: Институт иностранных языков, Курсы специальной подготовки по работе с представителями капиталистических стран, многочисленные экзамены и проверки ее профпригодности, задействование всех возможных связей и знакомств друзей ее семьи для рекомендации ее, молодой и красивой, на это место. Более того, она знала, что в «группе сопровождения» обязательно есть человек из спецорганов, который следит за ее работой и о любом промахе с ее стороны доложит в соответствующую инстанцию. Поэтому она очень тщательно подбирала слова, учитывая, какой смысл это слово может нести в данном контексте, и поэтому очень нервничала, так как впервые участвовала в столь важном мероприятии.
Американцы же поняли заявление Директора со своей, так сказать, колокольни. Они решили и даже обменялись репликами между собой, что компания заказчика, видимо, в этом году показала большой доход и, для того чтобы списать с налогов на представительские расходы, и устраивает подобную пышную встречу – один оркестр, наверное, сколько стоил. А надвигающийся кофе-брейк в банкетном холле? И все это трудно учитываемые наличные выплаты, что потом позволит списать с налогов гораздо больше! Ну в общем, вполне распространенная практика. И тем не менее, решили они, руководство компании официально предупреждено о сроках ввода системы в эксплуатацию, и, видимо, этот сдвиг по времени учтен в их планах. Поэтому руководство компании само теперь несет ответственность за оконечный срок завершения работ и предъявлять претензий по этому поводу не будет. Ну хотят они начать с кофе-брейка, Бог в помощь!
– О'кэй, – сказали американцы, – гона старт фром кофе-брейк, го эхед!
Фраза была не совсем английская, а из американского сленга, но переводчица была человеком интересующимся и эту чисто американскую фразу перевела гораздо вежливее, чем она звучала в оригинале:
– Хорошо, – перевела она. – Если вы желаете начать с перерыва на кофе, мы не против.
Как когда-то писали Ильф и Петров в своем нетленном произведении «Двенадцать стульев», в этот день Бог послал на… кофе-брейк, стол накрытый в лучших традициях ресторана «Метрополь». Похоже было, что райком партии при явном участии и более высоких инстанций решил перед лицом представителей международного пролетариата метнуть бисера так, чтоб мало никому не показалось. Чтобы организовать такое, нужен был широчайший доступ в столь малодоступные для трудового народа места, которые народом этим и назывались «закрома Родины». Вообще, при взгляде на этот стол у стороннего наблюдателя могло сложиться впечатление, что начало пусконаладочных работ намечено было явно не на сегодня, а в лучшем случае – на послезавтра. Называть это застолье кофе-брейком было бы если не откровенным плевком в сторону его устроителей, то уж, во всяком случае, издевательством над их гостеприимством.
Тем не менее, когда зарубежные гости были приглашены в зал, лицо Директора счастья явно не выражало. Причина выяснилась довольно быстро, так как он очень вежливо, но без своей извечной улыбки спросил Начальника отдела снабжения: «Где шампанское для встречи? Я лично звонил директору Завода шампанских вин! Почему не отследили проводку грузовика?»
Люди, знавшие Директора много лет, поняли, что последний находится в состоянии страшного гнева, в котором он не пребывал даже тогда, когда горели все сроки сдачи важнейших институтских проектов. Вопрос поверг начальника снабженцев, крикливого и крайне несдержанного человека, в предынфарктное состояние так, что он минуты две не мог произнести ни слова. Ситуацию попытался спасти Шеф, который предложил провести этот банкет с использованием традиционно русской водки, а уже сдачу объекта шампанским, которое, как понадеялся Шеф, к тому времени все же привезут. При этом он весьма злобно зыркнул в сторону Начальника отдела снабжения, с которым он тем не менее портить отношений не хотел.
Когда все расселись по местам и граненые стаканы (иных в столовой Института не имелось) были наполнены водкой до краев, Шеф позволил себе произнести первый тост. Тост этот, бесспорно, был близким родственником таланта, так как многословием не отличался, хотя и отличался некой двусмысленностью, которую грамотная переводчица то ли не поняла, то ли не захотела переводить.
– Прошу поднять бокалы, – стоя скомандовал Шеф, – за развитие двустороннего научно-технического сотрудничества с США в стенах нашего Института!
После чего залпом осушил стакан. Почти одновременно с Шефом и, видимо, в знак полного согласия и одобрения тезиса «бокалы» были выпиты до дна практически всей мужской половиной собрания. Кто-то из институтской молодежи из дальнего угла стола даже крикнул «горько» по такому поводу, в надежде на свое инкогнито, с одной стороны, и отсутствие адекватного перевода господам джентльменам, с другой. Джентльмены же в свою очередь были немало удивлены таким способом проведения «небольшого кофе-брейка». Видно было, что они с трудом себе представляют, что же русские имеют в виду под ланчем, если все происходящее, по словам Директора предприятия, именуется у них термином «кофе-брейк», причем «небольшой». Зрелище же выпиваемого полнометражного стакана русской водки большинством из сотрудников предприятия во главе со всем руководством вызвало в джентльменах вообще полный паралич как зрительного, так и жевательного нерва. Видимо, зрелище это было просто несопоставимо по силе психического воздействия ни с одним из голливудских блокбастеров, включая «Рэмбо» плюс все «Звездные войны» вместе взятые. Только теперь до несчастных представителей гниющего со всех сторон Запада стало доходить, как глубоко они были обмануты всей американской пропагандой при попустительстве всемирной «фабрики грез». Как они могли поверить в этого жалкого Рэмбо, когда вот прямо на их глазах каждый из местных джигитов с размаху выпил почти десять дринков.
Джентльмены видели, что им наливали из той же бутылки, что и Шефу, благо сидели они практически рядом. Видимо, чтобы проверить, действительно ли это водка, гости пригубили напиток из своих стаканов на один небольшой глоток и все сомнения у них отпали немедленно.
Банкет же тем временем продолжался и перешел в стадию второго стакана.
– Как известно, – лирически начал второй тост Шеф, – по русской традиции, после первой не закусывают. А почему?
– А потому, – философски продолжил оратор, – чтобы о своих гостях не забыть за едой!
– Вот поэтому попрошу, – Шеф опять перешел на командные обертона, – попрошу стоя выпить за наших американских гостей и в их честь!
Зал встал. Зал «принял на грудь», после чего, как говорил Шеф, «воплотил», то есть принял водочку во плоть свою.
Переводчица успела перевести американцам, что стоя пьют за них, и на свой страх и риск предложила им тоже встать. Директор Института попросил переводчицу сообщить американским гостям, что, по русской традиции, когда пьют за гостей, то гостям полагается выпить свои бокалы до дна. Когда перевод был закончен, то на лицах несчастных американских наладчиков восторга по этому поводу явно не наблюдалось. Оба джентльмена смотрели на свои до краев наполненные стаканы с явным неверием в то, что после принятия вовнутрь всего их содержимого они вообще останутся в живых. Потом один из них довольно тихо, но так, что переводчица все же услышала, высказал другому опасение, что если они тут напьются и не смогут закончить наладку в срок, то данная компания может выставить их компании огромную неустойку. Второй наладчик качнул головой в знак согласия, добавив, что их предупреждение руководству фирмы-заказчика носило устный характер и документально подтверждено не было, а, следовательно, именно они, а не кто иной, будут нести ответственность за срыв сроков ввода системы в эксплуатацию.
– Грейт, – весело поддержал его первый. – Так можно и место потерять, особенно в период рецессии.
Не дожидаясь действий американской стороны, советская сторона стола в одностороннем порядке приняла второй стакан. Американская же сторона в лице представителей ее рабочего класса беспардонно игнорировала призыв к совместному возлиянию и обратилась к переводчице с просьбой, вызвавшей у последней состояние крайнего замешательства. Старший из наладчиков попросил переводчицу обратиться к менеджменту компании заказчика с тем, чтобы в специальной графе контракта было указано время сдвига начала пусконаладочных работ, не превышающее, однако, часа пополудни текущего числа.
Несчастная девушка, глядя на тостующего Шефа, даже представить не могла, как она сможет сказать такое руководству Института в его лице, особенно после того, какую встречу это руководство подготовило американским гостям.
Пока переводчица размышляла, как бы это в наименее болезненной форме донести просьбу американцев до ушей вешающего Шефа, планомерное течение «кофе-брейка» было прервано нарастающими звуками милицейской сирены и светом мигалок. За окнами «банкетного зала» разворачивалось действо, впечатлявшее не менее сильно, чем заезд пресловутого духового оркестра. Во двор Института въезжала кавалькада автомобилей следующего состава: впереди колонны, мигая всеми цветами милицейской «радуги», двигался гаишный уазик. За ним, тихо шелестя шинами, ехала серая «Волга» с приблатненным номером 11–11, по которому в городе легко узнавался личный автомобиль директора Завода шампанских вин. В центре колонны двигался грузовик «с образцами возросшей продукции и расширенного ассортимента», как говаривал незабвенный герой Михаила Жванецкого. И замыкал процессию рафик с представителями прессы.
– Ну вот и грузовик! – радостно воскликнул Начальник отдела снабжения и, подобострастно глядя в глаза Директора, позволил себе даже пошутить на радостях: – «Лучше уж поздно, чем никому!» – и засмеялся.
Лицо Директора расцвело, а Шеф, глядя на приближающийся эскорт, произнес то ли мысль вслух, то ли тост.
– Товарищи, – сказал он на весь зал. – Как гласит древнегреческая мудрость, «водка без шампанского – деньги на ветер!», так вот к торжественному третьему тосту – шампанское!
Столь вдохновляющее событие несколько отвлекло внимание руководства Института от американских виновников торжества и их больше никто не просил пить водку гранеными стаканами в собственную честь. Тем не менее они повторили свою просьбу переводчице по поводу документального подтверждения сдвига сроков начала пусконаладочных работ.
Не ведая институтской субординации, но, помня по речи Директора Института, она направилась лично к нему и передала просьбу американцев, добавив при этом от себя, что последние явно торопятся и очень нервничают, что не могут начать работать. Директор, вооруженный своей извечной улыбкой, лично подошел к представителям рабочего класса США и выдал без посредства переводчицы почти весь свой наличный английский словарный запас.
– Джентльменс, – обратился он к наладчикам, – но проблемс! Олл райт?!
При этом он достал роскошный паркер с золотым пером из бокового кармана пиджака, всем своим видом демонстрируя готовность подписать представленный американцами документ.
Документ был представлен пред директорские очи, и он начал его читать с чрезвычайно серьезным видом. Ни американцы, ни переводчица при всем желании не смогли бы догадаться, что Директор Института видел английский текст впервые в жизни и уж тем более ничего в нем понять не мог. Однако его сообразительности хватило на то, чтобы догадаться, что расписаться он должен в свободном от печатного текста месте, где-нибудь внизу документа. Там, внизу, он нашел горизонтальную черту и под ней надпись «Ауторизед сигнатуре». Директор помнил латинский алфавит, так как учил в школе и в вузе немецкий язык. И поэтому он смело расписался в указанном месте.
Наладчики очень обрадовались подписи, но сообщили Директору, что подпись в данном месте лишь разрешает им работать в указанной компании, но не подтверждает факта сдвига сроков начала работ. Наладчики обращались непосредственно к Директору, наивно полагая, что если он столь легко говорит и читает по-английски, то и беседовать с ним можно непосредственно и без услуг переводчицы. В этот момент в паре метров от них вспыхнула фотовспышка, и факт непосредственной беседы Директора с представителями промышленности США был зафиксирован для истории. После этого фотовспышка отработала еще несколько раз, и тогда Директор переспросил переводчицу, чего еще хотят «эти ребята»? Только в этот момент наивная девушка наконец догадалась, что Директор ни слова не понимает по-английски и что весь этот цирк и был затеян лишь для целей торжественного фотографирования. Переводчица переспросила наладчиков, перечитала нужную часть документа и указала Директору место подписи, даты и часа начала работ. Директор расписался и вручил документ американским рабочим с видом, мало отличавшимся от вида шведского короля, вручающего Нобелевскую премию светилам мировой науки. И этот исторический момент был тут же зафиксирован на фотопленку. Далее Директор предложил американским наладчикам познакомиться с «группой технической поддержки» проекта и представил им Заместителя Главного Инженера по внедрению новой техники, то есть Завлаба, и Сашу как технического переводчика. Американцы заулыбались, выдали свое любимое «Найс ту мит ю»[1] и представились: Стивен, что постарше и с усами, и Джэйсон, что помоложе и без усов.
Застолье тем не менее продолжалось, и даже складывалось впечатление, что об американских гостях позабыли вообще. Директор же, помня слова переводчицы о том, что американские наладчики спешат начать работу, сказал следующее, обращаясь к Стивену: «Как я понял из ваших слов, время вашего пребывания у нас ограничено лишь временем пусконаладочных работ. Это очень жаль, так как в наших традициях принимать людей, приехавших из столь далекой страны, как США, прежде всего как гостей нашей страны, и города в частности, а уже потом в качестве деловых партнеров!»
В этот момент Директор протянул руку для рукопожатия и произнес: «Ну что же, в добрый час, вы можете начинать работу. Наши сотрудники проводят вас в лабораторию, где должна быть установлена ваша система, и будут оказывать вам необходимую техническую помощь».
Американцы по очереди пожали руку Директора, поблагодарили за торжественную встречу и «ланч» и отправились в сопровождении Саши и девушки-переводчицы в Большую лабораторию.
Глава 3
Наладка
Может ли инженер быть сказочно богат? Может, но только в сказке.
Константин Мелихан
Первое, что удивило импортных наладчиков на пути движения в Большую лабораторию, был… пол.
– Вау! – издал загадочное междометие Джейсон. – У вас паркетный пол в компании?











