Читать онлайн Воролов
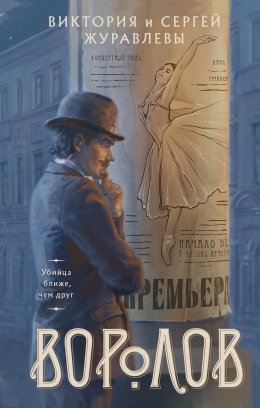
© Журавлева В. И., Журавлев С. Ю., 2025
© Оформление. ООО «Издательство „Эксмо“», 2025
Соборное уложение 1649 года. Гл. XXII. Ст. 13, 16
- А которые воры чинят в людех смуту и затевают
- на многих людей своим воровским умышлением
- затейные дела, и таких воров за такое их воровство
- казнити смертию.
- А будет кто умысля воровски придет в чей дом
- и похочет того дому над госпожею какое дурно учинити,
- или ея ис того дому похочет куды увести, а люди ее
- от такова вора не оборонят, и учнут помочь чинити
- тем людем, кто по нее приедет, а после того про такое
- их дело сыщется, и тех воров, кто таким умыслом
- в чюжой дом приедет, и которыя люди им на такое
- воровство учинят помочь, всех казнити смертию.
Глава I
Утро 2 октября 1891 года началось для Петра Александровича Азаревича чрезвычайно скверно.
Отодвинув тяжелую бархатную гардину, он мрачно смотрел в клубящийся за окном промозглый московский туман. Свет с трудом пробивался сквозь бесцветную пелену и капли на стекле.
Азаревичу нечасто приходилось видеть город с высокого – четвертого – этажа. Отсюда, из окон изысканной квартиры доходного дома Синицына, были видны еще спящие под утренним дождем улицы и бульвары со стройными рядами деревьев, фонарей и электрических столбов, золоченые купола и кресты соборов, тонкие шпили пожарных каланчей и стальные крылья мостов, под которыми по излучине реки сонно проплывали груженые баржи. Над серо-рыжими гребнями мокрых жестяных крыш с пеньками дымоходов и скворечниками слуховых окон то тут, то там в бледное рассветное небо вонзались кирпичные фабричные трубы, а вдали, в туманной вышине над городом, темнели кремлевские двуглавые орлы.
У подъезда дома уже чернела цепь фигур в полицейской форме, готовых гнать прочь еще не появившихся тут случайных прохожих и неслучайных репортеров. Не пройдет и часа, как здесь появятся и те и другие…
На подоконнике рядом с потухшей закоптелой керосиновой лампой лежала свернутая театральная программка. «Спящая красавица» Петра Чайковского – кто не слыхал о главной премьере этого сезона! На сложенном вдвое листе бумаги была изображена спящая барышня в длинной «шопеновской» пачке.
Азаревич обернулся.
За ним на украшенной резьбой кровати в таком же одеянии лежала мертвая девушка. Художник, готовивший программку к спектаклю, передал черты именно ее лица. Вокруг тела деловито сновали полицейские, а в дверях то и дело появлялись и исчезали любопытные лица обитателей доходного дома. В воздухе стоял сильный запах лекарств.
В комнату вошел высокий подтянутый мужчина лет сорока пяти с небольшой аккуратной бородкой, тонкими чертами лица и властным тяжелым взглядом. Это был прокурор Московской судебной палаты Алексей Васильевич Мышецкий.
Азаревич, заприметив знакомую худощавую фигуру в черном прокурорском кителе с двумя рядами блестящих пуговиц, пригладил ладонью свои чуть тронутые сединой волосы, подкрутил пышный ус, привычно вытянулся и по-военному поправил на себе синий потертый сюртук.
– Здравствуйте, Петр Александрович, – приветствовал старого соратника Мышецкий. – Я очень рад, что застал вас в городе. Опасался, как бы вы снова не исчезли на наших необъятных просторах!
– Здравия желаю, ваше превосходительство. Напрасно опасались: я уже год не покидаю Москвы, – отозвался Азаревич, но удивления в глазах Мышецкого не заметил. – Вы ведь осведомлены о том, что я решил оставить службу?
– Осведомлен, равно как и о вашем добровольном затворничестве. И тем не менее я сразу вызвал вас сюда, пусть вы и не из числа тех, кто должен прибыть на место преступления первым.
– Зато часто бывал тем, кто ловил виновного…
– Именно! И потому, Петр Александрович, полюбуйтесь, пожалуйста, на это!
Прокурор указал на комнату, будто на сцену с расставленными там декорациями:
– Сегодня все так располагает к театральности! Знаете, я вовсе не драматург, однако я все же познакомлю вас с наброском либретто первого акта этой драмы. Вы наверняка слышали, что сегодня вечером в Императорском театре должна была состояться премьера балета «Спящая красавица». Амадея Лозинская, или, точнее, Зинаида Осипова, – он указал на мертвую девушку, – должна была сегодня вечером срывать овации огромного зала, начав свое головокружительное восхождение на театральный Олимп. Однако пару часов назад балерину нашла горничная; ее все еще успокаивают в соседней комнате… И я, осмотревшись здесь, решил послать за вами.
– Но я никогда не занимался предварительными расследованиями! Мое дело – сыск: выследить, изловить и передать преступника в ваши руки. Я решительно не понимаю, зачем я здесь! Платок с хлороформом в руке, аккуратно открытая баночка со снотворным на столике… Похоже, девица лишь решила крепко-накрепко заснуть, а уж отчего, я судить не возьмусь.
– Петр Александрович, скажу честно: ваша манера работы и ее результаты меня всегда восхищали. Теперь же позвольте и мне попытаться удивить вас. Думаю, – Мышецкий повысил голос, – господа следователи закончат осмотр места происшествия и представят мне отчет к полудню. А вас, – он снова обратился к Азаревичу, – я приглашаю спуститься в ресторацию и позавтракать со мной. Надеюсь, вы, отдалившись от дел, еще не теряете напрочь аппетит при виде усопших?..
Обслужили их быстро. Расторопный половой в косоворотке подал на стол яичницу, нарезанную толстыми ломтями колбасу и горячий чай.
– Послушайте, Петр Александрович, – начал прокурор, беззвучно помешивая ложкой сахар в стакане, – отчего вы оставили службу?
– Я не служил в полиции, – буркнул Азаревич, – я трудился на полицию, и отчет в своих действиях я даю только себе.
– И все же тридцать пять лет – возраст расцвета для мужчины, – продолжил Мышецкий, – пора усердной работы и деятельного продвижения по службе! Да и столь искусных филеров, как вы, в нашем ведомстве никогда не обделяли жалованьем и наградами!
Азаревич поморщился:
– Нет, благодарю! Эти названия оставьте мальчикам с бомбами! Филеры – это агенты наружного наблюдения. Оттого, что им часто поручают слежку за излишне ретивыми фрондерами[1], их имя уже склоняют на все лады. А я в политику не лезу. Я по заданию полиции или прокурора лишь выслеживаю преступника и беру его. А потом беру положенную награду. Таких у нас в Сибири часто называют вороловами или, если угодно, охотниками.
– Охотниками? Очень интересно!
– Да, охотниками. Охотниками за головами. Но здесь, в Москве, я и слово «агент» перевариваю с большим трудом. Благо это все уже в прошлом…
– А у меня, Петр Александрович, – вздохнул Мышецкий, – в самом что ни на есть настоящем! Однако к чему же это я? Взгляните-ка! Это, на мой взгляд, до крайности занимательно!
Он, отодвинув в сторону тарелку Азаревича, вынул из кармана кителя свернутый фунтиком лист, аккуратно его развернул и положил перед собеседником. На листе лежали несколько бумажных клочков и записка, нацарапанная на осьмушке тонкой голубоватой писчей бумаги.
– Предсмертное послание? – без удивления спросил бывший сыщик.
– Да. Ознакомьтесь!
Почерк был неразборчив: видимо, рука девушки сильно дрожала. Но Азаревич все же сумел прочитать:
«Это высшая справедливость. Так должно случиться. Иначе быть не может».
– Лаконично! Уходит из жизни, никого не обвиняет. Вы находите в этой записке что-то странное?
– Отнюдь! Записка действительно малопримечательная. Но вот эти клочки – совсем другое дело!
– Неудачная проба пера?
– Не совсем.
Мышецкий бережно развернул смятые кусочки и выложил их на скатерти, как мозаику, старательно подбирая каждому фрагменту свое место.
– Вот так, – удовлетворенно протянул он, когда обрывки сложились в лист бумаги правильной формы. – Сможете это прочесть?
Измятые и порванные клочки составляли записку, написанную тем же дрожащим почерком:
«Этот человек не даст мне уйти живой. Смерть эта не по моей воле. Боже, не оставь меня».
Азаревич вопросительно взглянул на прокурора:
– Значит, с нею рядом был кто-то еще?
– Похоже, что так.
– Вы хотите сказать, что ее убили?
– Скорее убедили.
– В чем?
– В решении покинуть этот бренный мир и уйти в царство вечного сна, подобно сказочной принцессе, которую этой несчастной предстояло сыграть нынче же вечером.
– Смело! Вы намекаете на доведение до самоубийства?
Мышецкий аккуратно свернул бумажные обрывки и снова спрятал их в карман.
– Находчиво, не правда ли? Я нечасто сталкиваюсь с подобным. Зверь – это всегда зверь, добыча – всегда всего лишь добыча. А тут дичь взяла да и показала зубы. И актриса, наверное, была неплохая: догадаться не сразу писать то, что требует душегуб, разыграть сцену с разрыванием неудавшейся записки, да так, чтобы он ничего не заподозрил… Эти клочки я намерен сберечь для суда.
– Подозреваемые имеются?
– Вы, кажется, переменили свое мнение? Ведь лишь четверть часа назад спокойно говорили мне о том, что это обычное самоубийство, каких в наш нездоровый век сотни за год…
– С запиской все выглядит несколько иначе.
– Не столь однозначно, да. До вашего приезда я уже разговаривал с антрепренером театра. Осипова-Лозинская вела довольно уединенный, насколько это позволяет ее профессия, образ жизни. Однако в последнее время она стала принимать знаки внимания от какого-то военного чина. Директор говорит, что это был, кажется, поручик. Представлены друг другу они не были, поскольку с труппой девушка никого не знакомила, но антрепренер мельком встречался с новым поклонником Лозинской на вечерах, где она выступала.
– Описание внешности? – спросил воролов.
– Самое тривиальное, – пожал плечами прокурор, – лет около двадцати пяти, среднего роста, шатен, носит усы. Это все, что пока у нас есть.
– Немного. Что же вы намерены предпринять?
– Нынче же я пошлю следователя вместе с антрепренером театра на опознание в московские казармы. И конечно же, воспользуемся сведениями с застав обо всех военных, покинувших Москву этой ночью. Слава богу, без разрешения начальства и подорожной грамоты офицер из города выехать не может…
– Я бы на его месте в Москве не оставался, – кивнул Азаревич. – Всегда найдется любопытный, который что-то видел, что-то слышал, что-то запомнил. Неоправданный риск… А за городской заставой его с собаками не сыщешь!
– Да, шансов мало, но что нам остается делать?
– Это похоже на поиск иголки в стоге сена. Много сил придется потратить впустую, работая на таком материале!
Прокурор усмехнулся:
– Сомневаетесь? Что ж, это понятно, но послушайте: полгода назад в Мариинском Императорском театре в Петербурге ставили балет «Ромео и Джульетта». Тоже на музыку господина Чайковского. И тоже прямо перед премьерой – самоубийство: отравилась прима театра Клаудиа Вирарди. Написанную на итальянском предсмертную записку нашли на ее квартире. В ней все как и сегодня, мол, никого не виню, ухожу по своей воле и прочее, и прочее.
Мышецкий отхлебнул чаю и откинулся на спинку стула. Его глаза горели азартом, словно у математика, нашедшего доказательство теоремы Ферма[2].
– Это не все! В июне прошлого года на гастролях в Крыму утопилась актриса театра Шереметьевых Дарья Баркова. Ставили «Ундину» того же Чайковского. Прошлой весной, незадолго до эпизода с Барковой, – прокурор продолжал загибать тонкие холеные пальцы, – в Смоленске загорелся местный театр. Погибла только исполнительница главной роли Надежда Клеппер-Добжецкая. Как вы думаете, друг мой, какое произведение должны были представить на суд публики?
– Признаюсь, я далек от театра…
– «Орлеанскую деву»! Композитор, как вы можете догадаться, тот же. Еще два похожих происшествия произошли в Ивановской губернии и в Мценске. Я уже запросил оттуда подробные отчеты. Очень может статься, что сегодняшний случай у нас – шестой. Удивительная череда совпадений, не правда ли?
– Вы хотите сказать, что кто-то по очереди склонил всех этих девушек к самоубийству? По-вашему, все это дело рук одного человека?
– Совершенно этого не исключаю.
– Вы лишаете актрис права на самостоятельные, пусть и опрометчивые, поступки. – Азаревич усмехнулся. – Натуры они впечатлительные, нередко даже экзальтированные. Для таких игра в самоубийство – довольно частое баловство…
– А я полагаю, что здесь действует один и тот же убийца! Считайте это моим профессиональным предчувствием.
Бывший воролов решил задать вопрос в лоб:
– Отчего вы вызвали именно меня?
Мышецкий пристально взглянул на Азаревича:
– Вы охотник! Вы умеете смотреть и слушать, искать и находить. Вы отлично знаете, как важно сразу взять след. Каждая минута теперь работает против нас. Наш зверь еще сегодня ночью был в номере наверху, а теперь наверняка с каждым часом все дальше уезжает от Москвы.
Он подумал и добавил:
– Петр Александрович, буду с вами откровенен до конца. Это по понятным причинам не подлежит огласке, но я из заслуживающих полного доверия источников знаю, что погибшая девушка приходилась внебрачной дочерью князю N… – Прокурор указал пальцем на потолок. – Сами понимаете, каких решительных мер от меня потребуют уже через час-другой! Но положиться в таком сложном и щекотливом деле мне, кроме вас, решительно не на кого. Мне нужны вы, Петр Александрович!
Азаревич молчал. Он уже минуту как не двигался и только слушал Мышецкого, пытаясь представить сцену, которая произошла три-четыре часа назад в номере наверху. Но не смог. Перед его глазами замелькали другие сцены – страшные, кровавые, невыносимые…
Он вздрогнул, словно очнувшись от ночного кошмара. На его скулах заходили желваки.
– Не хочу.
Мышецкий не удивился, не возмутился и не разозлился. Он лишь хмыкнул и потянулся за салфеткой.
– Вы, Петр Александрович, в своем праве! Неволить вас никто не станет. Да, можно не брать в расчет всех этих газетных заметок, ссылаясь на вычурность и неправдоподобность моей теории! Можно получить полицейский отчет и положить дело в долгий ящик! Но чутье или, если хотите, нюх, приобретенный за двадцать лет прокурорской работы, не дает мне покоя. Я не могу не видеть здесь звеньев одной цепи. И вот эта девушка – она оказалась умнее всех, кто был до нее. Она, погибая сама, дала шанс выжить другим… Можно ли просто взять и упустить его? Нет, след нужно брать сейчас!
– Далеко не каждое преступление можно раскрыть и тем более предотвратить… – Азаревич повернулся к окну и замолчал.
Прокурор зазвенел в стакане серебряной ложечкой.
– Молчите? Что же, я вам с точностью до мелочей расскажу, как пройдут следующие несколько дней, если не приняться за дело немедленно. Следователи, конечно же, не найдут этого поклонника актрисы, а где-то в казармах недосчитаются одного поручика или кого-то еще из числа офицеров. Мы окажемся в тупике и через несколько месяцев снова получим заметку о еще одном самоубийстве какой-нибудь опереточной певицы или балерины прямо накануне премьеры. Нам с вами сейчас нужно напрячь все наши силы и задействовать все связи, если мы не хотим, чтобы этот скорбный список на страницах газет продолжался. Поверьте, мы сможем его взять!
Азаревич вперил тяжелый взгляд в Мышецкого.
Тот смутился.
– Я знаю, что вам не удалось взять живым последнего беглеца… – Прокурор понизил голос. – Я видел материалы дела. Его искали за убийство своих домочадцев?
– Когда я вышел на его след, у него была уже другая семья.
– Нашел себе какую-нибудь вдову-мещаночку с детьми?
– С тремя детьми. – Азаревич оперся локтями на стол. – Я выслеживал его год. Даже познакомился со всеми ними лично под видом добряка-соседа. Потом пришли его брать. Он запер дом, а когда я с полицией смог проникнуть внутрь, в живых уже не было никого…
– Да, это очень прискорбно, Петр Александрович…
– И я не намеревался больше браться за подобные поручения…
– Я понимаю вас. Понимаю, почему вы не спешите браться за это дело. Это больно, очень больно, но прошлого уже не изменить. Однако если отважиться открыто взглянуть ему в лицо, признав свои ошибки и усвоив все уроки, то не придется переживать боль снова и снова. А вы меня понимаете?
Не дождавшись от потупившегося Азаревича ответа, Мышецкий продолжил:
– Знаете, мне тоже непросто жить со своей памятью. Лет пять назад у меня было дело крестьянина, который измывался над своей женой, пока не запорол ее до смерти; у нас, увы, такие дела – не редкость. Его отправили на каторгу. А на днях я из газеты узнал, что он отбыл свой срок – а это точно он: я помню все то дело до мельчайших подробностей – и вернулся… И дочери теперь тоже нет в живых. А вы говорите «не хочу»! Неповоротливость и снисходительность государства часто сказывается на жертвах. Вот так! Мы объявим подозреваемого в розыск, назначим за поимку награду и окажем вам любую посильную помощь. Там, где уставы и циркуляры связывают полицию по рукам и ногам, где множество обязанностей и рапортов не позволяет выслеживать преступника по всей стране, вся надежда на вас. Мне не нужны отписки городовых и околоточных! Мне нужно частное лицо, не скованное рамками полицейской службы, которое найдет и схватит виновного; нужен человек, который будет цепко идти по следу, присматриваясь, прислушиваясь и принюхиваясь, как охотник в поиске зверя. А мы с вами, Петр Александрович, ловим именно зверей. Вы это знаете не хуже меня!
Наступившую тишину теперь нарушал только мерный ход маятника в больших напольных часах, красовавшихся в углу.
– Напоминаю, – произнес прокурор, – у нас нет и лишней минуты!
Бывший сыщик поднял глаза на Мышецкого:
– Я попрошу вас предоставлять мне все сведения, которые окажутся в вашем распоряжении.
Прокурор в ответ улыбнулся и сжал его руку.
– С возвращением, Петр Александрович! Я знал, что вы согласитесь! Истинный охотник всегда возвращается к охоте!
– Как пьяница – к бутылке, – невесело сострил воролов. – Ладно, быть может, мой опыт и пара прежних трюков еще сослужат свою службу…
Мышецкий вытер усы салфеткой, бросил ее на стол и поднялся. Азаревич последовал его примеру. Они прошли в дверь, которую открыл перед ними услужливый половой, и на лестнице распрощались.
Азаревич неторопливо застегнул на себе черное пальто, аккуратно повязал на шее лиловый шарф, а потом, пригладив волосы, надел на голову котелок и вышел на свежий воздух.
Ветер уже разогнал облака, и глаза слепило яркое, но не греющее осеннее солнце. На бульваре под трескучий аккомпанемент веток и аплодисменты рекламных полотнищ купеческих лавок вертелся хоровод золотисто-багряных листьев. Где-то негромко, словно спросонья, позвякивали церковные колокола, зазывая прихожан на утреннюю службу.
Азаревич в задумчивости шел по улицам оживающего после ночного сна города. Он ненавидел Мышецкого, ненавидел себя за эту глупую и совершенно несвоевременно выказанную готовность отправиться на поиски неизвестно кого и неизвестно чего, но еще более острую ненависть он питал к незнакомому усатому шатену среднего роста в военной форме, который наверняка сейчас с каждой минутой все больше удалялся от Москвы.
Глава II
Поезд прибывал в Ковров четвертого октября в четыре часа утра. Состав, постукивая колесами на стыках и поскрипывая рессорами на стрелках, неторопливо подъезжал к двухэтажному бело-салатовому зданию вокзала, одиноко сиявшему огнями среди пустырей, приземистых пакгаузов и частокола из телеграфных столбов и чахлых сосен.
В купе было холодно и сыро: на ковре, под залитым струями дождя окном, уже натекла изрядная лужа. Однако покидать свое место одинокому пассажиру не хотелось – на улице было и того хуже. Антрепренер Московского Императорского театра Аполлон Григорьевич Анненский вздохнул, нацепил на нос круглые золотые очки, закутался поплотнее в светло-коричневое клетчатое пальто, натянул на лысину шляпу и подхватил свой саквояж. С трудом протиснувшись через узкую дверь, он вышел в коридор и зашагал к выходу.
Большой, чернильного цвета зонт не спасал своего грузного владельца от косого дождя. Аполлон Григорьевич минуту-другую постоял под холодными каплями на безлюдной платформе, растерянно озираясь по сторонам. Потом он прошел сквозь сонное здание вокзала и вышел на пустую площадь.
Через пару минут из водной пелены послышался цокот копыт, а затем из туманной низины к вокзалу выкатился экипаж.
Дверь открылась. С подножки соскочил человек в широком плаще, с тростью в руках и направился к Анненскому.
Тот поспешил навстречу:
– Петр Александрович Азаревич?
– Приветствую вас, Аполлон Григорьевич! – Незнакомец чуть поклонился, приложив пальцы к фуражке, а затем жестом пригласил Анненского в карету.
Тот поспешил в укрытие.
Экипаж закачался на ухабах размытой осенними дождями дороги.
– Вам так точно меня описали? – спросил антрепренер, проваливаясь в мягкое сиденье.
Азаревич кивнул, расстегивая мокрый плащ, под которым теперь можно было разглядеть военный мундир.
– Благодарю вас, что вы откликнулись на просьбу прокурора Мышецкого. Итак, ближе к делу! Аполлон Григорьевич, насколько я знаю, вы один из тех немногих людей, кто видел поклонника госпожи Лозинской.
– Да… Я видел его несколько раз, мельком, но думаю, что смогу его узнать. Я постараюсь! Ради Зиночки… – Анненский протер платком мокрые от дождя очки.
– Прекрасно! В ту ночь из Москвы через заставы проехали трое обер-офицеров. Часовые отметили имя и фамилию каждого из них в служебных журналах. Ведь военные без особой отметки выехать не могут. Полицейские ближайших к Москве городов получили по телеграфу соответствующие указания, и поэтому одного из подозреваемых мы выследили здесь.
Азаревич взглянул в окно и дважды стукнул концом трости в потолок кареты.
Экипаж остановился.
– Наш поручик неплохо провел время в местном борделе, – сыщик усмехнулся, – и по стечению обстоятельств он сейчас все еще там. После нашего с околоточным предварительного визита в это заведение его хозяйка так разнервничалась, что по ошибке дала заезжему гостю бокал с успокоительным, приготовленным для себя. Такое порой случается. – Он пожал плечами, решив умолчать о том, сколько человек в действительности было задействовано в поиске подозреваемого и подготовке операции. – Так что вам остается только взглянуть на спящего и опознать его.
– Конечно, конечно… – Анненский нерешительно кивнул. – Вот только спящим-то я его не видел. Вдруг обознаюсь? Да и близорукость моя… Ах, только ради Зиночки!
Азаревич смерил его взглядом и вышел под дождь. Антрепренер с трудом поднялся с теплого места и последовал за своим провожатым.
Они стояли перед двухэтажным зданием, над входом в которое висела изящная вывеска. Сквозь снова моментально залитые линзы очков Анненский сумел разобрать витиеватую надпись: «Шляпная мастерская госпожи Шульке».
Дверь была не заперта.
Антрепренер озирался по сторонам: они, похоже, действительно попали в шляпную мастерскую. В витрине на черных болванках пестрели элегантные и, без сомнения, дорогие шляпки. На длинных полках вдоль стены стояли большие бобины цветных лент и кружев, а из коробок, украшенных золотыми звездами, торчали большие разноцветные перья.
За прилавком их никто не встретил, однако, несмотря на ранний час, в доме явно не спали. Где-то слышались голоса, возня, скрип, стук и звон – то ли чашек, то ли бокалов.
– Аполлон Григорьевич, пожалуйста, поторопитесь, – услышал он голос Азаревича. Тот уже пересек мастерскую и открыл небольшую дверку в глубине комнаты.
Звуки стали громче.
Посетители прошли по длинному неосвещенному коридору и оказались в просторной светлой гостиной.
Анненский опытным взглядом оценил обстановку: сперва – полутемная мастерская, затем – мрачный коридор и, наконец, эта светлая гостиная с маленькими мягкими козетками, роялем и столиками для вина и фруктов…
– Что ж, хороши декорации! Редко где в провинции увидишь такую фантазию и вкус! Даже в Москве не уделяют столько внимания обстановке и внешним эффектам! А жаль. – Аполлон Григорьевич вздохнул.
Вдруг зеркальная дверь напротив них резко распахнулась, и в комнату ввалился всклокоченный крупный молодой мужчина. Из одежды на нем были только мятая белая рубаха и подштанники. Осоловевшие глаза его не выражали никаких эмоций, но весь вид все равно был довольно устрашающим. Следом за мужчиной в дверь впорхнула испуганная худощавая дама в изумрудном платье с турнюром, которое было застегнуто до самой шеи на мелкие жемчужные бусинки.
«Должно быть, хозяйка заведения», – подумал Анненский.
Женщина, увидев Азаревича, заметно успокоилась. Тот чуть кивнул ей, и она исчезла за дверью.
Незнакомец всего этого не заметил. Он, как показалось Анненскому, не понял даже, что в комнате есть кто-то еще. Повалившись на кушетку, он обхватил голову руками и глухо застонал, а потом протянул руку к маленькому и совершенно пустому прикроватному столику, словно что-то ища на нем.
– Вам воды, поручик, или чего покрепче? – спросил Азаревич.
Человек вздрогнул и хрипло простонал:
– Один черт! Во рту так пересохло, что языком не повернешь…
Воролов подошел к столу со сластями, наполнил фруктовой водой из графина хрустальный бокал и протянул его человеку в подштанниках.
Тот долго с наслаждением пил, прерываясь на то, чтобы приложить холодную поверхность бокала то ко лбу, то к виску.
– Благодарю вас, господа, – наконец проговорил он, разглядывая из-под опухших век Азаревича и Анненского. – Вино, видно, ударило мне в голову. Вчера перебрал. Merde![3] Память отшибло напрочь! Поверите, только сейчас понял, где я… Да, прошу прощения: мы знакомы?
Азаревич ему не ответил. Он обернулся и взглянул на Аполлона Григорьевича.
Тот растерянно пожал плечами.
«Все пошло не так, – подумал Анненский. – Бес его знает: этого ли я видел в театре с Зиночкой или другого? Похож? Или нет, не похож… Тот не такой был. Этот растрепанный какой-то… Усы тоже… Нет! Тот, кажется, помельче был…»
От волнения на лбу у антрепренера выступила испарина.
«Он или не он?» – Аполлон Григорьевич изо всех сил напрягал память.
Тем временем поручик, персону которого старательно изучал Анненский, сел, отставил бокал и сжал виски пальцами.
– Вы, господа, поздновато явились: за окном-то, я смотрю, уже утро…
– Нынешняя ночь удалась, не так ли? – усмехнулся Азаревич.
Офицер поморщился:
– Несомненно! Но увы, я ничего не помню… Голова как колокол гудит…
Воролов снова покосился на Анненского.
– А ночь с первого на второе октября? Вспомните-ка ночь с первого на второе октября сего года, милейший! – Азаревич навис над незнакомцем.
Поручик вздрогнул и побледнел.
Анненскому показалось, что офицер разом протрезвел и в его глазах мелькнул испуг.
Поручик вскочил, толкнул Азаревича обеими руками в грудь и на ватных ногах устремился к дверям. Анненский от неожиданности вскрикнул. Воролов схватил офицера за плечо. Тот развернулся и попытался нанести Азаревичу несколько неуклюжих ударов. Воролов ответил лишь единожды. Поручик охнул и, схватившись за нос, снова упал на кушетку. Сквозь его пальцы тяжелыми каплями закапала кровь, пачкая кружево маленьких подушечек, лежавших тут же.
– Отпустите! – прохрипел офицер. – Мы все уладим!
Воролов отступил на полшага.
– Кто вы? Что вам нужно? – поручик вытирал разбитый нос рукавом рубашки.
– У меня к вам дело по поводу событий второго октября сего года, – повторил воролов.
Губы поручика задрожали.
– Я все понял, господа. Позвольте объясниться…
– Незамедлительно! – поднял его за воротник Азаревич.
– Я же обещал вернуться! Я обещал жениться! И я непременно это сделаю! Parole d'honneur[4], господа! Parole d'honneur!
Беглец, шмыгая носом и вжавшись в спинку диванчика, тем не менее пытался принять на нем независимую и горделивую позу. На его пышных усах уже багровели капли спекшейся крови, но он этого не замечал.
– Я не обманывал mademoiselle Ольгу! Наши чувства искренни и взаимны! – Его голос сорвался на фальцет.
– Почему тогда сбежали из города?
– Вот ее бы и спросили, раз уж она вам все о нас рассказала. – Поручик попытался приосаниться и нарочито раскованно закинуть ногу на ногу.
– Я спрашиваю вас, – процедил Азаревич.
– Я на той неделе получил назначение в двести семнадцатый ковровский полк. Выехать должен был первого числа. Но сначала я должен был объясниться с mademoiselle Ольгой! Mon Dieu![5] Господи, ну должны же вы понять! Это же вы, все ее семейство, запретили мне появляться в ее доме! Но это ничего! Знайте: это для нас ничего не значит! Слышите? Ничего!
– Не только слышу, но и вижу. Сразу в бордель изволили направиться?
Поручик испуганно посмотрел на Азаревича.
– Если вы ей скажете, то я буду все отрицать! Я же согласен! Я женюсь! Я ей обещал через месяц в отставку подать! Вы же за этим приехали? Вы… Кто вы? Родственник, слуга, сыщик?
Но Азаревич уже потерял к своему собеседнику всякий интерес. Он посмотрел на Анненского, который все еще стоял, вжавшись в стену, и бросил ему:
– Пойдемте, Аполлон Григорьевич!
– А как же Зиночка? – пролепетал антрепренер.
– Зиночка? – удивился в своем углу поручик.
– Пойдемте! Этого достаточно, – устало повторил Азаревич и направился к двери.
Они прошли обратно темным коридором. Теперь смешков, голосов и возни уже не слышалось.
В шляпной мастерской за прилавком стояла та самая дама в изумрудном платье. Сейчас ее плечи были укрыты полупрозрачной косынкой мышиного цвета. Она была явно взволнована, но старалась не показывать этого. По другую сторону прилавка теребил в руках какую-то модную вещицу из кружева и перьев мужчина в щегольской норфолкской куртке. При виде Азаревича и Анненского он положил шляпку на прилавок и вышел вслед за ними.
У кареты незнакомец догнал сыщика:
– Ваше высокоблагородие! Что прикажете доложить начальству?
– Доложите в Москву, что господин Анненский подозреваемого не признал. Я, в свою очередь, в докладе наверх отмечу расторопность ковровского полицейского участка. Благодарю вас! Вы были на высоте!
Кивнув на прощание полицейскому агенту, который тут же взял под козырек, Азаревич запрыгнул в экипаж.
– Все-таки это не он, – вздохнул у него за спиной антрепренер.
– Не он. Тем не менее, Аполлон Григорьевич, со своей ролью в освидетельствовании личности вы, будем считать, справились. Так что позвольте поздравить вас с премьерой! – И воролов протянул руку, помогая Анненскому забраться внутрь.
«Было бы с чем поздравлять! К чему мне эти незаслуженные овации?» – мрачно подумал антрепренер, утопая в мягком сиденье. Он всю дорогу более не проронил ни слова и лишь глядел сквозь залитое дождем окно кареты на то, как проплывает мимо серая грязная улица, ведущая к вокзалу.
Глава III
Таких громких названий, как «игорный дом», Кострома не знала. Местные высокие чины гордились своим благолепным городом и брезгливо морщили носы, если непосвященный собеседник спрашивал их о том, где тут можно провести вечер за ломберным столиком. Здешняя газета публиковала заметки о построенных мостах, сотнях засеянных пшеницей десятин, и никогда, в отличие от столичных изданий, в ней нельзя было встретить скандальных статей о том, как проигрываются дотла и разоряются в прах богатейшие семейства. Казалось, костромская жизнь застыла в вязком русле реки жизни, почти затянувшемся тиной, где так спокойно можно было наблюдать за рассветами и закатами, не боясь пучины житейских невзгод.
Однако так было лишь на первый взгляд. Иногда прохожие замечали, что несколько дней в неделю городская гостиница освещается куда ярче и дольше, чем в другие дни: окна первого этажа светились желтым светом до самого утра. Этим обстоятельством не интересовались ни городовой, ни градоначальство, ни заезжие ревизоры. Более того, иной раз в эти сверкающие огнем ночи всех их можно было встретить в числе наиболее уважаемых посетителей.
В ночь с пятого на шестое октября в небольшой зале, заполненной клубами плотного табачного дыма, снова было людно. С люстр сквозь дым пробивался свечной свет, нервный от сквозняка из форточек, приоткрытых в высоких узких окнах. В полумраке залы громоздились зеленые столы, за которыми пылали, не утихая, карточные битвы.
Высшее общество предпочитало игру в «Фараон». Игроки-понтировщики выбирали из своих колод карту и делали на нее ставку, а игрок-банкомет начинал прометывать свою колоду направо и налево. Если карта, выбранная понтером, ложилась налево от банкомета, то выигрывал понтер, если направо – банкомет.
Группки зрителей с бокалами в руках время от времени переходили от стола к столу, наблюдая то за одной, то за другой баталией. Тут не было ни закусок, ни женщин, ни веселых бесед, ни крепких анекдотов. Лишь иногда соперники обменивались сквозь зубы шуткой-другой, но это были напряженные саркастические замечания, подобные ударам дуэльных клинков. И только в конце партии все откидывались на спинки стульев и позволяли себе рассмеяться, попросить вина, достать табакерку или портсигар, чтобы, сделав глоток или затянувшись дымом, прикинуть свои шансы в следующей карточной схватке. Покидать комнату никто не спешил.
Двенадцатый час игры давался поручику Арсению Валериановичу Юрову на редкость легко. Сноровка! Тут уж ничего не скажешь! И опыт. В таком деле главное – беречь силы. Правда, сейчас это было несложно. Первое время нет нужды сосредотачиваться на картах и пользоваться своими «секретами»: для того чтобы взвинтить ставки до нужной степени, сперва надо больше проигрывать, нежели выигрывать.
За столом с ним сидели еще трое. По правую руку от него теребил карты и собственные рыжие кудри крепкий унтер-офицер, с которым поручик Юров познакомился вчера в привокзальном буфете. Офицер очень заинтересовался перстнем князя Амилахвари, который Арсений Валерианович выиграл на днях в Москве. Верзила в потертом мундире и мятой рубахе точно вконец проиграется в надежде выманить у него эту побрякушку! Его можно очистить походя, поблескивая перед ним перстнем на пальце, как морковкой перед ослом! Будет легко и даже несколько скучно. Пока же, чтобы и эта рыбешка не сорвалась с крючка, Юров проиграл ему полсотни червонцев.
Напротив поручика сидел местный дворянчик, некто Проскурин – молодой франт во фраке из английского сукна и в английских перчатках. Сперва он с пафосом болтал о каких-то лекциях в Париже и шутил, перемежая в разговоре русские, французские и английские фразы. Сейчас же перчатки на его дрожащих руках были перепачканы сигарным пеплом и пятнами от красного вина.
Слева от Юрова расположился третий игрок – немолодой, солидный купец в атласном жилете с массивной золотой цепочкой, украшенной многочисленными брелоками. Внешне он походил на льва. Его движения были медленными, уверенными и спокойными. Было видно, что он привык и выигрывать, и проигрывать по-крупному, и ничто не могло вывести его из себя. Его Юров решил оставить напоследок. Ставки купца будут хорошим завершением ночи и всего этого непредвиденного вояжа в благословенную Кострому.
Да, после довольно успешного визита в Москву и наверняка удачной сегодняшней ночи Арсений Валерианович ненадолго объявится в Санкт-Петербурге, а оттуда прямехонько в Висбаден – туда, где климат даже зимой нежнее немецких пирожных, а игорные заведения ломятся от денег, как сокровищницы Соломона…
Он снова проиграл. Это правильно: до этого он немного пощипал дворянчика, так что нужно было соблюсти меру. Унтер-офицер, также проиграв эту партию, вышел из-за стола, но обещал скоро вернуться. Его место занял щеголеватый молодой купчик.
Юров приосанился и начал метать. Невзначай он поправил воротник кителя, коснувшись пальцем искусно пришитой под воротником и невидимой для постороннего глаза штапельной подушечки размером с пуговицу. В подушечке был «бальзам» – его собственное изобретение: смесь конопляного масла, камфоры и стеарина. Теперь легким движением пальца можно было едва-едва пометить нужные карты. Много вечеров пришлось потратить Арсению Валериановичу на опыты и упражнения, чтобы блеск «бальзама» был заметен только ему одному и только на небольшом расстоянии. Люди время от времени склонны поправлять на себе одежду, особенно когда волнуются. Так в чем же подозревать Юрова? Разве что в благосклонности фортуны!
Первую крупную партию дворянчик проиграл неожиданно, хотя ему шли все карты. Это его только раззадорило. Он повысил ставки, выругавшись на французский манер, но это не помогло: вторая партия тоже осталась за Юровым. Его оппонент побледнел и предпринял еще одну попытку отыграться. Юров чуть ослабил воротник, и карты красиво заскакали из его рук по столу, поблескивая в приглушенном ламповом свете.
Франт, будто не веря своим глазам, наклонился к сукну стола, а затем судорожно впился пальцами в собственную шевелюру. Купец хмыкнул и бросил свои карты. Молодой купчик лишь сочувственно вздохнул.
Юров придвинул к себе свой выигрыш.
– Господин Проскурин, не желаете ли продолжить игру?
Проскурин метнул в Юрова испепеляющий взгляд и сжал кулаки, но тот лишь захохотал и сделал глоток из стоявшего рядом бокала с вином.
– Полноте, – вмешался купец, – остыньте, голубчик. Карты страсть не любят!
Проскурин ошалело поднялся с места.
– Позвольте откланяться, – несколько отстраненно сказал он и направился к выходу. Никто в зале не повернул головы ему вслед, лишь на мгновение все затихли, будто следя за ним краем глаза и прислушиваясь.
В дверях он чуть лбом не столкнулся с уже знакомым Юрову унтер-офицером, за которым следовал еще один посетитель игорного дома в форме пехотного капитана. Сумев все же разойтись с ничего уже вокруг не видящим Проскуриным, они подошли к столу, за которым Юров завершал приготовления к новой партии.
– Вот сюда, ваше высокоблагородие, пожалуйста! Здесь у нас отменное общество!
– Рад вашему возвращению, Евстратий Павлович! – отозвался Юров. – Вы пригласили в нашу компанию еще одного игрока? Здравия желаю, ваше высокоблагородие! Присоединяйтесь, пожалуйста!
«Что ж, эта ночь явно принесет хороший куш!» – подумал он.
– Не откажусь. – Незнакомец улыбнулся в усы и занял освободившееся место напротив поручика.
Купец добродушно, но властно обратился к молодому купчику:
– Ты, Ванюша, тоже бросай это дело. Не твой сегодня день! Сходи-ка, братец, освежись!
Купчик не перечил, хотя тень разочарования и скользнула по его лицу. Его место вновь занял унтер-офицер.
Юров свистнул, и к нему заторопился слуга. Он нес в руках накрытый черным батистовым платком поднос и шагал с достоинством визиря, спешащего доставить султану важную депешу или драгоценный дар иноземного посла. Изящным жестом он скинул платок, явив игрокам и зрителям дюжину новеньких карточных колод в желтой оплетке.
Юров чуть поклонился капитану:
– Ваше высокоблагородие, у вас, как у вновь прибывшего игрока, есть право выбора колоды. Прошу вас!
Тот, не раздумывая, выбрал пачку и протянул ее поручику.
– Извольте!
Юров в предвкушении потер руки, приосанился, поправил воротник и взял колоду. Оплетка с хрустом лопнула, явив на свет новенькие глянцевые рубашки карт. Поручик раскидал их веером и, с треском пропустив карту в карту, положил колоду на стол.
– Предлагаю для начала ставку в пятьсот рублей!
– Идет! – отозвался капитан.
– Ваша ставка?
– Мирандоль[6].
– Как угодно! Ваша карта?
Капитан вскрыл свою колоду и вынул из нее десятку бубен.
Юров начал метать банк. Направо, налево, направо, налево…
Бубновая десятка, сестра-близняшка той, что выбрал капитан, легла налево от банкомета.
– Ваша взяла, – развел руками Юров. – Продолжим?
– Продолжим! – капитан метнул на стол следующую карту. – Пароли![7]
– Что ж, извольте! – ответил Юров.
Направо от него легла дама треф, такая же, как у его соперника, налево – туз червей.
– Увы, ваше высокоблагородие, ваша дама вам изменила! – вздохнул Юров. – Вы готовы еще понтировать?[8]
– Охотно! Пароли-пе![9]
– Ого! Сразу две тысячи! – гоготнул унтер-офицер.
– Что же вы, милейший Евстратий Павлович, – проговорил капитан, – полагаете, что я явился в такое заведение без должной подготовки? Господин поручик, вы принимаете ставку?
– С удовольствием! – кивнул Юров.
Так они и играли по очереди, обмениваясь любезностями, шутками и возгласами удивления, радости или досады. Юров опытным взглядом оценил своего нового компаньона: азартен, хоть и изо всех сил пытается казаться сдержанным, упрям. И по манере играть видно: с деньгами. Пусть даже и не со своими, а с полковыми – такое ведь не редкость среди офицеров. Да и не все ли равно? Ставка есть ставка, а деньги, как известно, не пахнут.
Юров сначала проиграл, затем выиграл, потом снова проиграл, потом снова выиграл. Он управлял каждой партией, как дирижер управляет симфоническим оркестром: возвышенно, с вдохновением, даже страстно. Он методично раззадоривал своих жертв, подталкивая их все время повышать свои ставки.
Ему понравился новый игрок. Он не горячился, когда проигрывал, не трясся всем телом, вынимая банкноты из упитанного бумажника, не рукоплескал бурно, когда выигрывал, не пил без меры, но и не сидел сиднем, вжавшись в свой стул и вцепившись в карты. Он, чуть щурясь, улыбался в пышные смоляные усы и подкручивал их в мимолетной задумчивости, следя, как порхают над столом расписные рубашки карт с грозными королями, изящными дамами и ветрениками-валетами на обороте.
Перед Юровым между тем продолжала увеличиваться стопка кредитных билетов. Он уже давно успел отыграть у унтер-офицера умышленно проигранные пятьсот рублей и теперь заставлял всех троих оппонентов опустошать содержимое своих карманов и кошельков, делая все новые и растущие ставки.
Юров вскрыл новую колоду и предложил начать очередную талью.
– Господа, может, прервемся? – пробасил унтер-офицер, взъерошивая свои жесткие, как медная проволока, волосы. – Бокал шардоне? Или сигару?
– Нет, благодарю. Я хотел бы продолжить, если вы не против. – Юров чувствовал вкус победы только после того, как оставлял соперника без копейки. – Десять тысяч?
– О, признаться, сударь, ваше предложение мне не совсем по нервам, – с мягкой улыбкой отозвался капитан.
– Понимаю! Но разве можно так просто взять и закончить игру в столь чудесный вечер?
– Что же, я могу поставить еще вот эту безделицу. – Капитан, немного помедлив, вынул из кармана чудной работы серебряный портсигар, украшенный гравировкой и изумрудами.
Юров повертел портсигар в руках, внимательно осмотрев его со всех сторон.
– Недурно! Прошу выбрать карту! – И привычными движениями начал партию. Выбросил на стол бубновую двойку и валета червей, следующей прокидкой – даму бубен и пиковую восьмерку, потом – туза треф и червонную девятку.
Затем Юров, чуть прищурившись, взглянул на капитана и отбросил со лба прядь волос. Направо от банкомета лег трефовый король, налево – пиковая шестерка.
Капитан, покрутив ус и подцепив ногтем большого пальца лежавшую перед ним на столе карту, перевернул ее лицом вверх.
На зеленое сукно упала шестерка пик.
– Вот это поворот, господа! – загоготал унтер. – Прямо в яблочко, ваше высокоблагородие!
Юров обомлел.
Он твердо знал, что, когда понтер делал свою ставку, у него в руке была совсем другая карта. Господин в капитанском мундире был не так прост, как казалось на первый взгляд. Юров вдруг почувствовал, что эта улыбка, это благодушное подкручивание усов, это волнение с поглаживанием тяжелого подбородка, азартный прищур – это все западня.
По его спине пробежал холодок.
«Каков бестия! – подумалось ему. – Как это так?! Черт возьми! Кого мне привел этот шалопай унтер?! Или нет? Вдруг они заодно? Нет-нет! Спокойно, друг! И не из таких историй целыми да с прибытком уходили! Попробуем по-другому!»
Он придвинул к капитану стопку банкнот:
– Я рад вашему везению, господин капитан! Вот ваш куш! Желаете ли продолжать?
– Отчего же нет? – отозвался тот.
Поручик продолжил метать.
– Снова в цель!
Юров смотрел в ликующую физиономию рыжего унтер-офицера, в лицо капитана и с трудом держал себя в руках. Ему вдруг показалось, что взгляд этих упрямых холодных глаз пронизывает его насквозь. Он почувствовал себя жуком, приколотым к бумаге острой холодной стальной булавкой.
Во рту у него стало сухо. Сердце предательски замерло где-то под горлом.
«Это что же за деятель? Собрат по ремеслу? – в смятении думал он. – Сам по себе или специально подослан? Неужели этот персонаж от того князя, которого я пощипал в Москве несколько дней тому назад? Вот ведь каналья! Ну поиграли! Проиграл, с кем не бывает! Небедный, поди, народ, а вот ведь мстительный! Это с такими персонами часто бывает! Обидчивость вам, господа, не к лицу! Сколько раз давал себе зарок: не играть с темпераментными высокопоставленными вертопрахами! И вот! Все высчитали, черти! Разыскали! Но как быстро! Или я где дал маху?»
Талья следовала за тальей, ставка шла за ставкой. Капитал Юрова катастрофически таял. Поручик проиграл весь сегодняшний выигрыш и еще сверху пять с половиной из почти шести тысяч, вырученных за время московско-костромского вояжа.
«И малый этот с подносом! Свинья! Пяти червонцев ему мало? Что он мне подсунул? Он что, тоже с ними?!»
Наконец Юров понял, что пришло время спасать то немногое, что у него осталось.
– Моему визави, господа, сегодня благоволит сама судьба!
– А вы, как я понимаю, поиздержались! – хохотнул рыжий.
– Это пустяки! Хотя я все же попросил бы вас дать мне возможность отыграться.
– У вас есть что поставить? – спросил капитан.
– У меня в кармане вексель на солидную сумму.
– Не изволите ли предъявить?
Юров положил на стол долговую расписку на банковском бланке с гильошем и вензелями.
Капитан взял вексель в руки.
Документ свидетельствовал об обязательстве перед поручиком Арсением Валериановичем Юровым на крупную сумму серебром. Бумага была подписана одной известной высокопоставленной персоной.
В конце текста было следующее: «Москва, дом господина Чекалинского, 1891 год, октябрь, 2-го дня, 2 часа пополуночи».
Капитан с унтер-офицером переглянулись.
– Ну что же, играем, – равнодушно протянул капитан.
Он спрятал в карман портсигар с изумрудами, отложил из стопки кредитных билетов несколько банкнот, а остальное поставил на карту. Затем он повернулся к купцу:
– Только у меня к вам, ваше степенство, особая просьба. Не откажете нам в любезности метать колоду?
– Просьба необычная, – ответил тот, – но ежели остальные игроки не против, то отчего ж отказать? Пожалуйте!
Соперники выбрали карты. Купец начал метать банк.
На этот раз выиграла карта Юрова. Тот даже не обрадовался такой удаче и лишь затравленно переводил взгляд то на капитана, то на его медноволосого компаньона.
Капитан бросил карты на стол и поднялся.
– Полагаю, на сегодня достаточно! Благодарю, господа, за доставленное удовольствие!
Рыжий последовал его примеру.
Они оставили совершенно ошарашенного Юрова за карточным столом и вышли в темный коридор, едва освещенный свечой в настенном подсвечнике. Унтер-офицер остановился, чтобы прикурить от свечи папиросу. Выпустив клуб дыма в приоткрытое грязное окошко, он тихо спросил:
– Промашка, Петр Александрович?
– Промашка, Евстратий Павлович, – поморщился капитан. – Алиби у него на этот день и час. И твердое такое, видными персонами заверенное! Далековато от доходного дома господина Синицына был наш шулер в ту ночь! Ваши сведения подтвердились, околоточный надзиратель Пятаков!
– А то как же! Он мастер хвастать: где, когда и с кем играл да на какие барыши! Видать, подзуживал, шельма, счастья попытать! Перстенечком приманивал! Ну как это водится… Но стоило ли рисковать такими деньжищами? Нельзя ли было просто умыкнуть его в околоток да и поговорить там с ним по душам? Или вот тут же, в коридоре, припереть к стенке и вытрясти из него все, что нужно?
– Нет, нельзя! Шума много могло выйти и нежелательного внимания к нашему делу. Так что все верно сделали. Рекогносцировка боем! Иль не слыхали?
– Так точно, ваше высокоблагородие! Слыхали-с! Насколько я понимаю, вы все же остались при своих?
– Как и вы! – улыбнулся сыщик.
– Ну еще бы я внакладе остался! – воскликнул околоточный. – А возмещение за урон здоровью? Шутка ли – пить вторые сутки!
– Должен заметить, у вас немалый актерский талант!
– Благодарю! А вам, Петр Александрович, не в вороловы бы идти, а в игроки. С вашим глазом, руками да хладнокровием вам цены бы в карточном деле не было. Уже миллионщиком давно были бы!
– Христос с вами, Евстратий Павлович! Пустое это – наживаться на человеческом пороке… А вот с шулером мы тоже промахнулись! Досадно!
Азаревич развернулся и пошел к выходу.
Пятаков потушил папиросу о край подсвечника, бросил окурок на пол, придавил его сапогом и поспешил за вороловом.
Глава IV
Два ложно взятых следа и отсутствие результата угнетали Азаревича: время снова утекало впустую. Он по своему опыту знал, что так бывает каждый раз, но легче от этой мысли ему все равно не становилось.
Поймать преступника довольно часто было делом небыстрым. Если это был мошенник, сыщику-охотнику приходилось изучать сотни столбцов и строчек текста заметок местных газет, прислушиваться к разговорам на рынке, в трактирах, шататься по постоялым дворам, притонам и другим злачным местам в одежде бродяги или чернорабочего, осторожно расспрашивая возможных свидетелей, и ждать – месяц, полгода или даже больше, ждать его следующего появления – очередной дерзкой вылазки. Эта охота напоминала ему чем-то шахматную партию.
Сбежавший убийца, опасаясь быть пойманным, как правило, сразу залегал на дно. У Азаревича, идущего по следу, было время вызнать все о подозреваемом, о его родственниках, круге общения, возможных подельниках, проверить все сведения, чтобы не промахнуться. И для этого он приезжал в незнакомый город под чужой личиной, обживался, заводил нужные знакомства и подкрадывался все ближе и ближе к своей добыче.
Сейчас же, когда условия совсем не располагали к долгому ожиданию, Азаревич старательно гнал от себя мысли о первых двух провалах и торопил себя продолжать поиски. Ну полно: рассчитывать схватить убийцу в первом же борделе, среди всех этих коробок со шляпками? Или в игорном доме прямо за карточным столом? Нет, так не бывает!
Однако третий след нашел не он.
Срочной служебной телеграммой прокурор Мышецкий вызывал своего подчиненного в Ярославль.
Азаревич отбросил соблазнительную мысль остаться в гостинице до утра. Нет, нужно спешить! Невозмутимый костромской сверхштатный околоточный надзиратель Пятаков, что пару дней назад заметил на своем участке шулера Юрова, подходящего под разыскное описание, подобному приказу не удивился. Да, они возьмут карету и отправятся тотчас же. В такой обстановке, конечно, особо не отдохнешь, зато завтра они будут уже в Ярославле.
Осеннее небо окрашивалось огненными языками заката, когда экипаж проехал мимо заставы. Дремавший на посту солдат, вздрогнув от нежданного цокота копыт, поспешил выбраться из полосатой будки. Увидев подорожную, он не стал задавать лишних вопросов и только по-военному вытянулся перед седоками. Так он и стоял, пока карета не прогромыхала по широким доскам моста и не растворилась в сгущавшихся сумерках на противоположном берегу реки; потом он потянулся, зевнул и вразвалку пошел обратно на свой пост.
Восьмого октября предрассветный Ярославль встретил путешественников туманами и колким морозцем. Несколько раз кучер, Азаревич и Пятаков с грацией цирковых силачей сведенными от холода руками выталкивали экипаж из грязных луж на петляющих глинистых проселочных дорогах, искренне радуясь, что оказались в столь непритязательной компании. Сухой ковыль в прожилках утреннего инея блестел в первых лучах восходящего солнца и расстилался широкой холодной бледной пустыней, за которой, подобно миражу, блестели главами городские соборы и церквушки.
В уездном полицейском управлении раннее появление незнакомцев никого не удивило. Седоусый участковый пристав, помешивая ложечкой чай, давал распоряжения трем околоточным. Увидев посетителей, он нахмурился:
– К московскому прокурору?
Азаревич кивнул.
Полицейский отставил стакан:
– Велели привести незамедлительно! Прошу за мной! Все уже собрались.
Он привел Азаревича с Пятаковым в кабинет, где еще чадили керосиновые лампы, а в углу, согревая и без того спертый воздух, весело потрескивал камин. Во главе стола сидел прокурор Мышецкий. Сбоку от него расположился исправник – глава полицейского управления Ярославля: крепкий широкоплечий мужчина лет пятидесяти, с полусонными глазами, густыми усами и мохнатыми бровями. Он напоминал былинного русского богатыря. Бок о бок с ним сидел полный лысеющий господин с холеными белыми руками, одетый в черный сюртук, и с пенсне на носу. Он, казалось, был немного растерян и тоже явно провел бессонную ночь.
Мышецкий, бодрый, как, впрочем, и всегда на службе, обернулся к двери и, увидев вошедших, удовлетворенно кивнул.
– Прошу, господа, присаживайтесь! Петр Александрович, тут происшествие одно приключилось. Мне кажется, нам с вами оно будет очень интересно. Валентин Федорович, посвятите, пожалуйста, наших гостей в суть дела. И, любезный, – он обратился к вошедшему с Азаревичем и Пятаковым полицейскому, – распорядитесь, пожалуйста, о горячем чае!
Исправник приосанился и, поглядев на Азаревича, начал доклад:
– Позавчера, то есть шестого октября сего года, в одном из местных трактиров, сдающих верхние комнаты на постой приезжим, в постели был найден труп мужчины лет двадцати пяти, застреленного в висок. Рядом на полу – револьвер с одной стреляной гильзой в барабане и со свежими следами стрельбы. В номере погибшего обнаружены документы на имя Алексея Павловича Караганова и подорожная грамота из Москвы от второго октября. В соответствии с полученными особыми указаниями дело взято под личный контроль, о происшествии безотлагательно доложено в вышестоящие инстанции…
Пока исправник монотонно и въедливо перечислял все детали дела, полицейский принес чай в тонких стаканах в подстаканниках на маленьком черном подносе. Азаревич взял свой стакан и отхлебнул, чуть обжегшись. Из центра живота по телу принялось приятно разливаться тепло.
Исправник продолжал:
– До приезда господина прокурора номер с телом был заперт, и к нему был приставлен караул. Был проведен первичный допрос свидетелей и сбор улик. По приезде его превосходительства по его распоряжению тело было доставлено в мертвецкую при полицейской части, где профессором Ильей Ивановичем Ситниковым было произведено посмертное хирургическое исследование.
Сидевший сбоку от Валентина Федоровича полный господин кивнул, обретя, таким образом, одновременно имя, фамилию, профессию и звание.
Мышецкий повернулся к исправнику:
– Благодарю вас, Валентин Федорович. Теперь продолжу я. Мы проверили московские военные части. В одной из них действительно числился поручик Караганов. Он запросил отпуск за неделю до отъезда из Москвы. То есть он планировал покинуть город второго октября.
– Совпадение, – вставил Азаревич.
– Слушайте далее: профессор Ситников считает, что самоубийство могло быть инсценировано. Внешне все выглядит так же, как и в прочих подобных случаях, но… Впрочем, Илья Иванович, вам слово!
Профессор кашлянул и, лукаво поглядывая на собеседников поверх потертого пенсне, заговорил:
– Выстрел, господа, был сделан с близкой дистанции. Однако я осмелюсь утверждать, что расстояние между пистолетом и виском убитого составляло около сажени. При самоубийстве посредством подобного оружия кожные покровы вокруг входного пулевого отверстия обгорают, а в ране остаются несгоревшие частицы пороха. В нашем случае никаких следов пороха и гари я не обнаружил. Руки трупа, а также его одежда оказались чисты: ни, опять же, пороха, ни оружейного масла. Эти обстоятельства дают мне основания считать версию о самоубийстве сомнительной.
– То есть, – Азаревич взглянул на Мышецкого, – подозреваемый Караганов был убит?
Прокурор отрицательно покачал головой:
– Видите ли, наш знакомый антрепренер, господин Анненский, был на опознании тела Караганова, но поклонника своей погибшей примы в нем не признал. – Мышецкий достал из кармана брегет и посмотрел на циферблат. – И вот еще: при покойнике был найден паспорт, подорожная грамота и колода карт. На этом – все. Ни писем, ни фотокарточек, ни расписок, ни векселей – ничего подобного.
Исправник добавил:
– Трактирщик ведет точную ведомость обо всех, кто заехал в его заведение и кто съехал. Он затем сдает ее околоточному, как того требуют правила. Так вот, трактирщик этот при опросе вспомнил, что поручик въехал не один. Точнее, следом за ним снял себе комнату еще один постоялец. Тоже в форме. Ну, стали в ведомости смотреть, фамилию искать. Книга с записями у хозяина под прилавком лежала. Раскрыли – а нужная страница вырвана!
Азаревич, почти согревшись, продолжал прихлебывать чай.
Да, это был след. Нужный след.
Мышецкий обратился к исправнику:
– Валентин Федорович, нам нужны свидетели. Необходимо составить описание обоих офицеров: как выглядели, как вели себя, что делали, что говорили. Наверняка кто-то что-то видел и запомнил.
– Опрос свидетелей заметных результатов не дал. Однако мы, ваше превосходительство, как и предписано, располагаем штатом агентов под прикрытием, которые внедрены в преступные сообщества. Они следят за деятельностью банд, их главарями, путями получения оружия, сбыта краденого и награбленного, способами вербовки новых участников. Несколько наших агентов присматривают за трактирами…
– И за трактиром, где остановился убитый, позавчера тоже было кому присмотреть?
– Точно так-с! Там в тот вечер был наш человек – выполнял задание по внешнему наблюдению. Поэтому, как обнаружили тело, ему приказали выяснить, кто из местных щипачей-карманников тогда орудовал в трактире. Он должен вернуться сюда к полудню.
Взглянув на часы, Мышецкий недовольно поморщился: чувствовалось, что время ему очень дорого. Азаревич же облегченно выдохнул. Горячий чай после бессонной ночи разморил его, и он мечтал хотя бы о паре часов сна.
– Тогда, – Мышецкий, казалось, был неутомим, – полагаю, вы, господин профессор, не откажетесь проводить нас четверых в мертвецкую?
Профессор Ситников поднялся и взял со стола одну из керосиновых ламп.
– Да-да, с готовностью! Прошу вас сюда, господа! Мертвецкая у нас здесь же, в другом крыле участка, рядом с пожарной частью. Там и работаем…
Они впятером друг за другом прошли по длинному коридору, в конце которого темнела безликая маленькая дверь. Открыв ее большим, почерневшим от времени ключом, профессор начал спускаться по ступеням уходившей в темноту лестницы.
– Для мертвецкой подвал – самое подходящее место, – пояснил исправник. – Тут за стенкой – ледник, погреб. Как в марте его льдом забиваем, так холод до зимы и держится! Только если паводок город топит – вот тогда хуже…
В темном сводчатом помещении стоял сырой воздух. В нем можно было учуять аромат спирта, формалина и еще какой-то сильный сладковатый удушающий запах. Однако никто из вошедших ни на мгновение не изменился в лице, не приложил платок к носу и даже не поморщился.
Войдя в комнату, профессор поставил свою лампу на маленький столик у стены и засветил еще три лампы над большим столом, стоявшим посередине. По стенам заплясали длинные тени. Желтый мерцающий свет озарил невысокие шкафчики и этажерки, уставленные бесчисленными склянками, слепками и колбами. На небольшом письменном столе лежали журнал для записей и письменный прибор.
– Неплохо тут у вас все устроено. – Мышецкий огляделся по сторонам.
– Благодарю.
Профессор с улыбкой чуть поклонился прокурору. Затем он откинул с большого стола грубую льняную ткань:
– Итак, господа, вот наш погибший.
На столе перед сыщиками лежало худощавое тело молодого мужчины лет двадцати пяти – двадцати семи. Его короткие темные волосы слиплись от бурых следов запекшейся крови, а над натянутой пожелтевшей верхней губой красовались пышные усы, подстриженные на военный манер. Брови у погибшего были чуть приподняты, отчего лицо, казалось, выражало некоторое удивление. Кисти трупа были связаны грязной бечевкой, а вдоль всей грудной клетки от подбородка до пупка тянулся багровый шов, зашитый грубыми размашистыми стежками суровой нити. На коже в районе спины, бедер, предплечий и локтей проступали темные пятна, а в виске зияло глубокое отверстие диаметром примерно с мизинец.
– Смерть, как можно удостовериться, произошла по причине разрушения головного мозга револьверной пулей, прошедшей навылет. Входное отверстие без следов пламени и пороха – это я уже говорил. Стреляли с расстояния не менее сажени. При изучении содержимого желудка и кишечника убитого выявлены следы пищи, совпадающей со списком блюд, заказанных им в трактире, и небольшого количества спиртного. Признаков воздействия отравляющих веществ не обнаружено.
– И никаких особых примет… – Азаревич, подойдя ближе к столу, внимательно всматривался в мертвое тело.
– Да, выдающихся примет нет. Зубы ровны и целы, следов серьезных переломов, ранений или иных увечий нет. Разве что наш поручик, похоже, был левшой: на пальце левой руки я заметил чернильное пятнышко.
– Валентин Федорович, – Азаревич повернулся к исправнику, – вы ведь осматривали одежду и обувь погибшего?
– Точно так-с, осматривал. Никаких особых следов. Извольте сами убедиться. – Исправник жестом пригласил сыщика к маленькому столику, стоящему у стены. На нем рядом с лампой темнела аккуратная стопка одежды и пара начищенных кавалерийских сапог.
Азаревич развернул под светом лампы китель, осмотрел его с груди и со спины, снаружи и с изнанки, а затем повертел в руках сапоги, внимательно изучив их подошвы и каблуки.
– Занятное дело, господа, – проговорил он. – Если бы я не был уверен в аккуратности подчиненных господина исправника, я бы подумал, что в полицейской части халатно относятся к хранению улик, собранных на месте происшествия.
– Что вы хотите этим сказать, Петр Александрович? – спросил Мышецкий.
– Я хочу сказать, ваше превосходительство, что одежда и обувь, найденные в комнате убитого поручика Караганова, едва ли принадлежали одному и тому же человеку.
– Вы уверены?
– Взгляните сами: левый сапог стоптан несколько сильнее правого. Это характерно для левшей. Профессор заметил у трупа чернильное пятно на левой руке. А вот китель, несомненно, носил правша. Обратите внимание на его рукава, обшлага рукавов и карманы: они больше потерты именно с правой стороны.
– Поразительно! – расстроился исправник.
– Ничего поразительного, Валентин Федорович, – возразил воролов. – Погибший носил мундир как правша, а обувь – как левша. Разве такое в самом деле возможно?
Пятаков, до этого не проронивший ни слова, негромко проговорил в полутьме мертвецкой:
– Эти сапоги носил сам убитый, а его китель – это китель убийцы. И бумаги его карагановские – поди, документы того, кто хлопнул этого малого. Подлинные иль фальшивые – бог весть! Нашел офицерика своей внешности и роста, вызнал все – кто, откуда, куда, – сделал свое дело, взял чужую форму, бумаги, выдрал страницу из ведомости, чтобы скрыть, под чьим именем он теперь прячется, и прости-прощай! И если левша – это еще хоть какая-то примета, то правшей – полон свет. Ищи теперь ветра в поле!
Азаревич в задумчивости снова подошел к распростертому на хирургическом столе телу. На пальцах левой руки трупа он заметил пару небольших порезов.
– Это не ваша работа, профессор? – спросил воролов.
– Нет, так и было, – отозвался врач.
– М-да… Левша, господа! Ей-богу, левша…
Через четверть часа они уже были наверху. Воздух в коридоре больше не казался душным, теперь здесь пахло березовым углем и дешевым, но душистым копорским чаем.
– Теперь предлагаю всем немного отдохнуть до того, как прибудет ваш агент, – сказал Мышецкий. – Валентин Федорович, будьте любезны, посоветуйте нам, где можно остановиться для передышки да подкрепиться.
– Ваше превосходительство, осмелюсь предложить отдохнуть в моем доме, – ответил исправник. – Это рядом совсем – тут же, при части; надолго отлучаться не надо. Если агент прибудет раньше, так сразу его доклад и заслушаем. Да и не в трактир же, прости господи, начальство вести: сраму не оберешься! Околоточные разнесут, так весь город на смех поднимет.
– Что ж, резонно, – Мышецкий кивнул, – а уж если и яичницу справите…
– И не только яичницу, ваше превосходительство. – Валентин Федорович лукаво подмигнул.
При полицейской управе располагались дома практически всех служебных чинов: и исправника, и врача, и полицейских, и пожарных. Это было удобно и служащим, и горожанам, которые всегда знали, где при необходимости искать помощи. Лишь околоточные жили по всему городу, но и они регулярно приезжали в часть «для докладу» и на общие совещания.
Поэтому всего через три четверти часа после скромного, но сытного завтрака и кофе в обществе прокурора, исправника, его почтенной супруги и их пятерых юных отпрысков Азаревич вместе с Пятаковым наконец очутился в небольшой уютной светлой комнате.
– Неужели? – Азаревич снял китель, повесил его на крючок, подошел к кровати и упал на гору ослепительно-белых подушек с кружевными рюшами.
– А нельзя ли, чтобы этот их агент явился для доклада, ну скажем, к ужину? Или завтра? – Пятаков последовал его примеру.
– Отставить разговорчики в строю… – уже сквозь дремоту пошутил его шеф.
Октябрьское солнце протискивало в щели между плотными пастельными гардинами косые лучики света. На ветках деревьев истошно орали и ссорились воробьи. Где-то вдалеке кричали петухи, и корова, неторопливо бродившая по улице в поисках последнего клочка пожухлой травы, мычала и позвякивала своим колокольчиком.
Но все это внезапных посетителей дома исправника теперь ничуть не беспокоило. Через пару минут из-за закрытой двери их комнаты уже слышался мерный раскатистый храп.
Глава V
К полудню доложили о появлении агента.
Молодой человек со светлыми, стриженными «под горшок» волосами сидел в участке и, громко прихлебывая, пил чай, перекидываясь с другими посетителями прибаутками на ярком южнорусском диалекте. Азаревич даже невольно глянул через окошко на двор: не стоит ли там воз с сеном, с репой или с яблоками. Подобных сельских обывателей всегда можно было встретить на ярмарке, на площадях, в дешевых лавках. В полиции таких «молодцов» тоже всегда было достаточно: кого-то приглашали в участок как очевидца, кого-то приводили за бузотерство, а многие являлись и как жалобщики, так как обокрасть подобного бесхитростного простака для многих «щипачей»-карманников казалось просто делом чести. Впрочем, только до того, как попадешься. Разговор будет короткий – долго говорить в деревнях не умеют.
Молодой человек, увидев исправника в компании Мышецкого, Азаревича и Пятакова, поднялся и лениво поплелся за ними в кабинет. Когда дверь закрылась, он остановился перед столом и вытянулся по стойке смирно.
– Садитесь, Медоедов, и докладывайте. – Исправник указал на стул, и агент с видимым удовольствием сел. – Что у нас по застреленному поручику?
– Благодарствую! Докладываю: в ночь на шестое октября в том трактире не присутствовал, – начал агент чистым, почти столичным выговором, – вел наблюдение за Зайчиком, своим подопечным, так сказать.
Исправник в ответ чуть заметно кивнул, и молодой человек продолжил:
– После обнаружения тела в комнате трактира получил приказание навести необходимые справки, – агент выдержал эффектную паузу, – и выяснил, что наши мазурики…
– Карманники, – поправил его исправник.
– Так точно-с, ваше благородие, карманники! Их было в ту ночь в этом трактире двое. Один закончил свои дела рано. Около полуночи вышел из трактира пасти… виноват, провожать какого-то заезжего купца. Вызнавать я у него ничего не стал, чтобы лишний раз глаза не мозолить. Стал искать второго. Это поляк по имени Ян Кунка. Он из заезжих: осенью – зимой в наших краях работает, среди местных трется. А летом по Крыму, так сказать, гастролирует.
– Вы разговаривали с ним?
– Сперва я зашел к местному скупщику краденого: мол, добычу принес. Портсигар военный взял под расписку в участке. Показал. Так на меня скупщик посмотрел! Портсигар не взял. Говорит, что с утра уже весь город про мертвого военного судачит, а тут я да пан Кунка у него с подозрительным товаром околачиваются, черти окаянные!
– Нашли карманника?
– Нашел, а то как же! Присвистнул ему: так, мол, и так, ходят тут нехорошие слухи, что пан своими мокрыми делами внимание фараонов к нашему трактиру привлекает. И с минуты на минуту могут пригласить люди добрые пана к Зайчику на аудиенцию, где нарежут его ломтями, как краковскую колбасу. Кунка – в панику. Он-то все понимает: неудивительно, что Зайчик в бешенстве. Этот трактир – его вотчина, он на карманников особо внимания не обращает, они ему дань платят, и все довольны. Но убийство – это же другое дело!
– Что говорит? – поинтересовался исправник.
– Божится, что не убивал, – развел руками агент. – Так передо мной оправдывался! Мол, у кого-то из военных, что в трактире были, в карманах пощупал, а чтоб убивать – нет, не убивал. Не было греха! Надеялся, что я перед Зайчиком его отмажу, ну, заступлюсь то есть. А я ему: ступай-ка ты, мил человек, пока тебя наши не сцапали, в участок с повинной! Ежели чего знаешь – расскажи, если брал чего – отдай. Уж брать на себя вину в душегубстве аль запираться – это твоя забота. Но как говорят, «господин дохтур в самоубивство не верят-с», а мокрое дело на себя кому-то взять придется. Город у нас тихий, тут нераскрытые убийства никому не нужны. И шкура у пана в полицейских казематах будет целее, чем на воле.
– А за себя-то не боитесь? Вдруг до Зайчика весть дойдет, что вы виновного не к нему доставили, пусть он и не приказывал, а в полицию! Раз – и четыре месяца внедрения в шайку насмарку! А то и, не приведи бог, чего-нибудь похуже!
– Будьте покойны, ваше благородие! Коль и донесут, то скажу, что рассудил: зачем уважаемому человеку такой мелкотой заниматься? На то мы есть, люди его, чтобы дело его беречь да добро его стеречь. Труп есть, подозреваемый теперь тоже есть, а показания и доказательства найдутся. Мол, явился поляк в участок как миленький! Что отвели его в камеру, а я проследил да заглянул к фараонам потом – шепнуть, что видел щипача в том трактире. Зайчику это по вкусу придется, он таких рисковых любит!
– Хорошая работа, Медоедов, – похвалил исправник.
– Недурно, – сказал Мышецкий, – но почему вы уверены, что этот поляк не убивал поручика?
– Да не тот это человек, – пожал плечами агент, – он просто мелкий воришка. Невзрачный такой. Ни в жисть ничего поперек слова Зайчика не сделает. Тихонечко сюда на постой осенью приезжает, у него тут и баба есть. Зайчику дань платит бесхитростно, не споря. Правил их не нарушает. Даже скупщика, как появился здесь, ни разу не менял. Но глаз у него и слух хорошие, знает много. Вы потрясите его, потрясите!
Медоедов, щелкнув каблуком, кивнул прокурору с исправником и пошел к выходу. У двери он сразу ссутулился, зашаркал ногами, а затем в коридоре послышались его брань и прибаутки, теперь снова раскрашенные южнорусским переливчатым говором.
– Однако, – Мышецкий повернулся к Валентину Федоровичу, – крепко у вас тут все поставлено!
– Согласно указаниям из всех высших инстанций, – ответил исправник. – Город потому и тихий, что все под контролем.
– Ну-с, тогда давайте возьмем в оборот этого Кунку. Времени мало!
Допрос трактирного карманника решили поручить исправнику и Азаревичу. Явно напуганного Кунку конвоиры почти втолкнули в кабинет. Тот неловко попятился к закрывшейся за ним двери. Его оцепеневший взгляд впился в Азаревича. Присутствие исправника, которого щипач знал в лицо, тоже не внушало особой радости: дело явно пахло жареным.
Азаревич рассматривал карманника с неменьшей внимательностью. Тот был невысоким, поджарым, с тонкими пальцами рук и на редкость некрасивым бледным лицом: маленькими, близко посаженными глазками, приплюснутым носом, тонкими, почти бесцветными губами и светлыми волосами, торчащими неровными пучками в разные стороны.
Кунка опустил глаза и произнес:
– Я сам пришел, пан исправник, заявить о собственной невиновности…
– Невиновные, голубчик, дома сидят и ничего засвидетельствовать в участке не торопятся, – возразил исправник. – Говорят, видели тебя ночью в трактире с убитым поручиком, а потом раз – и такая история! Так ты, коль знаешь что, выкладывай!
Кунка переминался с ноги на ногу. Волнение его было столь очевидным, что исправник нетерпеливо махнул полицейскому, стоявшему навытяжку у двери. Тот подхватил придвинутый к стене стул и поставил его рядом с задержанным.
Карманник испуганно поглядел на исправника, затем на стул, потом неслышно сел.
Все молчали.
Наконец Ян прошептал:
– Matka Boska![10] Я тут ни при чем, панове![11] Мне уже угрожают всякими карами, а я чист! Ну да, были в трактире той ночью двое в военной форме, были, видел! Ближе к часу ночи сверху спустились. Они вина взяли белого, леща в сметане да раков. Толковали о том о сем: кто да где служил, кто откуда родом, да разные авантюры свои военные вспоминали. Посидели, посмеялись, в карты стали играть. Играли долго. Потом разошлись, а дальше и я ушел. Matka Boska! Я невиновен, вельможный пан!
– Подожди Пречистую Деву сюда приплетать! Описать обоих сможешь?
– Ну, один ко мне спиной все время сидел, его лица я не видел, только затылок его вихрастый помню. А другой – на вид обыкновенный: роста среднего, лет двадцати пяти, усы, коротко подстрижен. Очень нервничал, как в карты кончили играть. Видать, проиграл много!
Карманник почесал лоб ладонью и добавил:
– Когда я уже выходил, он бокал опрокинул и разбил. Попытался осколок из тарелки вынуть, да так неудачно, что порезался…
Валентин Федорович потер руки и обратился к полицейскому у двери:
– Прервемся! Пошлите срочно за доктором, и пусть он покажет этому голубчику тело погибшего. А потом с опознания сюда! Мигом!
Яна Кунку увели.
Когда карманник снова появился в кабинете исправника, он был смертельно бледен, кожа его казалась прозрачной, а пересохшие губы стали синюшного цвета. Он, не спрашивая разрешения, плюхнулся на стул и обмяк.
Азаревич налил ему стакан воды.
Карманник, с трудом сделав пару глотков, выдохнул:
– Он это…
– Который? – уточнил исправник.
– Ну который ко мне лицом сидел и руку порезал.
– А второй? Как выглядел второй?!
– Не видел, милостивый пан! – Губы Кунки задрожали. – Есусом Христусом клянусь, не видел я его! Только затылок и спину. Потом он вышел, видимо, освежиться… А этот, – щипач указал пальцем в пол, – остался за столом вино допивать.
– А ты, значит, к нему! Подпоил, до комнаты проводил, – исправник вдруг повысил голос, – а там попытался что-то у него украсть, а он тебя за руку поймал? Схватил, поволок было к двери, в околоток тащить, а ты – за его пистолет и дуло ему в висок? А потом куда сбежал? На черную лестницу? В окно? Куда? Говори! Так было? Так? Отвечай, стервец!
Кунка втянул голову в плечи и зажал уши ладонями.
– Нет! Нет! Я не убивал! Не убивал!
Азаревич молча выжидал. Он не мог прямо в лоб спросить карманника об упомянутых Медоедовым вещах с тела убитого. Таким вопросом он опасался раскрыть личность полицейского агента, поставив под угрозу операцию и его жизнь.
– Пан Кунка, – подал наконец голос воролов, – мы сюда вас не приглашали. Вы явились сами, по своей воле, и все время твердите, что вы здесь ни при чем. Но с чего такая прыть? Значит, вы все же в этом деле как-то замешаны?
– Да, ваше превосходительство, да! То есть нет! Нет, я пальцем никого не тронул! Но, – карманник перевел дух и вдруг ухмыльнулся, – я у кавалериста этого кое-что увел.
Он опустил руку куда-то в подкладку потертого сюртука и вытащил маленькие серебряные часы на цепочке.
– Откуда это у вас? – поинтересовался Азаревич.
– Грешен! – Кунка пожал плечами, протягивая часы исправнику. – Пока этот военный заливал свой проигрыш, стал я мимо столиков к выходу пробираться. И вдруг я так неудачно его стол толкнул, что стакан у него возьми и опрокинься! Об тарелку раз – и вдребезги! Он стал осколки собирать да порезался! Уж я так извинялся, что пана так неделикатно побеспокоил, так извинялся! И салфеткой пальцы ему помог замотать, и выпивку ему еще предлагал! Только он отказался…
– И в этот момент часы у него и вытащили?
– Да, досточтимый пан!
– Только это взяли?
– Да. У него в кармане еще какие-то бумаги были, но мне ведь документы ни к чему! Я свое дело сделал и ушел, он еще живой был, понимаете? Живой! И трактирщик видел, как я уходил, и гости еще сидели. Больше я его не видел. В краже признаюсь, но в смерти его – нет, не виновен!
– Вы уже пытались сбыть часы? – спросил Азаревич.
– Пытался, но мой человек не взял. – Карманник помотал головой. – Дескать, риск большой, весь город уже говорит о трупе в трактире, но, так и быть, возьму за десять целковых. Холера! Жадный пес! Захотел задарма хорошую вещь! Не выйдет! Решил: вот пойду к ювелиру, пусть буквы зашлифует. Потом – в тайник, а летом в Крыму продам! И не за гроши…
– Бросай выслуживаться! Увести его, – махнул рукой исправник.
Он взял часы со стола, в задумчивости покачал их на цепочке, словно маятник, и протянул Азаревичу.
– Ну что же, Петр Александрович, берите ваш улов. Но все-таки жаль, что этого паршивца не заинтересовали бумаги!
– Ничего, – отозвался воролов. – Бывает, что и вещи могут кое-что поведать о своих хозяевах.
Азаревич повертел трофей в руках, а потом со щелчком открыл крышку часов. На ее внутренней стороне блестели изящно выгравированные строки:
- В Благовещенске далеком
- Вспоминайте обо мне…
Глава VI
– Согласитесь, Петр Александрович, весьма досадно, что девицы нынче не оставляют на память женихам более подробных посвящений! В моде загадочность, недосказанность, намеки. Не любовь, а война просто! Нет чтобы написать: «Милый моему сердцу Николай Павлович Александров из Тарусского уезда Калужской губернии! Не забывайте юную девицу Надежду Ивановну Сироткину, что живет в соседней с вами усадьбе Сафьяново»! Вот тогда мы бы знали уже намного больше, чем сейчас! Мм, как вам угощение? – Мышецкий вилкой ковырнул рака и с хрустом отделил его большую красную клешню.
Завсегдатаи трактира, перешептываясь, с интересом посматривали на двух чужаков, сидящих за «тем самым» столом, где несколькими ночами ранее ужинали ныне мертвый поручик со своим спутником.
– Благодарю, очень недурно! – ответил воролов. – Некая неизвестная нам Надежда Ивановна, боюсь, не получала рекомендаций и циркуляров на этот счет, иначе она не преминула бы ими воспользоваться. Однако все же эта особа, которую мы не имеем чести знать, сама того не подозревая, оказала нам неоценимую помощь. – Азаревич ухмыльнулся и наполнил два хрустальных бокала светлым пивом.
Мышецкий покрутил свой бокал, задумчиво рассматривая янтарный напиток в свете свечи.
– Я все думаю о нашем поручике: не так давно он сидел здесь же, пил вино, играл в карты, наверное, замышлял что-то в своем будущем, чем-то увлекался, кого-то любил, чем-то дышал, наконец! Был человек, и вдруг нет, даже от имени его не осталось и следа. И ни родных, ни близких его не найти, помянуть его некому. Вот только нам, совершенно чужим ему людям. Остался от него лишь мешок из кожи да костей, да и тот с каждым часом все больше по швам расползается. Хрупок человек, ничтожен, а все туда же – царь природы! Покоритель мира! Как бы зазнайство человечества однажды его же и не сгубило…
Выпили не чокаясь.
– Мне жаль, – продолжил прокурор, – что преступник ушел у нас из-под носа. Благовещенск – не близко, не Ковров и не Кострома! Но вам ведь не привыкать, не так ли? Часть пути проедете поездом по Самаро-Златоустовской железной дороге, а дальше… Выпишем вам подорожные грамоты на лошадей по высшему разряду, как фельдъегерю, для беспрепятственного проезда, чтоб вы нигде не задерживались! Сегодня – восьмое октября. Пока что вы, что наш подозреваемый доберетесь до места, наступит Рождественский пост, а в пост театры спектаклей не дают. В Благовещенске вы окажетесь через пару месяцев, примерно в середине декабря. Должны успеть…
– Вы полагаете, – спросил прокурора Азаревич, – что это наш след?
– Может, да, а может, и нет. – Мышецкий отставил бокал в сторону. – Нужно попробовать размотать эту ниточку. Это единственное, что пока нам остается. Если этот путь окажется ложным, то останется только ждать следующего самоубийства какой-нибудь актрисы перед премьерой. В любом случае нужно ехать в Благовещенск!
– Но что там делать без имени, под которым теперь прячется наш неприятель?
– Имя мы, конечно, будем искать. Я распорядился, чтобы для опознания сделали несколько фотографических снимков лица и тела погибшего. Постараемся выяснить, кем на самом деле был этот поручик. Однако вряд ли девица, которой он перестанет отвечать на письма, пойдет в полицию. Родители, если они живы и ждут от него весточки, тоже хватятся не скоро. Возить антрепренера театра уже бесполезно: для него все военные теперь на одно лицо. У вас он стушевался, мне тоже не смог дать никакого внятного ответа, да и сам вдобавок чуть не рухнул в обморок. А время идет, и память его не проясняется, а воображение лишь дорисовывает недостающие подробности, запомнить которые при мимолетной встрече просто невозможно.
Прокурор вздохнул и замолчал.
Половой принес большой поднос и поставил на стол блюдо с телячьими почками в сметане, глиняную миску с солеными грибами и миниатюрную расписную тарелочку с диковинными французскими корнишонами.
Мышецкий взял со стола салфетку:
– Мой бог, какие деликатесы! Я, откровенно говоря, иногда удивляюсь собственному чувству голода или ознобу, если промочу ноги. Кажется, что мне проще считать себя чем-то вроде арифмометра, который нужно только вовремя чистить да смазывать.
Он заправил салфетку за воротник и продолжил:
– Ну да мы не об этом! С очевидцами нам не повезло. Хотя, надо признаться, я никогда не делаю ставку на очевидцев. Память человеческая дорисовывает события так изящно и причудливо, что человек сам никогда не знает, что он действительно видел, а что ему просто показалось. Особенно если приходится вспоминать о вещах, на которые не обращаешь внимания осознанно. Если мы с вами, Петр Александрович, пройдем отсюда, от трактира до полицейского участка, а потом опишем нашу прогулку со всеми подробностями на бумаге, то это будут два совершенно непохожих друг на друга рассказа. А если мы сделаем это через неделю? Да что тут говорить…
– Согласен, – кивнул Азаревич. – Антрепренер мне скорее будет обузой, да и его появление в городе, если мы все же на верном пути, может спугнуть нужную нам фигуру. Итак, в Благовещенск я еду один.
– Почему один? – удивился прокурор. – Я намерен дать вам ординарца. Как вам наш сверхштатный околоточный надзиратель Пятаков? Он давно у меня на примете.
– В деле он хорош. Мне может понадобиться его помощь, не исключено, что даже оружием. Да и лишние глаза и уши совсем не помешают.
– Именно. Думаю, вам стоит прибыть в Благовещенск одновременно, но не вместе. Я похлопочу, чтобы его разместили у местного армейского начальства. Пусть он изучит документы, выяснит, кто и когда прибыл в полк, где служил до этого. Вас же нужно будет устроить на постой вместе с подозреваемыми – с теми, кто прибудет в расположение части позже девятого-десятого октября и кого в полку знать не будут. Полагаю, одним подозреваемым мы не обойдемся.
– Я попрошу мне тоже выправить документы поручика. – Азаревич снова потянулся за кувшином. – Я, конечно, постарше буду, не совсем мне этот чин по возрасту, ну да военная карьера может изобиловать и не такими пируэтами. Никого это удивить не должно.
– Хорошо. – Мышецкий наблюдал, как пенная струя вновь наполняет его бокал. – Но тут у вас сложность другого рода будет…
Азаревич поднял на прокурора вопросительный взгляд.
– Я хотел бы с вами обстоятельно поговорить о некоторых особенностях нашего дела, – продолжил тот. – Вы ищете и находите преступников: воров, убийц, вот таких изуверов, как наш нынешний противник. Но сейчас перед вами встанет необычная и очень сложная задача. Для того чтобы поймать преступника, вам очень нужно будет найти его жертву. Будущую жертву. Именно в этом будет заключаться успех нашего предприятия. Узнаем жертву – успеем предотвратить преступление и поймать подлеца с поличным. Я это дело сейчас вижу именно так.
– Такого мне делать еще не приходилось. Да и возможно ли это? – Азаревич задумался.
– Вот посудите, Петр Александрович: самоубийство, подобное тем, что мы расследуем, – дело умышленное. Его нужно продумать, подготовить и осуществить, и за каждым приготовлением остаются следы, метки, знаки. И жертва тут не просто жертва, а самый настоящий соучастник. Не виновник, нет, упаси бог, ибо действует она под непреодолимым воздействием внешних сил и при помрачении собственного разума…
Прокурор отставил бокал, отер усы и бороду салфеткой и вынул из кармана кителя небольшую записную книжку в черном кожаном переплете.
– Помните, я рассказывал об актрисах, погибших при схожих обстоятельствах? Я получил детальные отчеты по их случаям. У нас вырисовывается очень интересная картина. Вот, например, «спящая красавица» Амадея Лозинская – Зинаида Осипова. После нашей встречи в ее московской квартире в деле появилось множество прелюбопытных деталей. К девушке в театре относились хорошо, явных недоброжелателей у нее не было, но многие отмечали ее очень неспокойный характер: перепады настроения, иногда – приступы меланхолии, а иногда – почти эйфории. Помните ту горничную, что обнаружила Лозинскую; ее как раз приводили в чувство, когда мы встретились в доходном доме Синицына?
Азаревич кивнул.
– Так вот, – продолжил прокурор, – она была в довольно доверительных отношениях со своей хозяйкой. Актриса не скрывала от горничной влюбленности в своего поклонника и делилась с нею, так сказать, девичьими секретами.
– Горничная его видела?
– Вот тут и первая загвоздка: наш поручик ни разу не попадался горничной на глаза, а это, согласитесь, довольно сложно, если учитывать, что горничная – молодая и наверняка любопытная девушка. Но нет: клянется, что не видела.
– Значит, она не рассказала ничего нового?
– Почему же, – Мышецкий потер руки, – рассказала. Поклонник этот появился примерно за месяц до гибели Лозинской или чуть более того. Корзинами цветов ее заваливал, в любви клялся. Обещал стреляться, если не ответит взаимностью. В общем, растопил девичье сердце; много ли в столь юном возрасте для этого нужно? Вот только после уже взаимных признаний в любви поклонник начал с еще большим пылом твердить: мол, любовь эта и сама Амадея – трагедия всей его жизни, потому что батюшка его выбор не одобряет и благословения на брак с актрисой сомнительного происхождения давать не намерен. Ослушаться нельзя, иначе отец лишит и наследства, и содержания. Накануне премьеры наш жених исчез на несколько дней, сказав, что едет в очередной раз уговаривать отца. А как вернулся аккурат накануне премьеры, первого октября, и поговорил с Лозинской, так, видимо, все и завертелось. Лозинская на последней репетиции устроила скандал по поводу одного из своих костюмов и потребовала от антрепренера его совершенно переделать. В девять часов вечера она отослала к театральному портному платье с горничной; Амадея часто так делала, поскольку фигуры у девушек были схожие.
– К портному – и так поздно? – Азаревич прищурился. – Не очень-то похоже на теплые отношения!
– Все-таки премьера уже на следующий день, – развел руками Мышецкий, – да и портной жил в том же доме Синицына, только в другом крыле и на другом этаже. Там почти все жильцы имеют отношение к театру. Это удобно. Так что горничная не удивилась и ничего не заподозрила. Только говорит, что Лозинская очень нервничала. Но и это накануне дебюта было неудивительно.
– Вы хотите сказать, что Амадея избавлялась от вероятных свидетелей? Но ведь горничная могла вернуться слишком рано?
– Это вряд ли. Я сам видел список требований к изменению фасона сценического платья – он очень внушителен. Как бы то ни было, вернулась она с платьем в три часа ночи. Памятуя о том, что у хозяйки совсем скоро премьера и платье нужно примерить, горничная на свой страх и риск сразу пошла к Лозинской. Что было далее, вы уже знаете: шопеновская пачка, запах хлороформа, таблетки и тщетные попытки привести нашу «спящую красавицу» в чувство…
– Кстати, – поинтересовался воролов, – а почему снотворное именно с хлороформом?
– Потому что человеческий организм, будучи отравленным, – ответил прокурор, – обычно из последних сил пытается спастись, извергая из себя яд естественным путем. Усыпленный хлороформом, он с такой задачей справиться почти не способен. И об этом могла догадываться не только Амадея.
– Понимаю…
– Итак, горничная подняла шум, жильцы вызвали полицию, которая нашла обрывки записок…
– И вы вызвали меня… – Азаревич опустил голову.
– Именно так. – Мышецкий снова заглянул в кожаную книжечку. – Но сейчас у нас есть не только записки.
– И вы молчали?
– В деле Караганова это не играет никакой роли. Но в деле Лозинской… В комнате, помимо этих записок, на салфетке, лежавшей на столике со снотворным, нашли небольшое, не более горошины, пятно.
– Пятно? – Азаревич поднял глаза на прокурора.
– Да, – подтвердил Мышецкий. – Даже скорее отпечаток. Ружейное масло.
– Ружейное масло в девичьей комнате?
– Представьте себе!
– Известно, когда прибирали в квартире погибшей?
– Накануне в полдень. Салфетки были свежими.
– Значит, у него был револьвер? – предположил сыщик.
– Я думаю, да, – согласился прокурор. – Ну, поди, не солидно перед дамой отраву-то пить! Я полагаю, он уговорил ее на двойное самоубийство. Воспользовался обстановкой, сыграл на чувстве вины внебрачного дитя, сам устроил пару патетических истерик: мол, только смерть – достойный выход из положения. Вы сталкивались с подобными типами, Петр Александрович?
– Доводилось.
– Это хорошо. Уж не знаю почему, но такие часто нравятся юным девушкам. – Мышецкий покачал головой. – Что в итоге? Лозинская узнает, что брак с возлюбленным невозможен, и соглашается на совместное демонстративное самоубийство: раз мы не можем жить вместе, так мы умрем вместе, всем назло и напоказ! Но состояние аффекта вдруг проходит, и она решает не переходить черту.
– И план рассыпается?
– Да. Но жених требует довести дело до конца. Возможно, угрожает ей оружием. Девушка под видом пробы пера пишет первую записку – ту, измятые обрывки которой мы позже сумели разобрать, а затем и вторую, которую от Лозинской требует убийца. Кстати, чернильницу в комнате балерины мы так и не нашли, хотя перья на столе остались. А чернильница, между прочим, – это подарок ее почтенного родителя… Ну а когда все кончено, жених, вместо того чтобы пустить себе пулю в лоб, исчезает, а у нас с вами появляется почти неразрешимая задача.
Азаревич задумался.
– А что известно о других случаях? – спросил наконец он. – Сценарий, если не считать разорванной записки, похож?
Мышецкий откинулся на стуле и закинул ногу на ногу.
– Знаете, Петр Александрович, если мы допускаем, что все эти эпизоды – звенья одной цепи и действует именно, как говорят медики, «маниак», «психопат», то я вижу следующее: он каждый раз усложняет себе задачу.
– Как это? – не понял Азаревич.
Прокурор перелистнул в записной книжке несколько страниц, исписанных убористым, витиеватым почерком.
– Наш первый выявленный случай – Надежда Клеппер-Добжецкая, «Орлеанская дева». Она славилась в театре своим меланхоличным характером с внезапными приступами ярости: к примеру, могла на репетиции своему партнеру по сцене пощечину отвесить, если что не по ней. Так вот, где-то за месяц до ее смерти тоже появился некий поклонник. Далее, напомню, во время премьеры спектакля в театре начался пожар. Из погибших – только Клеппер-Добжецкая. Дело постарались замять. Расследование, как я понял по докладу, провели очень поверхностно. Но в труппе говорят, что актриса по ходу пьесы крикнула кому-то в зале слова не по тексту – что-то вроде: «Нет воли отныне твоей надо мной, и позор мне мой ныне не страшен». Зрители это, конечно, посчитали частью монолога, но актеры слышали эти слова впервые. И на сцене внезапно вспыхнуло пламя, которое очень быстро перекинулось на декорации и опускающийся занавес. Из отчета неясно, что стало причиной пожара, но я предполагаю, что она могла поджечь себя и свой костюм: трико, накидку и все прочее.
– То есть он чем-то шантажировал ее?
– Возможно, возможно…
– А остальные? – вспомнил Азаревич. – В вашем списке, если не ошибаюсь, были еще Ундина и Джульетта?
– Верно! Вы запомнили? – улыбнулся Мышецкий. – А говорили, что равнодушны к театру! Да, в прошлом году театр Шереметьевых был на гастролях в Крыму. Главную роль, Ундину, в опере с тем же названием исполняла актриса Дарья Баркова. Нрава она была прескверного: замкнутая, необщительная, постоянно недовольная всем и всеми. Гневливая: в приступе ярости могла бросить в оппонента не только гребешок или веер, но и бокал, бутылку, чайник с кипятком – все, что под руку подвернется.
– Ого! – Воролов присвистнул.
– Да-да. У труппы были с ней довольно неприязненные отношения. Она безумно ревновала успех своих собратьев по ремеслу. И воздыхателей своих тоже ревновала без меры. Несколько раз даже пыталась наложить на себя руки, правда безуспешно: или вовремя из петли вынимали, или порезы на руках оказывались недостаточно глубокими, или доктор успевал промыть ей от снотворного желудок. Будто и не спешила на тот свет вовсе, а лишь на публику играла… Но однажды все сложилось иначе. В одну из ночей, якобы после ссоры с одним из своих обожателей, Баркова, подобно своей героине, пошла на берег моря и утопилась. Ее тело нашли утром в воде у ялтинской набережной.
Мышецкий перевернул страницу:
– А вот балерина Клаудиа Вирарди из Санкт-Петербурга. Она исполняла роль шекспировской Джульетты. Тут у нас тоже характер сложный, итальянский, взрывной. Тема самоубийства Вирарди, несомненно, манила. На званых вечерах она могла внезапно на глазах у всех приставить к своему виску пистолет и потребовать у случайного поклонника поцелуя, угрожая в случае отказа нажать на курок. Из-за этого даже приключилась пара скандалов. Так что тут, видимо, наш искуситель быстро нашел свою жертву. Вела она себя если не вызывающе, то капризно – такие персоны в жизни более актрисы, чем на сцене. И опять же, за несколько недель до гибели – поклонник, с которым она никого не знакомила. В день премьеры – кровать, засыпанная лепестками роз, белоснежное платье, как на театральной программке, и большая доза снотворного.
– Похоже на недавний случай с Лозинской, – заметил Азаревич.
– Именно, – ответил прокурор. – Это обстоятельство и привлекло мое внимание. Я стал искать похожие случаи и, кажется, не промахнулся.
– Я бы посчитал Вирарди классической самоубийцей.
– Меня здесь смутило именно наличие таинственного поклонника. До этого Вирарди заводила романы открыто и, я бы сказал, напоказ.
– Но возможно, ее избранник просто был женат? – предположил воролов.
– Такие романы у нее тоже были. – Прокурор усмехнулся.
– Но тогда ее вряд ли можно было повергнуть в тяжелую меланхолию, отказавшись на ней жениться, как в случае с Лозинской.
– Вот именно. Здесь он брал чем-то другим. Видите, ему не интересен один и тот же сценарий. Он все время их меняет и усложняет. И типажи жертв, которых он выбирает, тоже разные.
– Непростая публика, – выдохнул Азаревич. – Ну и задачку вы мне поручаете, ваше превосходительство!
– Знаю, – согласился Мышецкий. – Все понимаю: сложно! Материал очень неверный, улик мало, география расследования обширна, а в основе – лишь догадки, теории, домыслы. Но скажите откровенно: ведь вы его чуете, правда? Как и я – ведь чуете же! Да, он хитер, ловок, изворотлив, да и изобретателен, должно быть! Но он есть!
– И вдобавок музыкален!
– О да! Этого не отнять! Достался же ценитель творениям господина Чайковского! Кто знает, возможно, это некая навязчивая идея… Или индивидуальный почерк, как у воров или взломщиков. А может, это и вовсе умышленная игра с судьбой! Вызов неизвестному ему охотнику – следователю, сыщику: разгляди меня за всеми этими событиями, услышь, почувствуй нюхом, кожей. Вычисли! – Мышецкий повысил голос так, что несколько человек за стойкой обернулись. – Выиграй у меня эту партию, господин законник, поставь мне шах и мат!
Прокурор опустошил свой бокал и стукнул им по столу.
– Поставил? – снова зарокотал голос Мышецкого. – Взял?! Вот то-то же! Накось выкуси! Значит, я сильнее! Значит, именно я право имею! Право не просто казнить и миловать, а убедить жертву добровольно принести на мой изуверский алтарь самый ценный дар, которым располагает человек, – его жизнь! Я знаю, Петр Александрович, вы его обязательно найдете! Возьмете за горло или посадите на цепь, но докажете ему, что он просто подлая тварь и никакого такого права у него отродясь не бывало!..
– А стоит ли стараться? – вдруг перебил собеседника Азаревич.
Прокурор захлопнул свою записную книжку.
– Не понимаю вас…
Азаревич откинулся на спинку стула и расстегнул ворот сюртука.
– Не напрасны ли все наши усилия? Люди замечательно справляются с уничтожением себе подобных и самих себя. Человеческий ум год за годом исторгает из своих недр все более смертоносные виды оружия. Ширится круг причин, по которым допустимо сеять ненависть между людьми. Религиозные войны, гражданские, трения между разными нациями… Скоро люди начнут ненавидеть, а то и истреблять друг друга потому, что одни думают так, а другие этак; одни богаты, а другие бедны; одни веруют в Бога, а вторые – нет; одни – белые, а другие – черные или желтые; и, наконец, одни – мужчины, а другие – женщины. Нас будут учить ненавидеть друг друга, чтобы добраться до власти, денег и еще большей власти. Это, что ли, будущее?
Не замечая недоумения в глазах Мышецкого, Азаревич оперся локтями на стол и сжал пальцами виски.
– Ну а раз так, то зачем им всем помогать? Зачем пытаться искоренить преступность? Старайся или нет, а итог все равно один: зависть, жадность, похоть, ложь, злоба и ненависть. Даже к себе ненависть! Насколько же надо себя ненавидеть, не уважать, считать себя недостойным самого дара жизни, чтобы добровольно отвергать его и бросать, как дуэлянт перчатку, в лицо Создателю, по своей же воле разрушая самого себя…
Азаревич замолчал. Мышецкий внимательно смотрел на него и лишь постукивал длинными пальцами по черной коже лежавшей перед ним на столе записной книжки.
– А вы, стало быть, предлагаете устраниться? – проговорил наконец прокурор. – Нет уж! Мы все довольно несовершенны и уж точно не безгрешны, но именно поэтому нам стоит хотя бы в самой малой мере помогать и верить друг другу. И ваши, и мои скромные силы и таланты не безграничны. Вы не бог, однако вы есть часть механизма противления злу и преодоления зла, и ваша небольшая, но прочная шестеренка должна смиренно и упрямо вертеться, поскольку она для того в сей механизм и встроена. Не хотите сделать это для других? А вы вспомните о том, почему год назад прекратили сотрудничать с полицией, и сделайте это для себя самого! Вам наверняка станет легче жить, если вы дойдете в этом деле до конца.











