Читать онлайн Рассказы комсомольского работника Часть 2
- Автор: Олег Фролов
- Жанр: Биографии и мемуары
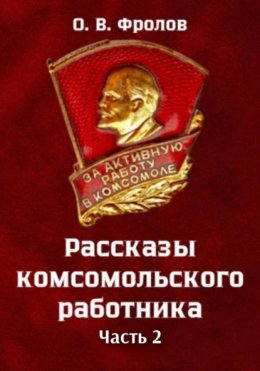
Об авторе
Олег Васильевич Фролов на протяжении более девяти лет входил в состав выборного органа Московской областной организации ВЛКСМ (кандидат, член Московского областного комитета ВЛКСМ).
Избирался заместителем председателя профсоюзного комитета, заместителем секретаря и секретарем партийного бюро аппарата МК ВЛКСМ.
Делегат II съезда Российского Союза Молодёжи.
I
После перехода на работу заведующим организационным отделом ГК ВЛКСМ я стал одним из тех, кого в то время при желании кое-кто мог назвать «аппаратчиком», т. е. работником аппарата. Аппарат – это формализованная структура различных подразделений (отделов, секторов, управлений) со своими функциями, реализация которых направлена на выполнение задач и планов выборных органов, начиная с районного и городского уровня и заканчивая центральным, т. е. союзным уровнем. Аппарат был в партийных, советских, комсомольских, профсоюзных, спортивных и других политических, общественно-политических, общественных организациях и обществах.
Работающие в аппарате, за редким исключением, не были членами или кандидатами в члены соответствующих выборных органов. Членами и кандидатами в члены, как правило, избирались заведующие отделами, реже – заместители заведующих отделами. Конечно, бывали и исключения, если на работу в аппарат переходил уже ранее избранный член или кандидат в члены соответствующего выборного органа.
Так, например, было и со мной. Я перешел на должность заведующего организационным отделом ГК ВЛКСМ, будучи ранее избранным председателем ревизионной комиссии городской комсомольской организации. Да и инструктором отдела пропаганды и культурно-массовой работы обкома комсомола я работал, оставаясь кандидатом в члены областного комитета ВЛКСМ, поскольку был избран в его состав еще работая секретарем комитета комсомола техникума и являясь председателем областного Совета секретарей комитетов ВЛКСМ средних специальных учебных заведений.
Кстати, от обязанностей председателя ревизионной комиссии городской комсомольской организации я был освобожден в связи с избранием меня секретарем ГК ВЛКСМ. Таким образом, непродолжительный период времени, менее года, я не являлся работником аппарата горкома комсомола, поскольку находился на выборной должности. Кандидатом в члены обкома комсомола я перестал быть примерно через семь месяцев после перехода на работу инструктором отдела пропаганды и культурно-массовой работы, после того, как на очередной отчетно-выборной конференции областной организации ВЛКСМ был избран новый состав обкома комсомола. В дальнейшем, работая в аппарате обкома комсомола, я, начиная со следующей отчетно-выборной конференции, неоднократно избирался в состав областного комитета ВЛКСМ.
Руководителем аппарата был I секретарь, при этом другие секретари (в ГК и РК ВЛКСМ – два, в обкоме комсомола – четыре) руководили, а точнее курировали части аппарата в соответствии с направлениями своих сфер ответственности.
Аппаратная работа – это во многом рутинная деятельность с устоявшимися формами и методами деятельности. Она невозможна без телефонных звонков, подготовки различных документов, проверок поступающих жалоб, писем и апелляций, командировок в комсомольские организации, участия в обеспечении подготовки и проведения различных мероприятий. И, конечно, без тесного взаимодействия с коллегами – работниками аппарата не только своего, но и других отделов. Уверен, что без такого взаимодействия, никто не смог бы работать в аппарате более-менее долго. Работа в аппарате требует дисциплинированности и ответственности, умения формулировать и доводить до руководства свои мысли и предложения, отстаивать их, а в дальнейшем и реализовывать.
В общем, аппаратная работа – это специфическая сфера деятельности, в которой довольно быстро проявляются знания, силы и умения того, кто ею занимается. Тем более, что никто никого, как правило, ей специально не обучает; до всего надо «доходить» самому, по возможности используя опыт аппаратной работы окружающих, присматриваясь к ним и перенимая от них то, что наиболее подходит для твоей деятельности.
Не скажу, что мне удалось многое почерпнуть от комсомольских работников – сотрудников аппаратов ГК и обкома ВЛКСМ, но и за то немногое, что всё же удалось, я им благодарен до сих пор. Это, например, умение составлять планы подготовки и проведения мероприятий с учётом на первый взгляд незначительных, но способных «сыграть злую шутку» их элементов, равно как и распределять обязанности по выполнению в срок тех или иных пунктов таких планов. В дополнение к этому я для себя добавлял и срок контроля за исполнением.
Насколько важно учитывать все детали, проиллюстрирую несколькими случаями из моего опыта комсомольской работы.
Первый относится к периоду, когда я был секретарем ГК ВЛКСМ.
В ходе подготовки к проведению традиционного ежегодного фестиваля вокально-инструментальных ансамблей «Красная гвоздика» было решено разместить по бокам сцены две световые установки.
Как они назывались, я не помню, но представляли собой, как я теперь понимаю, что-то вроде прототипа стробоскопа: в центре вертикального параллелепипеда вращался переливающийся всеми цветами радуги круг. Установки на время проведения фестиваля предоставил директор единственного в городе универсального магазина; они постоянно стояли в витрине универмага, мимо них, не обратив на них внимания, пройти было невозможно.
Но вечером накануне фестиваля при их монтаже выяснилось, что эксплуатировать их нельзя по правилам пожарной безопасности. Дело в том, что подключать их можно было только с использованием провода с медными жилами, а в наличии был провод лишь с алюминиевыми. Надо было срочно найти необходимый провод. Без особой надежды на успех (рабочий день уже закончился) я позвонил в комитет ВЛКСМ одного из градообразующих предприятий. И мне повезло: телефонную трубку поднял заместитель секретаря комитета комсомола Михаил Задорожный, которому я рассказал о возникшей проблеме и поинтересовался, не может ли он как-то помочь с ее решением. Через полчаса он привез моток проволоки с медными жилами, забрав его из отцовского гаража.
Фестиваль прошел успешно, никаких проблем не возникло.
Следующие случаи относятся ко времени моей работы в обкоме комсомола.
В то время существовала практика направления в помощь ГК и РК ВЛКСМ, занимающимся подготовкой и проведением городских и районных отчётно-выборных комсомольских конференций, групп из числа работников аппарата обкома комсомола (обычно из трёх-четырёх человек), каждую из которых возглавлял заведующий или заместитель заведующего тем или иным отделом обкома ВЛКСМ.
Группа, которую доверили возглавлять мне, работала несколько дней в районе, и к открытию отчётно-выборной конференции всё было готово. Группа занималась подготовкой документов и организационными вопросами. Оформление зала было прерогативой ГК ВЛКСМ.
Но утром, взглянув на сцену зала, я обнаружил, что размещение орденов комсомола не соответствует размещённым за ними орденским лентам. Пришлось в спешном порядке менять местами орденские ленты, каждая из которых была не менее пяти метров в длину и метра в ширину.
Был и ещё один совершенно неожиданный случай, произошедший в одном из отдалённых сельских районов области во время оказания помощи РК ВЛКСМ в подготовке отчётно-выборной комсомольской конференции
Была зима, стояли сильные холода. Вечером накануне отчётно-выборной конференции я и члены моей группы пришли в поселковый Дом культуры проверить готовность зала и ещё раз обговорить порядок действий каждого во время проведения отчётно-выборной конференции.
В зале было не так уж и тепло, но по сравнению с улицей, намного комфортнее. Наиболее тёплым был воздух на сцене. Пока мы с работниками РК ВЛКСМ находились на сцене, что-то постоянно жужжало. На мой вопрос, что это, никто не успел ответить.
Внезапно погас свет, жужжание прекратилось. В кромешной темноте в конце зала, там, где находился дверной проем, появилось маленькое колеблющееся пламя свечи. По мере его приближения к нам стала вырисовываться мужская фигура. Мужчина со свечой в руке поднялся на сцену, зашел за кулисы, что-то щелкнуло, в зале зажегся свет и из-за кулис потянуло теплом. Как объяснил мужчина, отключился автомат и обесточил тепловые пушки.
Он ушел, мы продолжали обсуждать, но автомат вновь отключился. Все повторилось, как в первый раз. За вторым отключением последовали еще несколько. Период между отключениями раз от разу все сокращался. Выяснилось, что это следствие значительно возросшей в зимнее вечернее время нагрузки на энергосеть района.
Понятно, что если так будет продолжаться до утра, температура воздуха в зале вряд ли будет отличаться от температуры на улице. А это означало, что проведение отчётно-выборной конференции стало бы невозможным.
И такая ситуация была вполне реальной, поскольку в ночное время никому из работников Дома культуры не вменялось в обязанности находиться в нем и обеспечивать своевременное включение автомата в случае его отключения.
Выход был найден: с вечера до утра в зале остались, сейчас уже не помню, один или два местных комсомольских активиста, которые каждый раз после отключения автомата включали его.
Утром, когда начали прибывать делегаты, в зале было не просто комфортно, а очень комфортно. За все время, пока шла отчетно-выборная конференция, автомат ни разу не отключался. Не было пиковой нагрузки.
Кстати, совсем другая ситуация, связанная с отключением освещения, была за несколько лет до рассказанной, но не в этом районе, а в городе, где я ещё был секретарём комитета ВЛКСМ техникума и председателем ревизионной комиссии городской комсомольской организации.
В первой части книги я рассказывал, что участвовал в организации приёма в городской комсомольской организации I-х и II-х секретарей горкомов и райкомов комсомола области, членов бюро обкома ВЛКСМ. Но не упомянул, что завершиться оно должно было расширенным заседанием бюро обкома комсомола, на котором планировалось рассмотреть вопрос об опыте работы комсомольских организаций нашего района с несовершеннолетними в зонах комсомольского влияния по месту жительства (формулировку привожу по памяти).
Городской комитет комсомола основательно подготовился к рассмотрению; помню, даже был специально изготовлен большой красочный стенд со схемой ЗКВ (зон комсомольского влияния).
Заседание должно было пройти в конференц-зале ГК КПСС. Однако, когда вечером в зал, в котором уже находились I-е и II-е секретари горкомов и райкомов комсомола области, вошли члены бюро обкома ВЛКСМ и поднялись на сцену, чтобы занять места в президиуме, не только в зале, но и во всём трёхэтажном здании, в котором размещались ГК КПСС и ГК ВЛКСМ, внезапно пропало освещение. При этом, как было видно через стёкла окон, в окружающих с трёх сторон здание домах освещение было. С четвёртой стороны здания освещение отсутствовало.
Что произошло? Здание попало в число домов, в которых произошло плановое отключение электричества; это тогда называлось «веерным» отключением электричества и было довольно распространено в ту зиму.
Включить освещение не удалось, это было вне компетенции городских органов власти. Вот и пришлось перенести заседание бюро обкома комсомола, если не ошибаюсь, на неделю вперёд.
Как рассказывали работники аппарата ГК ВЛКСМ, некоторые из участников совещания, посмеиваясь, говорили между собой, что «Дмитриев специально договорился об отключении электричества, чтобы не рассматривался вопрос сегодня».
Через неделю рассмотрение вопроса состоялось, правда, стенд пришлось везти в обком комсомола, а после заседания – обратно в ГК ВЛКСМ, благо он был раскладной. Кажется, через полгода секретариат обкома комсомола снял с контроля принятое на заседании бюро обкома ВЛКСМ постановление без участия представителей нашего горкома комсомола.
Если о рассказанных случаях в то время, наверняка, знали многие, то еще об одном знали не более пяти человек. По крайней мере, я никогда его не афишировал.
Это было вечером, накануне начинавшей утром следующего дня работу отчётно-выборной конференции областной организации ВЛКСМ. Я и два инструктора занимались завершением оформления сцены, где должен был размещаться президиум конференции. После чего надо было разложить по папкам, которые завтра при регистрации должны быть выданы делегатам, традиционный набор песенных текстов. Наборы были скомплектованы, как я понимаю, в типографии и этим вечером в коробках доставлены в зал.
Не знаю почему, но я вынул из одной из коробок набор и вскрыл его. А в нем вместо единственного – два текста «Интернационала»! Вскрыл второй набор: то же самое. Выбрал наугад по набору из нескольких других коробок – два текста!
Вот и пришлось вскрывать все наборы песенных текстов, извлекать из них один текст партийного гимна и только после этого помещать наборы в папки. Поскольку делегатов отчётно-выборной комсомольской конференции было несколько сотен, завершили мы эту работу чуть ли не около полуночи.
Утром до начала отчетно-выборной конференции, я рассказал о ситуации с двумя текстами секретарю обкома ВЛКСМ – куратору, а также первому секретарю областного комитета комсомола. Решение об изъятии вторых экземпляров текста было признано правильным и одобрено.
Изъятые и упакованные накануне отчётно-выборной конференции тексты были перемещены мною на полку шкафа в помещении обкома ВЛКСМ.
Возможно, рассказанные мною случаи кому-то сейчас покажутся, мягко говоря, забавными воспоминаниями, но для меня они в то время и сейчас были и остаются значимыми, способными отрицательно повлиять на результаты проделанной работы, если бы не были оперативно найдены выходы из сложившихся ситуаций. Могу с уверенностью сказать, что выработавшаяся у меня привычка быть готовым к возможным неожиданностям, не раз помогала мне.
Вот, например, как это было через несколько лет, когда я, как кандидат в депутаты областного Совета народных депутатов, с моим доверенным лицом принимал участие в предвыборной встрече с избирателями.
Во встрече участвовали все пять кандидатов в депутаты: одного я не запомнил, а три других – это начальник отделения милиции, главный врач больницы и начальник цеха птицефабрики. Встреча проходила зимним вечером в сельском Доме культуры. Кандидаты представляли свои предвыборные программы в порядке алфавита, так что я завершал встречу. Все шло нормально: мое доверенное лицо, инструктор ГК ВЛКСМ Сергей Лобаков, представил меня присутствовавшим в зале избирателям. Я вышел на трибуну, и тут же в зале исчезло освещение. И сцена и зал оказались в кромешной темноте.
На этот раз не было мужчины со свечой. В разных концах зала моментально вспыхнули огоньки фонариков, их лучи сошлись на мне, главным образом на моем лице. Вот и пришлось мне излагать мою предвыборную программу и отвечать на многочисленные вопросы, не видя никого из сидящих в темном зале. Кто хотя бы несколько раз выступал перед большими аудиториями, представляет, каково это не видеть ни тех, кто задает тебе вопросы, ни их реакцию на твои ответы и в целом на твое выступление. Да тут еще режущий глаза свет от лучей фонариков.
Ну, а о том, что свет в зале зажегся после того, как я сошел с трибуны, думаю, догадаться не трудно.
Уверен, сохранить самообладание помогла мне вышеназванная выработанная годами привычка быть готовым к неожиданностям.
Кстати, в больших Дворцах и Домах культуры, чтобы иметь возможность держать ситуацию под контролем, оперативно узнавать о неожиданностях и немедленно принимать решения по их преодолению, да и для постоянной связи с членами группы, я со временем стал практиковать использование переносных милицейских раций во время проведения той или иной городской или районной отчётно-выборной комсомольской конференции. Не помню случая, чтобы в удовлетворении просьбы кого-либо из I-х секретарей ГК или РК ВЛКСМ о предоставлении переносных раций кем-либо из начальников городских или районных отделений милиции было отказано. Понятно, я говорю только применительно к тем городским и районным комсомольским организациям, в которых я возглавлял группы работников аппарата обкома комсомола, направляемых для оказания помощи ГК и РК ВЛКСМ в подготовке и проведении отчётно-выборных конференций.
II
У каждого, кто работал в аппарате того или иного выборного комсомольского органа, была собственная, порученная именно ему сфера деятельности. Так, у меня в ГК ВЛКСМ она заключалась в организации работы инструкторов организационного отдела по вопросам внутрисоюзной деятельности; в обкоме ВЛКСМ, когда я был инструктором, – в организации культармейского движения «Культуре села – комсомольскую заботу!» в рамках "Комплексной программы культармейской пятилетки комсомола Подмосковья 1981-1985 гг.", предусматривавшей совместное, равномерное и планомерное развитие всех направлений культармейского движения: осуществление мер по укреплению материально-технической базы, кадрового состава сельских учреждений культуры, развитию культурного шефства над сельскими жителями.
К сожалению, дальнейшее развитие культармейского движения "Культуре села – постоянную комсомольскую заботу!" после 1985 г. было прекращено. Пришли другие люди и времена…
Сфера моей деятельности как заместителя заведующего отделом пропаганды и культурно-массовой работы понятна из названия отдела. Будучи заведующим отделом студенческой молодёжи, в поле моего зрения находились все вопросы комсомольской жизни в высших и средних специальных учебных заведениях. А информационно-аналитический отдел, который я возглавлял, как мне говорили, вообще был единственным в стране, и занимался он подготовкой соответствующих материалов по различным аспектам участия комсомольских организаций в общественно-политической жизни.
Но это не означало, что каждый работник аппарата занимался только своей сферой деятельности: любого при необходимости можно было подключить к участию в подготовке и проведении того или иного мероприятия, закрепив за ним конкретный, как тогда говорили, «участок работы».
Так было и со мной: я часто входил в состав или так называемой «группы доклада», то есть небольшого коллектива, занимавшегося подготовкой проектов докладов на пленумах и отчётно-выборных конференциях, или в группу, готовившую проекты постановлений пленумов и отчётно-выборных конференций.
Помимо этого, я был среди участников подготовки и проведения многочисленных других комсомольских мероприятий, например, митингов.
Кроме того, как инструктор, я занимался комплектованием и отправкой творческих комсомольско-молодёжных коллективов для участия в работе агитпоездов ЦК ВЛКСМ, а также их встреч по завершении работы.
Однажды агитпоезд ЦК ВЛКСМ «Ленинский комсомол» должен быть работать на территории нашей области. Помню, известие об этом вызвало большое удивление, поскольку он обычно работал в Сибири и на Дальнем Востоке.
Но раз такой его маршрут, то надо было организовать его встречу и приём. О том насколько серьезно отнеслись к этому, можно судить хотя бы по тому, что было проведено специальное совещание у II секретаря обкома партии В. М. Борисенкова, в котором участвовали руководители железной дороги и милиции, снабжения и торговли области.
Накануне прибытия агитпоезда я с двумя инструкторами выехал в город, который должен был первым на его маршруте по области; там еще раз обсудил с работниками ГК ВЛКСМ порядок действий, побывал на железнодорожной станции.
Поскольку планировалось, что агитпоезд прибудет утром, было решено начать митинг в полдень. Договорились, что как только агитпоезд прибудет на станцию, об этом сообщат I секретарю ГК ВЛКСМ и мне. Так и было: если не ошибаюсь, около шести утра в дверь моего гостиничного номера постучали, я быстро собрался и вышел, сел в машину и через несколько минут вместе с I секретарём ГК ВЛКСМ был на железнодорожной станции, где на путях стоял агитпоезд. Мы нашли «штабной» вагон, постучались, и нам, правда не сразу, открыл заспанный парень, весьма удивившийся нашему появлению. Как оказалось, нас никто так рано не ждал.
Мы познакомились с руководством агитпоезда, рассказали о предстоящем митинге и вернулись в ГК ВЛКСМ, куда уже подошли инструкторы, приехавшие со мной. Оставшиеся часы до начала митинга мы вместе с работниками ГК ВЛКСМ занимались решением организационных вопросов, связанных с завершением подготовки митинга.
Однако начало митинга пришлось перенести как минимум на полчаса: не успел подъехать секретарь обкома комсомола. Пока мы его ожидали, творческие коллективы агитпоезда, как принято говорить, «разогревали» собравшихся на митинг, а точнее согревали их на морозном зимнем воздухе. Мы представили незапланированное выступление творческих коллективов как пролог митинга.
Митинг прошел успешно. Секретарь обкома ВЛКСМ выступил с приветственным словом, после чего мы и участники митинга осмотрели экспозицию агитпоезда.
Агитпоезд несколько дней работал в области. По итогам было принято решение просить ЦК ВЛКСМ не включать в последующем область в будущие маршруты агитпоезда. Одной из причин был слабый учет возможностей области и ее специфики. Например, один из лекторов агитпоезда выступал на тему (дословно формулировку не помню) о роли комсомольско-молодёжных коллективов в развитии овцеводства. Да и потом, чего скрывать, в культурно-просветительской деятельности область была сильнее многих.
Кстати, прием агитпоезда был в шуточной форме обыгран на предновогоднем «капустнике» работников аппарата обкома комсомола. На нем каждый отдел представлял свой «концертный» номер.
Вот и мы вышли всем отделом, изображая движущийся поезд, и исполняя песню, в которой, в частности, были такие слова: «Славный бронепоезд комсомола заправляется водичкой и икрой». Смеялись все. Почему такие слова? Потому, что область всегда умела встречать гостей…
Кстати о гостях. Я был среди участников и организаторов нескольких приемов делегаций братских союзов молодёжи из Софийского округа НРБ и Среднечешской области ЧССР, а также молодёжных делегаций ХII Всемирного фестиваля молодёжи и студентов. В программы приема первых двух, обязательно входило посещение Мавзолея В. И. Ленина и могилы Неизвестного солдата у Кремлевской стены, а также возложение венков.
Помню, из Софийского окружкома Димитровского коммунистического молодёжного союза (ДКМС) поступила необычная просьба: помочь с лобовым стеклом для автомобиля «Раф». В НРБ его, как говорится, «достать» было невозможно. Лобовое стекло через некоторое время было найдено, но как его передать в Софию? Организовать его передачу поручили отделу пропаганды и культурно-массовой работы обкома ВЛКСМ. Мы упаковали лобовое стекло в несколько слоев плотного картона, обтянули веревками, привезли его на вокзал, погрузили в вагон поезда и под личную ответственность руководителя туристической группы молодёжи области оставили ему «посылку» и соответствующие документы. На вокзале в Софии «посылку» благополучно получили работники Софийского окружкома ДКМС.
В области было определено порядка пятидесяти «объектов показа» для зарубежных делегатов ХII Всемирного фестиваля молодёжи и студентов. За каждым «объектом» был закреплен конкретный работник обкома комсомола из числа заведующих, заместителей заведующих и заведующих секторами отделов. Все мы, наряду с I-ми секретарями ГК и РК ВЛКСМ, принимающими делегатов, были ответственными как за подготовку «объектов показа», так и за проведение встречи делегатов с местными комсомольцами.
За несколько дней до открытия XII Всемирного фестиваля молодёжи и студентов нас, работников обкома комсомола, пригласили на беседу со II секретарем обкома КПСС В. М. Борисенковым, На ней он дал установки относительно приема делегаций и подготовки «объектов показа». В той беседе участвовало несколько заведующих отделами обкома КПСС.
Моим «объектом показа» было одно из крупных животноводческих хозяйств области. Еще до этой беседы я побывал там, встретился с секретарем и членами комитета комсомола хозяйства. Мы составили план подготовки встречи и программу ее проведения, определили примерный состав участников от первичной комсомольской организации. Присутствовавшие при этом работники ГК ВЛКСМ внесли свои предложения, которые были приняты. Сомнений в том, что все пройдет весьма достойно, не было.
Но я все-таки решил еще раз приехать на «объект показа», убедиться, что все готово, а при необходимости и оказать помощь в решении тех или иных вопросов.
И тут мне неожиданно «составил кампанию» инструктор отдела культуры обкома КПСС С. В. Павловский. Как он рассказал мне, работникам обкома партии было поручено посетить «объекты показа». Мы побывали в «закреплённом» за мною хозяйстве. «Объект» к приему зарубежной делегации был готов.
Кстати, немного отвлекусь от рассказа, чтобы отметить, что у меня всегда были нормальные рабочие отношения с инструкторами отделов обкома КПСС, профильными тем отделам обкома ВЛКСМ, в которых я работал. А относительно С. В. Павловского добавлю, что он, уже став заместителем заведующего отделом культуры обкома партии, активно продвигал идею моего перехода из заместителей заведующего отделом пропаганды и культурно-массовой работы обкома комсомола в инструкторы отдела культуры обкома КПСС. Но не сложилось, не все зависело от него и меня …











