Читать онлайн Поговори со мной
- Автор: Ольга Харламова
- Жанр: Современная русская литература
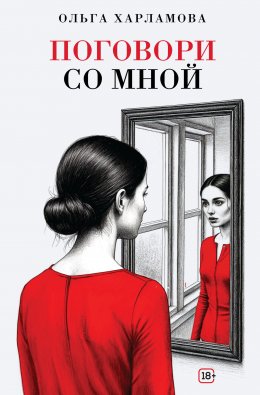
© Ольга Харламова, 2025
© «Время», 2025
Рассказы
Рассказы про девочку Лялю
Развод – это когда ты возвращаешься домой из школы и видишь, что у твоего подъезда стоит грузовик с открытым верхом, а в нём – во весь рост – зеркальный шкаф, тот самый, из родительской спальни, который ты помнишь чуть ли не с первых дней жизни, и своё отражение в нём год за годом.
Вот ты и доросла до школы, и пошла в первый класс, и отучилась уже несколько дней, погожих сентябрьских, и в твоём портфельчике лежат необходимые школьные принадлежности, и ты предвкушаешь, как, придя домой, разместишься в кабинете за письменным столом, положишь перед собой тетрадку – сегодня велено исписать целый лист косыми палочками перьевой ручкой аккуратно, чтобы не допустить кляксу, обмакивая её в чернильницу. И вдруг понимаешь, что ничего этого не будет, потому что во дворе стоит машина, гружённая всяким домашним скарбом, два незнакомых дядьки забрасывают в кузов последние тюки, несколько соседок с ребятишками в сторонке наблюдают за происходящим, а навстречу бежит домработница с криками: «Быстрей, Ляля, быстрей! Садись к бабушке в кабину, я с грузчиками – к вещам, мать с сестрой и котом уже уехали. Да шевелись ты, не то отец подоспеет, скандал устроит!» И ты с портфельчиком в распахнутом пальтишке и в съехавшей с головы шёлковой маминой косынке второпях пытаешься залезть на высокую подножку, нога в туфельке на плоской подошве соскальзывает и её железный край больно бьёт по коленке, из глаз брызжут слёзы, а двор оглашается рёвом. В ту же секунду водитель подхватывает тебя под мышки и передаёт с рук на руки бабушке, захлопывает дверцу, сам садится рядом, и машина трогается с места…
Ещё больней было, когда я ударилась подбородком о канализационную трубу, соскользнув с высокого отвала глины в канаву, вырытую возле нашего дома пленными немцами. Я захлебнулась бы холодной жёлтой жижей, если бы один из них не вытащил меня и не отнёс домой под причитания недоглядевшей за дитём домработницы. И пока меня, дрожащую, орущую благим матом, отмывали от грязи и крови в тазу на кухне, я краем глаза видела, как мой спаситель жадно уплетает из глубокой тарелки суп с плавающим в нём огромным, по моим понятиям, куском мяса. К счастью, косточки мои оказались целы.
Тогда я была совсем маленькая, это было давно, а вот сейчас «Мы едем, едем, едем в далёкие края», но весёлую песенку про соседей, друзей и зверей распевать во весь голос почему-то не хочется, правда, я больше не плачу, вытираю мокрое лицо концами косынки. Обласканная бабушкой, окончательно успокаиваюсь и смотрю в окошко. Едем мы не так уж и далеко: с одной окраины Москвы переезжаем на другую. Я знаю, что родители мои развелись, что мама вышла замуж во второй раз, что у нас со старшей сестрой теперь будет отчим. Но сестра, как говорят, может вскоре выйти замуж и устроить свою жизнь, «а вот Лялька… бедная Лялька!».
Сама я нисколько не чувствую себя бедной и несчастной, наоборот, будущая жизнь представляется мне интересной, а главное, свободной. Мне не надо будет больше слушаться папу, вспыльчивого и неуравновешенного, так говорят. Достаточно одной мамы, никогда ни на кого не повышающей голос, к тому же у неё появятся новые заботы месяца через два с рождением ребёночка, пока неизвестно – мальчика или девочки, я очень хочу, чтобы – мальчика. Домработница уже объявила, что съезжает от нас, не представляет себе, как это все мы, после отдельного жилья из нескольких комнат, будем ютиться в одной, и забирает кота. Это замечательно! – от его когтей у меня вечные царапины на руках и ногах. И как же здорово, что мы все теперь будем спать в одной комнате! Бабушка остаётся с нами, говорят, из-за меня – «жалко Ляльку», хотя могла бы жить с семьёй сына или другой дочери, да нет – меня она никогда не бросит, моя бабушка, самая необыкновенная бабушка на свете. Обо всём этом я думаю дорогой в машине, которая неожиданно останавливается перед одним из подъездов двухэтажного оштукатуренного, крашенного в жёлтый цвет дома, мало чем отличающегося от только что покинутого нами. Водитель открывает дверцу, и я, забыв о недавней травме, спрыгиваю с подножки и вижу разорванный чулок, намокший от крови и присохший к моей коленке. Зато не больно. Взрослые разгружают мебель и всё остальное. И точно так же, как в старом дворе, за происходящим наблюдают соседи и местные ребятишки.
Про меня забыли, я чувствую себя одинокой, неуклюжей, боязно сдвинуться с места. Стою, прислонившись к широкому шершавому стволу дерева, хочется вжаться в него и стать невидимой, но при этом самой видеть всё и, прежде всего, детей, ведь они станут моими новыми друзьями. Неплохо бы познакомиться с девочкой, такой же, как я, она аппетитно ест сливы, доставая их одну за другой из железной кружки. Сливы большие, чёрные, наверное сочные и сладкие, я облизываю пересохшие губы, она протягивает мне кружку: «На, ешь!» Положив в рот сразу две сливы, я так неловко выплёвываю обе косточки, что они прилипают к длинным концам моей косынки, да так и остаются висеть, что вызывает смех у двух карапузов рядом. От обиды и бессилия что-либо изменить, глаза мои наполняются слезами, но к нашей стайке стремительно подходит высокий военный в полковничьей папахе – отец девочки со сливами – и гладит меня по голове.
И вот тут я впервые горько расплакалась, поняла наконец, что мой папа, больше никогда не приласкает меня, не посадит к себе на колени, не скажет: «Умница ты, моя красавица, Хельга!» Моё настоящее имя – Ольга, отец сам выбрал его для меня и часто произносил на немецкий манер, что было неприятно маме, судя по тому, как она при этом поджимала губы. Возможно, здесь крылась какая-то давняя, неизвестная мне история, а бабушка говорила, что нашу святую равноапостольную княгиню Ольгу, в честь которой меня крестили, изначально звали Хельга. В обычной жизни для всех домашних я была – Ляля. Кое-кто из соседей, чтобы досадить маме, называл меня, бойкую девчонку с карими глазами и вьющимися тёмно-русыми волосами, – «цыганка Ляля», но я не обижалась, наоборот, казалось лестным, что меня ставят рядом со знаменитой цыганской певицей Лялей Чёрной. Мне нравились оба моих имени, но превыше них – Ольга. Так я и назвалась новым своим друзьям.
Со следующего дня у меня началась другая жизнь, я привыкала к ней не то чтобы мучительно, но болезненно. Труднее всего было смириться с тем, что я перестала быть центром внимания – все занялись своими делами, я чувствовала себя неприкаянной, но постепенно это прошло, и я снова обрела присущую мне уверенность. Новая жизнь набирала обороты.
Родился братишка, я пошла в новую школу, стала студенткой сестра, мама – врач-хирург, после короткого декретного отпуска вернулась на работу в госпиталь, отчим по долгу службы часто выезжал в командировки во все концы Советского Союза, и мы всегда ждали его возвращения с большим чемоданом, набитым всякой всячиной. В его отсутствие приезжала гостить наша бывшая домработница, теперь – работница завода, получившая казённую жилплощадь. Время от времени появлялись в доме и сменяли друг друга няньки-помощницы, ими руководила бабушка, ей приходилось трудно, но я тогда этого не могла понять. Дом наш, несмотря на тесноту, привлекал к себе окружающих не только гостеприимством и дружелюбием, но некоторой бесшабашностью сиюминутного таборного существования – родственники, соседи, друзья по работе, по учёбе или по двору – кто не перебывает за день! Если мама возвращалась с работы не поздно, мы с бабушкой шли гулять по улочкам нашей Останкинской окраины, как раньше прогуливались по окрестностям Преображенки, и однажды встретили такую же пару – бабушку с внучкой. Познакомились. Оказалось, что девочку зовут – Ляля, и более того – она тоже Ольга! Родители назвали дочь – Ляля, так и записали в свидетельстве о рождении, но в церкви этим именем батюшка младенца крестить не стал, а предложил на выбор несколько других, и в их числе – Ольга.
Ещё мы узнали, что живут они здесь недавно – построились, переехав из другого города, что мы с Лялей – одногодки, только учимся в разных школах, что отец девочки – офицер в чине майора, а мама – медицинская сестра, и что в их семье произошло пополнение: месяц назад у Ляли появился младший братик. Мы распрощались возле их дома, частного одноэтажного за таким низким забором, что даже мне не составило бы труда открыть щеколду на внутренней стороне калитки. Именно это я и делала буквально со следующего дня много-много раз, получив приглашение приходить играть к Ляле. С первого взгляда я влюбилась в эту девочку – голубоглазую и светловолосую с открытым, ничем не примечательным личиком, но подсвеченным той внутренней улыбкой, отсвет которой падает на окружающих. Что-то подобное высказала моя бабушка, обладающая сильной интуицией, она как бы благословила нашу дружбу.
В доме Ляли мне нравилось всё – уклад, немного похожий на тот, которого я сама не так давно лишилась, приветливые, всегда ровные отношения между членами семьи, уютная мама, не разрывающаяся между детьми и работой, и, конечно, папа, большой, добрый, всегда готовый принять участие в наших с Лялей играх. Как-то, в праздничный день наверное, он вышел на улицу в парадном кителе с орденами и медалями, и тогда мне показалось, что это мой папа. Правда, у моего отца – лётчика-испытателя, парадным был белый китель, тоже со всеми наградами и знаками отличия, на прогулках он всегда крепко держал меня за руку, и я гордо вышагивала рядом, но так было раньше. Теперь чужой папа держал за руку свою дочку, а мне оставалось только любоваться этой замечательной парой. Я и любовалась, но при этом завидовала. Да, завидовала моей любимой подружке Ляле, у неё было то, чего у меня не было. Знала, что завидовать – плохо, но ничего не могла с собой поделать.
Детское сердце открыто для любви и закрыто для ненависти, но в нём может поселиться зависть, и тогда оно разрывается от боли. Ляля ни о чём не догадывалась, а я старалась изо всех сил подавлять в себе это недостойное чувство, стала реже бывать у неё и чаще вызывала к себе поиграть с нашими дворовыми ребятами в штандер, казаки-разбойники или в «разрывные цепи».
Потом наступило лето, и всё подрастающее поколение нашей большой родни, сопровождаемое бабками-няньками, вывезли в Подмосковье на очередную съёмную дачу, где была своя, не похожая на городскую, дачная жизнь, продолжающаяся до сентября. А когда начался новый учебный год и я уже подумывала наведаться к Ляле, нас навестила её бабушка и сообщила, что сын получил назначение в военный гарнизон, расположенный на территории Германской Демократической Республики, и с женой и детьми отбыл туда на пять лет, но следующее лето, Бог даст, Ляля проведёт с ней, и вот уж тогда обе Ляли-Ольги наговорятся, нагуляются и наиграются… Значит, придётся ждать целый год, чтобы встретиться…
В нашей семье произошли изменения – сестра, как и предполагали, вышла замуж и переехала к мужу, живая очередь, состоящая из временных нянек, иссякла – брат подрос, его определили в младшую группу детского садика, с хозяйством справлялась бабушка, я – всегда на подхвате. Ушла излишняя суета, но в доме по-прежнему скучать не приходилось, кто-нибудь да гостил с утра до вечера, а там и с вечера до утра. Я занялась танцами и всерьёз подумывала о поступлении в балетную школу при Большом театре, а пока отплясывала «Чешскую польку» в составе детского школьного ансамбля на сценах заводских клубов и районных Домов культуры, куда нас привозили на специальном автобусе вместе с настоящими артистами. Всё больше я получала положительных эмоций от той жизни, которая у меня была в настоящий момент в середине пятидесятых годов двадцатого века. Сожалеть о старом не было времени, а задумываться о будущем я ещё не умела.
Будущее моё сводилось к предстоящей встрече с Лялей, и я после майских праздников отправилась в знакомый, почти родной дом. Ничего не изменилось – та же калитка, та же щеколда, посыпанная песком дорожка, ведущая к ступенькам крылечка, крашенная белилами дверь. Меня вдруг охватило волнение. Постучать или потянуть за ручку? Я выбрала второе. Внутри было темно, тихо и жутко. Возникло желание убежать, но всё же я заставила себя пойти на свет, проникающий из полуоткрытой двери комнаты. За столом на стуле, подперев голову руками, спиной ко мне сидела бабушка. Не изменив позы, она спросила: «Кто здесь?» Неожиданно громко для себя, я сказала: «Это я, Ляля!» Бабушка вздрогнула, резко поднялась и сделала шаг навстречу: «Здравствуй, Лялечка! Как ты выросла. Спасибо, что зашла… Тебе не надо приходить сюда больше, наша Ляля умерла».
«Умерла?..» – едва слышно выдохнула я и бросилась вон из дома.
Весь остаток дня я рыдала. У меня опухло лицо и шея, пропал голос, я не могла повернуть голову. Бабушка была в отчаянии, видя меня в таком состоянии, мама дала успокоительное и обернула шею компрессом, за ночь всё вернулось в норму, и на следующее утро я пошла в школу. Позднее стали известны некоторые обстоятельства смерти Ляли. Она погибла от пули бывшего немецкого солдата, просто за то, что была дочерью советского военнослужащего. Трагедия произошла в саду дома, предоставленного семье для проживания.
Долго я испытывала чувство вины за случившееся. Как могла я завидовать этой девочке, которой так мало было отмерено в жизни?! Позже чувство вины сменило чувство стыда, а ещё позднее пришло осознание того, что каждый проживает свою жизнь и никому нельзя словом, или делом, или помыслом затрагивать чужую, какие бы испытания ни выпадали на его долю.
Черёмуха
Двор на окраине Москвы, утопающий в черёмухе. Дом двухэтажный, оштукатуренный, из тех, что строили перед войной как временное жильё, через десять-пятнадцать лет на их месте должны были вырасти капитальные жилые здания, да не выросли – война помешала. Давно наступил мир, а дом как стоял, так стоит, и в нём успело смениться не одно поколение. Это – мой дом.
Мне тринадцать лет, и я – девочка с «выразительными глазами», так говорят обо мне окружающие, «нормального физического развития, соответствующего возрасту», так записано в моей школьной медицинской карте, – болею черёмухой, её запах пробуждает во мне какие-то новые чувства. Я не особенно загружаю себе голову мыслями, живу ощущениями. Сама «цвету, как цвет», только если и понимаю это, то весьма смутно.
Каждый вечер, когда зажигаются огни и дом наш превращается в корабль, плывущий в белом облаке, я влезаю на крышу сарая, отделённого от жилого строения огромным пушистым деревом, прячусь в его ветвях и жду подходящего момента, чтобы наломать себе цветущих веток. Ломаю нещадно, испытывая втайне удовольствие от совершения чего-то не совсем приличного, но до того сладостного, что в счёт не идут ни угрызения совести, ни порванное платье, ни исцарапанные руки. Никем не замеченная, с огромной охапкой черёмухи пробираюсь в свой подъезд.
Наша семья из пяти человек живёт на первом этаже в одной комнате, это нормально, комната большая – целых двадцать метров. Я сплю с бабушкой на диване, младший брат – в глубоком кожаном кресле, к которому на ночь подставляют стул, мать с отчимом на кровати. Ещё в комнате есть зеркальный шкаф, письменный стол, узкие, заполненные книгами полки, поставленные друг на друга до самого потолка, трофейное пианино Zimmermann, привезённое с фронта моим отцом и доставшееся мне по наследству, шкафчик для посуды, а всю середину занимает старинный дубовый обеденный стол. Вот на этот стол, в самый его центр, я и водружаю мою черёмуху в большой стеклянной банке с водой.
Меня ругают время от времени за варварское обхождение с деревьями, но я либо отмалчиваюсь, либо огрызаюсь в ответ, «лучше оставить её в покое», считает отчим. С ним соглашаются и правильно делают. Я свободолюбива, непредсказуема, не признаю никаких авторитетов. «Это к добру не приведёт», – вздыхает бабушка. И правда!
Однажды утром – мама ещё не успела уйти на работу, а мы с братом в школу, – раздаётся громкий стук в дверь. На пороге возникает соседка, жена милиционера, не простого конечно, их семья вселилась в наш дом недавно. Супруги сразу заявили о себе, как о людях, отличающихся от остальных жильцов своим особым положением. Прожив несколько лет в Германии, где так называемый милиционер занимал приличный пост, хорошо одетые, воспитывающие единственную дочку-отличницу, они искренно считали, что обладают безупречными манерами. Наверное, поэтому милиционерша, не выбирая выражений, объявляет меня воровкой, требует наказать со всей строгостью и выдать ей главную вещественную улику – черёмуховый букет, распространяющий по всей комнате сумасшедший аромат.
Истеричные вопли «фрау-мадам» не произвели особого впечатления ни на бабушку, ни на маму – обе умели без лишних слов ставить на место самых распоясавшихся, к тому же они, не сговариваясь, всегда действовали по правилу: ни при каких обстоятельствах своих в обиду не давать! Злобная соседка была обречена на поражение, как только с руганью вторглась в наше жилище: ей пришлось выйти вон несолоно хлебавши, а я, не дожидаясь дальнейших разборок, схватив портфель, выскочила из дома, за мной едва поспевал братишка. В спину нам летели угрозы разъярённой блюстительницы порядка об исключении из школы и постановке на учёт в детской комнате милиции.
Черёмуха продолжала благоухать на всю округу, но мне расхотелось её ломать – видимо, скандал возымел своё действие. Хотя тем же вечером, исключительно из упрямства, я привычно забралась на сарай, дождалась, когда с ближайшего балкона уйдёт благочинное семейство, и… И ничего за этим не последовало, спустилась вниз, сжимая в кулаке пару отщипнутых кисточек, растерев их в крошку, поднеся ладони к лицу, я вдохнула колдовской запах и вернулась домой с пустыми руками. Было мне грустно и немного стыдно, но об утреннем происшествии никто из взрослых и словом не обмолвился, а я просто легла спать раньше обычного.
Вскоре черёмуха отцвела, усыпав землю мелкими белыми лепестками. Дуновение майского ветерка – и от них осталось одно воспоминание. Впереди – вольное лето, правда, за ним – новый учебный год, но это так далеко! Я не думаю о времени.
Течение времени отмечается мной, прежде всего, переменой красок в моём родном дворе: вот он, изумрудно-зелёный, становится постепенно жёлто-оранжевым, затем серым и разом – за одну ночь – белым, а под лучами морозного солнца даже синим.
И вновь наступает волшебная пора – от ранней весенней прозрачности до бешеного цветения черёмухи.
Дом кренится набок, валится штукатурка со стен, обнажая ветхий скелет, но тем не менее не сдаётся, продолжает стоять и даже радовать кое-кого из своих жителей. Наша семья получает возможность переехать из одного подъезда в другой, на второй этаж, в две комнаты с балконом, можно дотронуться рукой до белых душистых веток, которые когда-то – о, целый год назад! – были предметом моего вожделения. Отныне я вступила в новую эру – эру роз, и в отличие от черёмухи, отнюдь не сама добываю себе эту роскошь. Все клумбы ближайшего парка опустошаются ради меня и для меня Колькой-цыганом.
Он был настоящий цыган – смуглый, курчавый, старше меня на три года, учился на слесаря в ПТУ, хромой, шпанистого вида разномастные штаны и пиджак, крапчатая, как приклеенная к чёрным завиткам кепка. Курил, пил, подворовывал. Он любил меня, теперь-то я понимаю, нежно и трепетно и совершенно обречённо зная, что наша дворовая дружба ни к чему не приведёт, он был мудрее меня. А я не хотела замечать ничего серьёзного, смеялась над его косолапой походкой, неправильной речью, над привычкой закладывать за ухо измятую беломорину.
Иногда под вечер он приходил к нам во двор с гитарой – старой, ободранной, но с бантом красного цвета, только что тщательно повязанного ради красоты и торжественности. Садился на самый краешек дощатой скамейки, положив ногу на ногу. Отвернувшись, не обращая внимания на присутствующих, он занимался только своим сомнительным музыкальным инструментом. Подкручивал, похлопывал, поглаживал, осторожно трогал струны, будто прощупывал каждый звук, затем извлекал что-то похожее на мелодию, и наконец гитара начинала звучать так, что всё вокруг обращалось в слух. Голос у него был совсем не юношеский, негромкий и надтреснутый, но его хотелось слушать и слушать. Он покачивал в такт правой ногой, из-под задравшейся брючины выглядывал ботинок, надетый на босу ногу. То, что он пел, было непонятно, пел он на своем языке, понятно было другое – исчезал Колька-цыган. Перед нами кто-то неведомый разыгрывал свое действо, погружая нас почти в гипнотическое состояние.











