Читать онлайн Зов Гималаев. В поисках снежного барса
- Автор: Билл Крозье
- Жанр: Документальная литература, Биографии и мемуары, Зарубежные приключения, Книги о приключениях, Книги о путешествиях
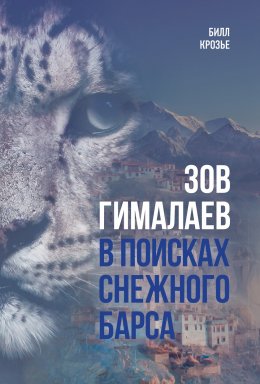
Bill Crozier
BEYOND THE SNOW LEOPARD
Перевод с английского Анны Тимофеевой
© Bill Crozier, 2024
This edition published by arrangement with Carlow Books, an imprint of SCHWARTZ BOOKS PTY LTD and Synopsis Literary Agency.
© Тимофеева А. Г., перевод на русский язык, 2025
© Издание на русском языке, оформление. ООО «Издательство Азбука», 2025 КоЛибри®
Секрет гор в том, что они просто существуют. Они есть, как и люди, но в отличие от людей в их существовании нет смысла, а только величие бытия.
Питер Маттисен «Снежный барс»
Пауле, Николе, Мэделин, Джорджу и Джейку посвящается
- Меж воздухом и небом. Связь с землёй
- Хрупка, пока кричат от боли мышцы,
- И страх, из холода собравшийся, зовёт
- Искать – как будто нет идеи выше.
- Шаг. Вздох. И горло жжёт от пустоты,
- Но в голове лишь жажда выше, дальше,
- И мантра Джорджа «потому, что он
- Там есть[1]» не объясняет нас, стоящих
- Здесь на скале безжалостной. Огонь
- Из сердца черпая для будущих свершений,
- Когда желанный пик мы покорим,
- Чтобы взглянуть на тихий свет вечерний
- И с высоты судить о собственной судьбе,
- О нашем месте в мире, на Земле.
2013. Ладакх[2]
1. Ладакх
Мою палатку шумно затрясло, и я очнулся – в полной темноте. Над головой раздался голос: «Чаю в постель, саиб?»
Ещё не рассвело. Мороз стоял −20 °C.
Шёл пятнадцатый день нашего зимнего похода в Ладакх, в индийские Гималаи, и тем самым утром мы планировали отыскать следы снежного барса.
Пока собирали инвентарь, согрелись; позавтракали в кухонной палатке – и вперёд. Взошло солнце, и небо над головой окрасилось в ярко-голубые тона, однако в тени высоких гор, обступавших нас, было по-прежнему зябко. Дорога по узкому, каменистому уступу привела нас обратно к замерзшей реке Занскар, и мы без колебаний ступили на лёд. За ночь выпало несколько сантиметров снега. Первым шёл наш проводник Лобсанг: он простукивал лёд палкой и проверял на слух, достаточно ли толстая и надёжная поверхность у нас под ногами.
Через полчаса Фил, двигавшийся впереди меня, остановился и начал что-то яростно фотографировать.
– Снежный барс! – крикнул он мне.
Я догнал Фила: на снегу у нас под ногами и правда виднелись чёткие, характерные отпечатки больших лап. Они вели в противоположном направлении, однако оставили их явно сегодня утром. То тут, то там мы замечали след внушительного хвоста, волочившегося по земле. Оглядевшись по сторонам, я вдруг осознал, что в этом тусклом утреннем свете легендарный гималайский кот вполне может подстерегать нас, прячась в тени, невидимый даже на расстоянии в несколько метров. Проследив глазами за цепочкой следов, я приметил место, где зверь пересёк собственную тропу. Вот здесь он определённо спустился откуда-то со скалы, а чуть дальше, очевидно, запрыгнул на тот далёкий, низко висящий утёс. Я снял солнечные очки и положил их на снег рядом со следами, чтобы показать масштаб. Отпечатки лап по ширине не уступали моему собственному лицу. Никаких сомнений: взрослый снежный барс.
Река Занскар, приток Инда, замерзает каждый год на полтора месяца и образует настоящее шоссе, соединяющее столицу Ладакха Лех с отдалёнными селениями в пору, когда прочие горные дороги завалены снегом. Местные прозвали этот ледяной маршрут «Чадар»[3], и вот уже которое столетие он служит единственным торговым путём в зимнее время.
Несколько месяцев назад я связался с моим другом Эйдом Саммерсом и сообщил ему, что хочу попробовать чего-нибудь новенького в свой следующий поход.
– А пойдём со мной на Чадар, – ответил Эйд.
Эйд – валлиец за пятьдесят, профессиональный альпинист и горный гид. Это приятный, спокойный человек с богатым опытом и острым чувством юмора. Он позвал меня в ледяное путешествие, которое собирался возглавить, и я сразу ухватился за эту возможность. Вскоре оказалось, что нас будет всего трое. С третьим нашим товарищем, Филом Мецгером, я познакомился в аэропорту Дели. Фил оказался высоким, грубоватого вида американцем, который прежде работал хирургом в клинике Мэйо в Джексонвилле, Флорида, и недавно вышел на пенсию. Ночным рейсом мы добрались до гор и примерно через час встретились с Эйдом в лехском терминале. Солнце только-только взошло, стояла бодрая температура в −15 °C.
Лех, древняя столица Ладакха, стоит на высоте 3500 метров. Здесь пересекаются старые торговые пути, ведущие на север и на восток, в Тибет, и на запад, и на юг, в Кашмир и Балтистан. Городок цивилизацией не испорчен, и над ним по-прежнему высится девятиэтажный Лехский дворец XVIII в. Над ним, намного выше дворцовых стен, на скалистой вершине в окружении цветастых молитвенных флагов красуется монастырь Намгьял-Цемо.
Высота сразу чувствовалась, стоило только подняться по ступенькам в отель или наклониться, чтобы завязать шнурки. Переход в два километра до города и обратно изрядно утомлял. Два дня мы потратили на акклиматизацию, прежде чем отправиться на джипе к нашей стартовой точке. Путь занял три часа. Миновав то место, где Занскар впадает в Инд, мы оказались глубоко в Занскарском ущелье. Последним поселением на нашем пути оказалась деревня с удачным названием Чиллинг («Холодрыга»). Мы встретились с носильщиками и их сирдаром, то есть главным проводником, могучим тибетцем по имени Лобсанг. Не меньшее впечатление, чем сам проводник, на нас произвела куртка из овчины, в которой он щеголял. Оказалось, ему её прислали родственники из Тибета: такую куртку положено носить мехом внутрь. Куртка была зелёного цвета, с пышной шёлковой оторочкой и обильной вышивкой. Как только машина остановилась, носильщики бросились разгружать снаряжение: вскоре наш багаж уже спускался по льду на импровизированных салазках, приближаясь к нашему первому лагерю и опережая нас метров на двадцать. Кое-как мы тоже спустились и неуклюже, с опаской пошли следом. С детства мы избегали замёрзших водоёмов, чтобы не оказаться на тонком льду. И хотя сначала нам казалось, что затея наша противоречит здравому смыслу, вскоре мы приспособились и научились шаркать по льду, не отрывая ног от поверхности: эта обязательная походка пристанет к нам на следующие три недели.
Лагерь, куда мы следовали, виднелся на противоположном берегу реки всего в километре от нас. Идти по льду было тяжело, так что мы не мёрзли, а в лагере нас ждал горячий чай. Бросив снаряжение в палатках, мы собрались на ужин. В ущелье солнца мало, и ночь наступает быстро. Мороз тут же пробирает до костей. Только пуховые спальные мешки и спасают от холода.
Медленно мы следовали по вьющейся реке, и каждый день перехода дарил потрясающие виды. Путь наш почти всегда пролегал по льду, но тот постоянно менялся. Попадались плотные и тонкие участки, из белоснежного он становился то серым, то голубым, а то и вовсе прозрачным, так что мы явственно видели воду, бегущую под ногами. Иногда попадались места, где лёд сломался и был непроходим, так что мы карабкались на скалистый берег и возвращались на лёд немного дальше. Там, где ущелье сужалось, лёд был особенно толст и крепок, и никакого течения под ним не было видно. Там же, где река становилась широкой, вода свободно бежала по ущелью, а лёд узким карнизом теснился к берегу. Шириной этот карниз бывал меньше метра, так что приходилось снимать рюкзаки и толкать их перед собой, осторожно передвигаясь ползком. Жизнерадостные носильщики часто опережали нас, спеша вперёд, чтобы разбить лагерь и встретить нас у костра с горячим чаем. Удивительно, что наши ладакхские друзья не использовали палаток: они предпочитали сгрудиться у открытого огня, разведённого в неглубоком гроте на берегу, и спать в армейских спальных мешках.
Ночами было очень темно и холодно, однако небо оставалось чистым, и поразительно ясно светил Млечный Путь. Мне было уютно лежать на надувном матрасе, в пуховом мешке, да ещё и накрывшись пуховой курткой. Время от времени в ночи раздавались громовой треск и грохот: это ломался лёд на реке, покорившись могучим силам природы. Мы с радостью приучились к утреннему «чаю в постель», а за завтраком старались накачаться углеводами: кашей с мёдом и сахаром, очень сладким кофе, яичницей и чапати[4]. Хлеб у нас на столе был разный: наан, чапати, а также вкуснейшие тибетские пирожные, удивительно похожие на английское печенье с изюмом. Мы удивились, какое всё свежее и как долго не кончается. Лобсанг объяснил нам, что каждую ночь замешивает тесто, запаковывает в пластиковый пакет и держит в спальном мешке до утра: к утру оно подходит – и можно печь.
На третий день треккинга на реку сошла большая снежная лавина, и дорога стала ещё более опасной. Во второй половине дня мы набрели на молитвенные флаги и на чортен[5], религиозное сооружение, примостившееся высоко на скале. Река сделала новый поворот, и перед нами открылся замёрзший водопад высотой метров тридцать. Лёд играл и переливался разными цветами: то синим, то кремовым, то бирюзовым, то серым, то голубым. Потом мы дошли до шаткого деревянного моста: по нему шёл трек в деревню Нерак в двух километрах от нас. В полной тишине мы стояли на льду, рядом со свидетельствами пребывания здесь человека: чортен, флаги, мост… Как же должно быть весной на этом самом месте, когда талая вода несётся по ущелью могучей белой струёй, грандиозной, оглушительной!
Шесть дней занял переход по Чадару: на шестой день мы вскарабкались на речной берег и пустились дальше в путь. В прошедшие пять суток нам удавалось делать по 10–14 километров за дневной переход, и теперь мы добрались до края ущелья, откуда начиналась широкая Занскарская долина. К деревушкам, лежащим впереди, вела узкая, скованная льдом дорога. Ослепительно-светлым, морозным днём мы одолели 17 километров и доплелись до Пидмо, крохотного поселения у самого подножия гор. В деревне нашлись чортен, гомпа[6], школа и около 20 домов. Там мы переночевали, устроившись в традиционном жилище: наверху жилые комнаты, внизу – яки и козы. У нас была комната на троих с дровяной печкой, которую кто-то смастерил из старой канистры: жестяной дымоход уходил в потолок. Мы расстелили каждый свой спальный мешок и устроились на чаепитие. Мне наконец удалось осмотреть пальцы на правой руке, на кончиках которых появились признаки обморожения. Пальцы стали твёрдыми, побелели и уже покрывались волдырями – но, к счастью, ничего непоправимого. Любые перчатки могут подвести! Между тем в комнату проникли хозяйские дети: не сдержав любопытства, они пришли посмотреть на нас. Самые смелые трогали наши рюкзаки и спальные мешки, словно то были экзотические артефакты.
На следующий день мы двинулись дальше, к поселению Зангла. Оно оказалось крупнее, занимало больше территории, на которой расположились и женский монастырь, и гомпа, и развалины старинной крепости, носящей название «Королевский дом». Здесь мы также остановились в традиционном тибетском доме. В день нашего прибытия было ясно и чертовски холодно, и нас, с сосульками на бородах, встретила хозяйка дома и заливавшаяся лаем собака на цепи. Хозяйке на вид было около восьмидесяти, но на самом деле ей могло быть и сорок, и девяносто. Из-под серой вязаной шапки из шерсти яка торчали чёрные засаленные волосы. Она носила традиционные тибетские украшения из серебра, бирюзы и коралла. Ей недоставало многих зубов, но улыбалась она широко. Комнату нам отвели очень светлую, с печью посередине и несколькими коврами на полу. Стены были грубо окрашены в зеленовато-голубой цвет, неказистые оконные рамы – в ярко-розовый. Этот уютный, гостеприимный дом приютил нас на последовавшие три ночи. Мы базировались в Зангле не только для того, чтобы отдохнуть и согреться, но и для того, чтобы запастись припасами в Падаме, главном селении Занскарской долины, в котором проживает около тысячи человек. Мы отправились туда на джипе следующим утром и купили там ногу яка, рис и другие продукты на обратную дорогу. Также мы провели чудесное утро в живописном монастыре Курча-Гомпа. Крепко стоя на краю утёса, он словно бы парил в морозной дымке над ледяной рекой. Духовный лидер монастыря – Тензин Чогял, младший брат далай-ламы. Дорога на автомобиле к этому интригующему месту была нам в радость – вплоть до того момента, пока наш джип неожиданно не встал на льду как вкопанный. Оказалось, дизель слишком охладился и загустел. Мы быстро решили эту проблему: запалили горелку, на которой кипятили чай, и оставили открытое шипящее пламя прямо под баком на 15 минут. Вскоре мы снова тронулись, но, добравшись до места, неосторожно въехали в стену. Впрочем, после этих автомобильных приключений мы благополучно поднялись к монастырским постройкам, вошли в главную гомпу и побеседовали с монахами. В комплексе находилась школа для совсем юных монахов, и ученики-подростки охотно позировали для фото, нацепив мои синие солнцезащитные очки Ray-Ban.
В Зангле у нас был свободный день, так что мы с Эйдом и Филом беспрепятственно гуляли по округе и знакомились с местными. В деревне было много чортенов, в изобилии ходили овцы, козы, собаки и яки, которым, похоже, не меньше людей хотелось фотографироваться. Взобравшись на высокие стены «Королевского дома», мы были вознаграждены небывалыми видами на долину. Эйд воспользовался случаем, чтобы поднять несколько молитвенных флагов в память о матери своего друга.
Ближе к вечеру мы вернулись на джипах обратно к пасти ущелья и провели ночь в хижинах рабочих, немея от холода.
Следующим утром мы вернулись на лёд – теперь уже не так сильно боясь провалиться. Шли с хорошей скоростью. Очевидно было, что дорога проторённая: нам встречались целые семейства ладакхцев, нагруженные товарами и путешествующие в ту и в другую сторону. Попадались и большие группы индийских туристов, обутых в дешёвую резиновую обувь, которую легко можно купить в Лехе.
В предпоследний день похода дорогу нам перегородил обширный участок ледяной каши. В некоторых местах пришлось полагаться на верёвки, иногда мы забирались на высокий скалистый берег и по нему брели до более надёжных участков ниже по течению. Той ночью над горным хребтом взошла великолепная полная луна, но любоваться ею дольше двух минут не позволял трескучий мороз.
В последний день на ледяном «шоссе» нам всем было грустно: приближался конец живописного трека. Эйд и я прошли последние километры медленным шагом и сделали множество снимков. За километр или около того до лагеря мы услышали гром отбойных молотков: там в скале вырубали новую дорогу. Через несколько лет она должна была соединить Пидмо с Лехом. В Занскаре наконец появится новая зимняя дорога, а значит, жизнь и культура долины разительно переменятся.
В Лехе мы провели несколько долгожданных дней отдыха, которыми воспользовались и для того, чтобы посетить Чоукханг-Гомпа в центре города, взобраться к крепости и ещё выше – к монастырю Намгьял-Цемо на самой вершине. Оттуда открылся потрясающий вид на средневековый Лех, с его древними чортенами и площадкой для поло. Над гомпой в центре города раздавались бой барабанов и песнопения. К югу тянулся Стокский горный хребет, покрытый снегом, с прекрасным пиком Сток-Кангри (6153 метра) ровно посередине. С трудом спустившись вниз по серпантину, мы зашли пообедать в тибетский ресторан на главной улице Леха, где нас гостеприимно встретили чаем и пельменями момо[7].
Через несколько дней мы с Эйдом вернулись в Дели, а Фил отправился в дальний путь домой, в США. Оставшись вдвоём, мы разделили в отеле прощальный карри и за бокалом недурного австралийского вина предались воспоминаниям о треке.
«Давай со мной в Долпо на следующий год», – предложил Эйд.
Дважды можно было не спрашивать. Долпо – земля снежного барса, которую обессмертил в своей книге американский писатель Питер Маттиссен[8]! Без колебаний я согласился. Я мечтал отправиться по стопам Маттиссена и лелеял робкую надежду увидеть снежного барса своими глазами.
2014. В Долпо
2. О снежных барсах и людях
Снежного барса я видел всего раз в жизни – в зоопарке «Таронга» в Сиднее. Большинство зоопарков мне не по душе, и в присутствии этого величественного горного животного, запертого в тропическую австралийскую клетку, мне было грустно и стыдно. И всё же одновременно я чувствовал, как повезло мне оказаться в непосредственной близости к этому гордому, необыкновенному существу.
Снежный барс, или ирбис, или Panthera uncia, подробно описан в зоологической литературе. Этот прекрасный хищник, относящийся к уязвимым видам, обитает в высокогорных районах Центральной Азии. Среди семейства кошачьих он считается средним по размеру, а весит от 25 до 50 килограммов. Тело снежного барса достигает в длину 130 сантиметров, а его толстый пушистый хвост удваивает эту цифру. Мех у ирбиса серого цвета, и по всему телу рассыпаны тёмные, угольно-серые розетки. Снежный барс прекрасно маскируется на фоне скал и редко попадается на глаза человеку, даже там, где делит с ним территорию.
По подсчётам «Фонда снежного барса», американской благотворительной организации, в дикой природе осталось от 3,5 до 6 тысяч особей. Ирбисы настолько неуловимы, что точного их количества не знает никто. Их ареал по площади сравним с Гренландией и покрывает по меньшей мере двенадцать азиатских государств.
В широко известной книге Питера Маттиссена «Снежный барс» рассказывается о путешествии автора в отдалённый непальский регион под названием Долпо. Несколько лет назад я уже читал эти путевые записки и обратился к ним ещё раз, как только вернулся из Ладакха в Австралию. Эта культовая книга – одновременно и травелог, и буддистские духовные искания. Она рисует чудесные картины далёкого, вольного уголка планеты, где благодаря труднодоступности долины Долпо сохраняются в неприкосновенности древние тибетские традиции.
Маттиссен родился 22 мая 1927 г. в Нью-Йорке. С детства он интересовался дикой природой и пронёс этот интерес через всю жизнь. Отслужив в 1940-х гг. в американском флоте, в 1950 г. он окончил факультет английского языка Йельского университета и твёрдо решил стать писателем. В 1951 г. он женился на Патси Саутгейт, и вскоре они переехали в Париж. Там в 1953 г. Маттиссен участвовал в создании литературного журнала The Paris Review. Впоследствии стало известно, что в тот период своей жизни он работал на ЦРУ. У них с Патси было двое детей: Люк, родившийся в Париже, и Сара, появившаяся на свет в 1954 г., уже после возвращения в Штаты. В 1958 г. Питер и Патси развелись. В 1963 г. он женился на писательнице Деборе Лав, и оба они увлеклись дзен-буддизмом. В 1965 г. Питер написал роман, где рассказывается о встрече американских миссионеров с коренным племенем в Южной Америке. Роман называется «Игры в полях Господних», и впоследствии он лёг в основу голливудского фильма. Отношения Питера и Деборы были сложные, но в конце концов они нашли подход друг к другу и семейная жизнь наладилась. В конце 1972 г. Дебора скончалась от рака. У них было двое детей: Питер удочерил дочь Деборы Ру, а в 1964 г. у них родился общий сын Алекс. В книге «Снежный барс» Маттиссен часто говорит о смерти жены и тоске по детям.
Питер всегда много путешествовал, и в 1969 г. в африканском Серенгети он познакомился с Джорджем Шаллером.
Джордж Билс Шаллер родился в 1933 г. в Берлине и подростком переехал в США. Он получил высшее образование в Университете Аляски, окончив его в 1955 г., и в 1962 г. защитил докторскую степень. В возрасте двадцати шести лет в 1959 г. он отправился в Центральную Африку изучать горных горилл[9]. В дальнейшем его работа вдохновила известного приматолога и защитницу дикой природы Дайан Фосси[10] на изучение крупных приматов.
В 1966 г. Джордж с женой Кей уехали в Танзанию, чтобы изучать популяцию львов. Встретившись в Серенгети в 1969 г., Маттиссен и Шаллер договорились о совместной поездке в Гималаи, куда Джорджа звали его дальнейшие исследования.
Питер понимал, что в научной экспедиции с Джорджем он сможет наконец познакомиться с тибетским буддизмом на месте.
Их совместное путешествие состоялось только в сентябре 1973 г., когда Питеру было уже сорок семь. Оно началось в Катманду и легло потом в основу его книги «Снежный барс». Травелогу было суждено выйти в свет в 1978 г. Маттиссен и Шаллер собирались наблюдать и документировать поведение голубых баранов, или бхаралов. С помощью нескольких групп носильщиков они добрались от Катманду до Покхары. Оттуда они двинулись на юг, к массиву Дхаулагири, повернули севернее у долины реки Бхери, вдоль реки Сулигад добрались до озера Пхоксундо и, наконец, попали в Ше-Гомпу. Скорее всего, для Маттиссена с его глубокими буддийскими убеждениями это путешествие стало поисками самого себя после недавней кончины жены. Дорожные тяготы, красоты внутреннего Долпо и добрые местные жители, описанные в книге, – всё это стало катарсисом для автора. Писал Маттиссен также и о своих спутниках, в том числе о ДШ, как он обозначал Шаллера. Путешественники наняли проводников – пастухов из долины Кхумбу к северо-востоку от Катманду. Возглавлял их шерпа Джанг-Бу, Пху-Черинг служил поваром, Гьялцен и Дава помогали в лагере – всем им было около тридцати лет. Их сопровождали ещё двое проводников постарше, Бимбахадур и Туктен, бывшие королевские гуркхские стрелки. Все они получали гроши за свою работу.
Перечитывая «Снежного барса», я убедился, что Джордж Шаллер хорошо изучил Долпо. В 1973 г. он провёл там полтора месяца, вдвое дольше Маттиссена. Шаллер написал много книг об изучении дикой природы по всему свету, в частности, в 1967 г. он выпустил труд под названием «Немые камни. Путешествие в Гималаи».
Я купил «Немые камни» онлайн, и оказалось, что это не менее увлекательная и познавательная книга, только более серьёзная и научная, чем «Снежный барс». В начале книги, в главе о Долпо, Шаллер так и пишет: «Хотя у нас и разные причины ехать в Гималаи (Питер ищет себя, а я – научные знания), пути наши пересекаются».
Именно из книги Шаллера я узнал о первых чужаках, которым удалось попасть в этот отдалённый участок Гималаев. До 1950 г. Непал был закрыт для иностранцев, а Долпо – ещё дольше. Шаллеру пришлось получать специальное разрешение, и его сопровождало постоянное беспокойство, что власти Покхары или Дунаи начнут чинить ему препятствия. Маттиссен почти ничего не пишет о путешественниках, которые бывали в Долпо до них с Шаллером. Лишь однажды он упоминает: «Выше когда-то стоял лагерем исследователь тибетского буддизма, который посетил Ше-Гомпу в 1956 г. (благодаря его превосходным книгам я могу рассуждать об иконографии региона с уверенностью, которая мне не принадлежит)». Сноска ведёт к примечаниям в конце книги, где указано просто: «Дэвид Снеллгроув. Гималайское паломничество».
Шаллер, напротив, по-настоящему отдал должное своим предшественникам: особенно хвалил он того самого англичанина по имени Дэвид Снеллгроув. Он высоко ценил исследования Долпо, которые Снеллгроув совершил раньше него.
Дэвид Снеллгроув был всего на семь лет старше Маттиссена: он родился 29 июня 1920 г. в английском Портсмуте. Ранние годы Снеллгроув провёл в сельском Гэмпшире, учился в интернате «Христов Госпиталь» в Сассексе. Изучал иностранные языки в Саутгемптонском университете. Когда началась Вторая мировая война, Снеллгроува призвали на службу и причислили к корпусу королевских инженеров. Он попал в новое подразделение радиоразведки и в 1943 г. отправился морем в Индию. Снеллгроув тяжело переносил тропическую жару, и начальство отправило его в госпиталь в долине Лебонг, за городом Дарджилингом. Там он впервые посетил буддийские монастыри и начал учиться тибетскому по классическому труду Чарльза Белла «Грамматика и словарь разговорного тибетского языка». Последующий отпуск он провёл под Дарджилингом и подружился там с молодым тибетцем по имени Пасанг, который помог англичанину освоить местный язык.
Позже Снеллгроува перевели в другое подразделение, и в марте 1944 г. какая-то специальная миссия привела его на остров Цейлон, где он посетил важнейшие буддийские центры. Остаток времени, проведённого в Индостане, позволил англичанину несколько раз съездить в Сикким и окрестности. Он постоянно практиковался в тибетском языке.
Демобилизовавшись, Снеллгроув три года посещал Кембридж, потом ещё год проучился в Риме у профессора Джузеппе Туччи, после чего поступил на восточное и африканское отделение Лондонского университета. После учёбы он смог вернуться, наконец, в Индию, отправиться в Гималаи, а после в Непал, только открывшийся для туристов. Первая экспедиция Снеллгроува продлилась с конца 1953 по 1954 г. и легла в основу двух книг: «Пристрастие к Азии. Странствия и искания на Индийском субконтиненте и в Юго-Восточной Азии» и «Буддийские Гималаи». Последняя мне очень понравилась: в ней понятно описывается развитие буддизма и его распространение вначале в Индии, а в дальнейшем и по всей Азии.
Вторая поездка Снеллгроува в Непал была во многом призвана продолжить и завершить первую – в первый раз он не продвинулся западнее Катманду. В январе – марте 1956 г. он описывал буддийские монастыри Патана, Катманду и Бхадгаона (Бхактапура). Потом с марта по октябрь, восемь месяцев подряд, исследовал Непал, отправной точкой избрав Непалгандж на индийской границе. Оттуда он отправился на север к Бхери, поднялся вверх по Сулигаду и достиг по-волшебному голубых вод озера Пхоксундо. По дороге он покорил перевал Канг-Ла, где через семнадцать лет побывают Маттиссен и Шаллер, и прошёл «Внутреннее Долпо». Он исследовал Ше, «Хрустальный монастырь», и прилегающие к нему долины, а потом отправился на восток, прошёл севернее Дхаулагири и ступил в долину реки Гандак у Кагбени. Оттуда он добрался до Катманду, пройдя севернее Аннапурны и Манаслу и проследовав притоком Гандака. Там он и закончил восьмимесячное путешествие.
О своём масштабном походе Снеллгроув написал книгу «Гималайское паломничество»[11]. Её я тоже сумел купить онлайн, правда, пришлось заказывать доставку из Штатов. Книга стала настоящим открытием: она была переполнена важными сведениями о маршруте, которым мы собирались путешествовать в Долпо. В ней подробно рассказывается о деревнях, монастырях и, что особо интересно, – о людях, их жизни и обычаях. Кроме того, Снеллгроув упоминает первого иностранца, который пересёк Долпо, – японского монаха по имени Кавагути Экай, который в июле 1900 г. путешествовал по восточной части долины, надеясь тайком проникнуть в Тибет. Его собственный рассказ об этих странствиях вышел в 1909 г. под названием «Три года в Тибете».
Итак, я избрал «Гималайское паломничество» Снеллгроува своим путеводителем. Перед отъездом я запаковал книгу в водонепроницаемый пакет, и каждый вечер в дороге я вынимал её, чтобы сверить с ней собственные дневниковые записи: мне хотелось знать, многое ли изменилось за пятьдесят девять лет.
Путешествие 1956 г., впрочем, не стало для Снеллгроува последним. Он горел идеей перезимовать в Долпо. В конце 1960 г., незадолго до холодов, он отправился в путь через Покхару и Гандак, взобрался на Сангду и вошёл в Долпо с востока. Остановившись у своего старого друга Ньимы Черинга, главы поселения Салданг, Снеллгроув обнаружил старые документы, содержащие биографии средневековых монахов, которые обитали когда-то в этом регионе. Биографии были полны интереснейших фактов о быте, жизни и смерти в XV–XVIII вв. Снеллгроув решил, что эти исторические документы необходимо перевести, и в 1967 г. выпустил книгу «Четверо лам из Долпо», в которую вошёл также подробный рассказ о его путешествии и о трудной трёхмесячной стоянке в долине Нангкхонг.
Во время путешествия 1960–1961 гг. Снеллгроув преследовал исключительно писательские цели. Поэтому он очень хотел пригласить с собой антрополога, который бы наблюдал за сезонной деятельностью и экономикой долпо-па, коренного населения Долпо. Желающий нашёлся в лице мсье Корнеля Жеста, сотрудника Музея человека в Париже. Жест родился в 1930 г. и имел богатый опыт работы в Гималаях. Он прожил в Долпо целый год и написал об этом несколько книг на французском. Одна из них попала в печать лишь в 1998 г., и впоследствии её перевели на английский язык. Она называется «Бирюзовые байки. Паломничество в Долпо» и описывает трёхнедельное путешествие, которое автор совершил в компании тибетца из окрестностей Дхо-Тарап. Этот человек по имени Карма славился талантом рассказчика, и путешествовать в его обществе было одно удовольствие. Жест записывал за ним разные байки и небылицы и включил их в свою книгу. Получился ценный культурный срез нравов и традиций тибетцев, населяющих Долпо.
Питер Маттиссен в «Снежном барсе» едва прошёлся по верхам многогранной культуры и быта региона Долпо – однако, добавив к его книге труды Шаллера, Снеллгроува и Жеста, да ещё прочитав и посмотрев более современные источники, я получил целую «команду виртуальных гидов». Теперь я был уверен, что путешествие в Долпо станет для меня глубоким и осознанным опытом, а не просто прогулкой по горам.
3. Лама
Впервые в Непал я отправился в 2004 г.
Самолёт «Сингапурских авиалиний» резко пошёл на посадку в долине Катманду. Горные вершины стремительно приближались. Их крутые склоны затейливо усеивали узкие полосы зелёного и жёлтого цвета – распаханные террасы, на которых толпились крохотные зданьица. Пейзаж захватывал дух – но тут самолёт совершил головокружительный поворот на 180°. Мой борт обратился к северу, и впервые предо мной предстали Гималаи. Гряда за грядой – ослепительно-белые снежные вершины, не уступавшие нам в высоте, ярко сияли на послеполуденном солнце.
Мы приближались к Катманду. Сверху этот город из кирпичных домов с торчащими печными трубами казался построенным из «Лего». Впервые я оказался в этом сказочном месте. Что, в сущности, я о нём знал?
«К северу от Катманду стоит одноглазый жёлтый идол», – гласит поэма, повествующая о крахе некоего Безумного Кару. Через гуркхов, непальских солдат-добровольцев, Катманду имеет историческую связь с британской армией. Кроме того, в 1960-х гг. город стал пунктом притяжения для множества хиппи. В 2001 г. здесь короновали нового короля, после того как его племянник расстрелял из винтовки большинство членов королевской семьи. Непал – страна индуистская, однако буддизм в ней тоже силён. И в «мирном» королевстве недавно погибли около 12 000 человек, став жертвами террористического акта боевиков-маоистов.
Разумеется, я заранее запасся путеводителями и часами их изучал. Мне не терпелось проникнуться этим чарующим местом, увидеть его своими глазами. И мои ожидания оправдались с лихвой.
Это был первый из моих многих последующих визитов в Катманду. Город полюбился мне, как мало какой другой. Это настоящий пир для органов чувств. Калейдоскопическая феерия, напоённая всеми запахами Востока, дурными и приятными. Бесконечная какофония уличного шума, колокольного звона, песнопений, криков торговцев и нищих. В 2007 г. «Непальские авиалинии» принесли в жертву двух коз, заколов их на взлётной полосе перед «Боингом 757–200», дабы умилостивить индуистского бога неба по имени Акаш Бхаираб и «разрешить некоторые трудности в починке авиалайнеров». К сожалению, знаменитого книжного магазина «Пилигримы» уже нет: он сгорел в 2013 г. На каждом углу – храм тому или иному индуистскому божеству, и сутки напролёт люди идут с песнопениями и подношениями. Не забыт и буддийский пантеон. Самое впечатляющее его проявление – Великая ступа в Боднатхе. Эта белая полусфера, увенчанная всевидящими очами, обращёнными во все четыре стороны, – настоящий оазис покоя в городском водовороте. Вокруг ступы принято гулять не торопясь, по часовой стрелке, и занимает это примерно двадцать минут, во время которых надо обязательно покрутить один из сотен молитвенных барабанов. Такое незамысловатое путешествие вокруг храма помогало мне изучать основы буддизма.
Мой отец Джордж Крозье, всю жизнь предпочитавший называться «Черри Крозье», почти два года прожил в Индии, в 1944–1946 гг. Он был сержантом в Королевском корпусе связи и почти всю войну проездил на мотоцикле, выполняя обязанности курьера. В Африке и Италии ему пришлось очень туго. В 1944 г. его отправили в Индию, откуда он должен был двинуться в Бирму на битву с японцами – но атомный взрыв положил конец войне. Об Индии он всегда рассказывал с особенным восторгом. Он любил поесть знатного карри и одним из самых важных моментов своей жизни называл тот день, когда увидел Ганди во главе процессии. Однажды, когда мы с братом ещё были детьми, отец рассказал нам потрясающую, практически невероятную историю. По приезде в Индию в его подразделении стали проводить учения по десантированию у подножия Гималаев – и однажды всё пошло насмарку. Самолёт «Дакота» уже подлетал к горам, когда разразился шторм. Самолёт жестоко болтало в воздухе, отнесло далеко от курса, и вскоре он начал терять высоту. Поступил приказ срочно прыгать, и солдаты разлетелись на своих парашютах кто куда. Пилот геройски погиб вместе с самолётом. Отец приземлился куда-то в снег, но увидел деревню неподалёку, на склоне горы. Местные приютили его и напоили горячим чаем. Отец едва успел согреться, как вдруг его подвели к постели, на которой дрожал в бреду больной молодой человек. По словам отца, у него при себе был аспирин и немного спиртового раствора из компаса. Он дал то и другое больному, и на следующее утро лихорадка спала: местные жители решили, что это настоящее чудо. Оказалось, что больной – тибетский лама, и в те несколько недель, что отец отдыхал в деревне, они крепко подружились. Лама был чрезвычайно благодарен своему спасителю и, прежде чем расстаться с ним, пообещал, что станет его духовным наставником и всегда придёт ему на помощь в трудную минуту. Отец утверждал, что они часто общаются мысленно! И хотя мы с братом не то чтобы поверили, благословение ламы давало о себе знать. Всякий раз, когда мы озорничали, отец точно знал, что мы плохо себя ведём. Он ясно видел, кто из нас развёл бардак или не выключил свет в доме. «Откуда ты узнал, что это я?» – спрашивал я у него, а он отвечал: «О-о, это мне лама сказал!» Подкреплял он свои россказни сюжетом фильма «Потерянный горизонт». Нам казалось, что раз похожую историю показывают в кино, значит, папа точно не врёт. Во всяком случае, теперь мы думали дважды, прежде чем озорничать. Разве могли мы тягаться со всезнающим ламой! Конечно, всё это был вымысел – зато мы перестали врать отцу о своих проделках ровно до того возраста, когда наконец не выудили из него всю правду. Он знатно посмеялся над нашим легковерием, которое продержалось так долго. Так или иначе, отцовская шутка стала моим первым знакомством с буддийскими ламами и с мистической духовностью, разительно отличающейся от сурового христианства, которое насаждали в школе в наши невинные головы.
В те времена школьников ещё собирали каждое утро на утреннюю молитву. Я увлекался наукой и с возрастом научился критиковать, даже презирать христианский нарратив, особенно ту его версию, которую исповедуют напыщенные и догматичные англиканская и католическая церковь. Получив естественно-научное образование, я отказался от концепции всемогущего божества. Однако, начав работать врачом, я научился понимать и принимать глубокую, более духовную веру, которую исповедуют многие люди. Пусть я и стал атеистом, однако чем больше я читал о буддизме и чем глубже открывал его для себя, тем больше я влюблялся в философию и образность Будды.
Впервые я задумался о Будде в конце 1990-х гг. Я прошел практику в больнице Гая в Лондоне и получил специальность анестезиолога. Вырвавшись из тисков британского здравоохранения, два года я преподавал в больнице Джонса Хопкинса в Балтиморе. После я переехал в Австралию, начал практиковать там и был всем доволен, а дети мои росли настоящими австралийцами. В 1999 г. меня пригласили съездить по работе во вьетнамский Хошимин от организации под названием «Интерпласт» – Международная ассоциация пластических хирургов. Две недели нам предстояло работать бок о бок с вьетнамскими врачами, делая восстановительные операции, учась и уча друг друга приемам реконструктивной хирургии. Я тут же принялся изучать историю Вьетнама и был весьма приятно удивлён, выяснив, что Вьетнамская война, здесь называемая Американской, ушла в прошлое, хотя и была страшной и кровавой. Оказалось, что Вьетнам – богатая, незнакомая мне культура, которой целых четыре тысячи лет. Приехав туда, я посетил несколько буддийских храмов, и меня поразила их атмосфера, их богатое разноцветие. То были места, где люди живут и занимаются своими повседневными делами. Это было совсем не похоже на массивные, давящие европейские соборы, битком набитые туристами. Я видел пагоду Нефритового императора, с черепашьим прудом и огромными стаями голубей, и гробницу Ле Ван Зуета, и пагоду Ха Лой, с её статуей Будды высотой с двухэтажный дом. В безмолвных думах остановился я в старом Сайгоне на том месте, где в 1963 г. поджёг себя Тхить Куанг Дык[12] и где сняли ту самую знаменитую фотографию, поднявшую антивоенные настроения в западном обществе. Я продолжал глотать книги – и глубоко влюбился в простой буддийский нарратив. Срединный путь, спокойствие, внимание к окружающим и идея о том, что источник счастья находится внутри человека, – всё это живо влекло меня. В 2004 г. «Интерпласт» отправила нас в поездку на Шри-Ланку, и там я познакомился с другой гранью буддизма, со школой Тхеравада[13]. Я посетил город Канди в центре острова, над которым возвышается холм с массивной статуей Будды, и увидел воочию, как много разных культур и систем ценностей принял в себя буддизм. Он адаптировался ко многим человеческим обществам – и эти же общества он трансформировал. В храме Зуба Будды хранится фрагмент челюсти с одним-двумя зубами, которые, по легенде, вынули из потухшего погребального костра последнего Будды, Сиддхартхи Гаутамы. Реликвия хранится в золотой ступе, и раз в году, во время парада, её помещают на спину первого из шестидесяти слонов и провозят по улицам города.
Команда наших врачей работала в неофициальной столице острова Коломбо, проводя разные хирургические операции под эгидой «Интерпласта». Чаще всего приходилось работать с расщеплением нёба у детей и с ожогами, но иногда попадались раны, полученные на гражданской войне. В конце каждой командировки мы обычно оставляли местным врачам неиспользованный инвентарь: перчатки, шприцы, эндотрахеальные трубки и кое-какие препараты. Так было проще, чем везти их обратно в Австралию, а тут они были нужны. Когда я отдал местному врачу кипу детских эндотрахеальных трубок, эта славная шриланкийка смешалась и сказала мне со слезами на глазах: «Спасибо, спасибо! Вы так приумножили свою добродетель». Пришла очередь мне смешаться. Я осознал, что подарить что-то кому-то – это важный жест, исполненный много большего культурного символизма, чем привыкли думать мы, западные люди, испорченные материализмом. Мне понравилось, что я, так сказать, «приумножил свою добродетель». Но также мне пришла мысль, что эта буддийская концепция не подразумевает некоего космического табло, на котором отображаются очки, заработанные мной в жизни, и что нет никакого нужного количества очков, которое обеспечило бы мне пропуск в жемчужные врата. Нет: концепция эта подразумевает, что несложные добрые дела наделяют человека покоем, удовлетворением и благоденствием.
Через несколько месяцев после командировки на Шри-Ланку я собрался ехать на треккинг в базовый лагерь Эвереста вместе с моим кузеном Филом Крозье. Мне не терпелось познакомиться с непальским буддизмом – школой Махаяна. Я уже читал о Сваямбунатхе, «Обезьяньем храме», и о Боднатхе, самой большой ступе в стране. И, конечно, я рвался в Тенгбоче, легендарную деревню из истории покорения Эвереста в 1950-х гг. Сумею ли я добраться до неё?
Первый мой непальский треккинг увенчался незаслуженным успехом. Мы добрались до базового лагеря и взошли на небольшую вершину Кала-Патхар: воздух там разрежен ровно наполовину по сравнению с уровнем моря, а губы приобретают синеватый оттенок. Но не менее ярко в моей памяти отложились другие эпизоды этой поездки: прогулка вокруг Великой ступы, Обезьяний храм, стены мани[14] и чортены, попадавшиеся вдоль трека, и монастыри в Пангбоче и Тенгбоче. Я познакомился с настоятелем Тенгбоче, пережившим реинкарнацию, и получил от него благословение. Я попал, во всех смыслах этого слова, в высшее измерение. И не только это запомнилось мне. Яркие краски, аромат ладана, улыбки монахов в красных одеяниях. Как вращались молитвенные барабаны. Как мы покупали молитвенные флаги на память. Как я приобрёл первую в моей жизни тхангку, сакральную буддийскую живопись. Философия, позиция, образность буддизма. Природа тех людей, что живут по-буддистски. Всё это полностью очаровало меня – и с тех пор я одержим родной землёй тибетского буддизма.
4. К началу
Долгий путь я прошёл, прежде чем оказаться в начале своих странствий в Долпо.
Родился я в городке под названием Уоллсенд на севере Англии. Там проходит древний римский вал Адриана. Рос я в Ньюкасл-апон-Тайне в 1960-е гг., и воспитывали меня далеко не так строго, как можно себе вообразить. Я учился в хороших школах, меня всегда манили привольная сельская Нортумбрия и Озёрный край, так что все выходные я проводил в походах, которые организовывал Клуб занятий на открытом воздухе средней школы имени Резерфорда. В шестнадцать лет меня даже отправили на программу активного обучения через приключения – Outward Bound[15] на Мори-Фёрт, в Шотландию, где я провёл целый месяц. Там я познакомился с простейшим альпинизмом, научился управлять байдаркой и ходить под парусом. Погода, конечно, стояла прескверная, но меня это не беспокоило. Главное – далеко от города и кругом простор. Я не просто хотел выбираться на природу время от времени – меня терзала жажда её естественной красоты и величия, и она до сих пор не утолена.
Средняя и старшая школа пролетели как день, и, сдав экзамены, в восемнадцать лет я отправился в Лондон учиться врачебному делу в больнице Гая. Лондон 1970-х гг. ещё «свинговал», и жить там было одно удовольствие, да и учиться медицине мне очень нравилось. Два года мы зубрили анатомию, психологию и биохимию, а после нас выпустили «в поля» набираться клинического опыта. Особенно мне понравился «период свободного выбора», трёхмесячный срок, когда можно было отправиться на учёбу в любую точку мира. Многие мои одногруппники поехали в Австралию или США, но мы с моим другом Йеном Николсоном выбрали Восточную Африку. В те годы Угандой правил Иди Амин, сопровождая своё правление жестокими расправами. Так что Йен остановился на Танзании, а я – на Кении. Меня распределили в окрестности города Ньери, примерно в 150 километрах от Найроби, и я начал работать в маленькой миссионерской больнице под названием Тумутуму. Там я видел случаи малярии, столбняка, бешенства, проказы и других жутких болезней, которые мне было бы не встретить в английской лечебнице. Я очень многому научился. Из Найроби в Тумутуму мне пришлось ехать на матату, местном такси, в компании девятерых человек из племени кикуйю и нескольких горластых куриц. Красная ухабистая грунтовка вела мимо экзотических жакаранд и «огненных деревьев», которых я прежде никогда не видел, и каждую минуту мне казалось, что вот-вот на дорогу выпрыгнет лев или антилопа гну. Ближе к вечеру, когда небо затянули тучи и стало душно, я прибыл в своё жилище на территории больницы. Мне отвели крохотную деревянную хижину, где нашлись кровать, ванна и маленький стол. Не прошло и нескольких минут, как раздался стук в дверь. Открыв, я с удивлением обнаружил на пороге молодую стройную блондинку, явно из Европы, которая говорила с очевидным шотландским акцентом. Это была Уна Мак-Аскилл, с которой мы станем хорошими друзьями. Она даже будет одалживать мне свой «пики-пики» – мотоцикл. В тот первый день она пришла пригласить меня на ужин и вместе со своей подругой Джойс Бурини накормила меня фасолью и местным маисом.
Ночью я спал плохо и почти не выспался: сказывалась и чуждая, незнакомая обстановка, и странные голоса животных за дверью. Утром, впрочем, мои тревоги рассеялись, стоило мне раздвинуть шторы. Меня встретила гора Кения, ясная и чёткая громадина, возвышавшаяся в 30 километрах к северо-востоку. Она как раз помещалась в моё окно, и над её широкими, покатыми, симметричными склонами торчали острые вершины, будто гигантские клыки. И там-то, наверху, к моему величайшему удивлению и восторгу, я увидел ослепительно-яркий, незамутнённо-белый снег: он венчал вторую по высоте гору в Африке, которая находится точно на экваторе.
За сорок пять лет до моей практики в Тумутуму на кофейной ферме неподалёку от Ньери жил легендарный английский альпинист Эрик Шиптон. Его ферма находилась на расстоянии тех же 30 километров от величественной горы в 5199 метров высотой. Впервые проснувшись в Ньери, он испытал до невероятности похожие на мои чувства, которые описал в книге «На той горе»: «С севера горизонт совершенно загородил собой гигантский конус, окутанный лиловой дымкой. На макушке у него сидел венец из облаков. Над этим венцом, словно паря над землёй, высилась пирамида изо льда и камня, прекрасных пропорций, ясная и чёткая на фоне неба. Солнце ещё не взошло, но его лучи уже коснулись пика, и по его ломаной каменистой поверхности бежали тенистые морщины, перемежаясь с ослепительно пылающим льдом».
В 1929 г., прожив год в Восточной Африке, Шиптон впервые взобрался на Нелион, один из пиков Кении, в сопровождении Перси Уин-Харриса. В 1930 г. он познакомился и подружился с ещё одним кофейным плантатором по пересеченному маршруту.
Время от времени я встречался с Йеном, и вместе мы ездили в Амбосели, Серенгети и даже в Занзибар. Когда наша практика уже подходила к концу, я провёл месяц в Дар-эс-Саламе, работая акушером. Оттуда на десятичасовом автобусе я отправился в Арушу, в Северную Танзанию, и мы с Йеном попытались взобраться на Килиманджаро. Нам было по двадцать одному году, мы были молодые, крепкие ребята. Шёл 1974 г., двадцать с лишним лет миновало с покорения Эвереста, и с тех пор на вершину мира ступили лишь тридцать семь человек. Процесс акклиматизации тогда понимали намного хуже, чем сейчас. Помню, что больше переживал, что замёрзну, чем боялся эффектов высоты. Естественно, мы, молодые люди, убеждённые в своей неуязвимости, поднимались по нижнему склону чуть ли не бегом.
Я был обут в простые кроссовки, не припася никакой крепкой обуви. Три дня спустя, страдая от лёгкой головной боли, мы очутились в хижине Кибо, на высоте 4730 метров. В последние сутки мы почти не пили, а вокруг нас, на пустынной седловине, не было ни родника. Утром мы покинули хижину и взобрались на пик Гилмана (5681 метр). Дорога по серпантину, поднявшая нас на 900 метров, заняла у нас около пяти часов. Нам уже было очень плохо, но мы ещё не понимали насколько. До кратера мы добрались, когда солнце стояло уже высоко, и пока мы там сидели, Йена постоянно тошнило. Я считал у себя пульс, не касаясь шеи: частого-частого стука крови в голове было достаточно. Двести ударов в минуту. Мы повернули назад, как только смогли. Минут через пятнадцать нам полегчало, и мы дошли до Аруши.
Таков был мой первый, очень неприятный опыт восхождения на большую высоту. Я получил медицинский диплом и поселился в Лондоне. Год я проработал в отделении неотложной помощи в больнице Гая, потом отработал своё в кардиологии. Я даже как-то служил корабельным врачом – несколько месяцев плавал в Арктике. Однако в конце концов я решил, что хочу быть анестезиологом, и проучился этому шесть лет.
Тогда же я женился, мы завели детей и переехали в Австралию. На горах я поставил крест, единственное, что могло случиться, – одна-другая поездка в Альпы. В то время мне казалось, что дело моей мечты – мореплавание. Однако мне всегда нравилось слушать рассказы альпинистов. Все эти истории о ранних экспедициях, о Мэллори и Ирвине, Шиптоне и Тилмане, и «Белый паук» Генриха Харрера, и «Эверест» Бонингтона, и «Трудным путём» Дженкинса… Вот это, я понимаю, приключения. Вот это настоящие люди – и они рассказывают о своих победах с одинаковой страстью, юмором и красноречием.
Идея отправиться в 2004 г. в Непал, в базовый лагерь Эвереста, родилась в индийском ресторанчике в Ланкастере, где мы сидели с моим кузеном Филом Крозье. В 2003 г. мы с моей женой Паулой приехали на лето (нашу зиму) в Англию повидать друзей и родственников. Мы с Филом вместе выросли в Ньюкасле, но я не видел его уже много лет, так что нам было о чём поговорить. Мы устроились в цветастом индийском ресторанчике, который никак не сочетался с видом из собственных окон – они выходили на подсвеченные ворота древнего Ланкастерского замка. Выпив сингапурского пива, мы стали обмениваться новостями.
– Ну что, как поживают твои Уэйнрайты? – спросил я.
– Почти закончил с ними – потом заново примусь, – отвечал Фил, имея в виду 214 холмов в Озёрном крае, которые описал в своём знаменитом «Живописном гиде по холмам Озёрного края» Альфред Уэйнрайт[16] (поэтому они так и называются). – Езжу на Озёра как к себе домой. Пару недель назад вот в «Регеде» был, – добавил он.
Я слыхал про «Регед» – выставочный центр в Камбрии, где в то время экспонировались артефакты, найденные на Эвересте вместе с трупом Джорджа Мэллори несколькими годами ранее.
– Вот бы съездить туда, – сказал я. – Жаль, в этот раз не сможем. А то я все книги про Мэллори прочёл – и про то, как его нашли. Удивительная история.
– У меня полно книг про Эверест. Некоторые – даже с автографами Криса Бонингтона и Дага Скотта: я был недавно на их лекции, – ответил Фил.
– Да ты что. Завидую! Я купил «На Эверест трудным путём», как только книга вышла, в 1976-м.
Я помнил дату, потому что как раз тогда получил диплом и начинал работать по специальности на южном берегу Англии. Я и не знал, что Фил так любит Гималаи.
– Вообще-то, – сказал он, – я тут думаю в следующем году поехать на Эверест.
Недолго думая, я ему ответил:
– Слушай, это же здорово! Я с тобой, – и обратился к Пауле: – Что думаешь? Не возражаешь, если я поеду?
– Конечно, нет. Я думаю, это отличная мысль, – сказала она.
Итак, игра началась. Я рассказал Филу, как нехорошо мне было на Килиманджаро, но к тому времени и он, и я уже больше понимали про акклиматизацию. Так что ничего нам не сделается, правда?
И правда – не сделалось.
Маршрут, который мы с энтузиазмом запланировали в тот вечер, положил начало моему роману с горами во всех их проявлениях. Мирные, предательские, до боли прекрасные, грозные, трудные, даже смертельно опасные, но неизменно манящие, зовущие меня – вот они, горы, мои роковые возлюбленные.
После первого моего треккинга в Гималаях я стал часто ездить в Непал, Тибет, Индию, Бутан, Пакистан, даже на Борнео и в Новую Зеландию. Я мечтал побить собственный рекорд высоты – но на самом деле много более полезно мне было знакомиться с новыми людьми и культурой. Особенно меня привлекал буддизм.
Буддийские идеалы стали мне очень близки и очень помогали. Однако путешествовать и посещать достопримечательности – едва ли достаточно для настоящего погружения. Невозможно интересоваться буддизмом, не видя при этом страданий тибетских народов, не видя угнетения, которому подвержены их культура и религия. Я твёрдо решил отправиться в Тибет и увидеть всё это своими глазами. В 2006 г. я организовал трек к северной стороне Эвереста, намереваясь взойти на Лхакпа-Ри, гору высотой в 7000 метров неподалёку.
До сих пор мне не верится, что я стоял на Тибетском нагорье там, где оно примыкает к Гималайским великанам. Что взобрался на крышу дворца Потала в Лхасе. Что в Джоканге видел статую Джово. Что в Шигадзе, в монастыре Ташилунпо, любовался позолоченной статуей Будды высотой в четыре этажа. Все эти места прекрасны и величественны – а всё же крепче в моей памяти засели личные, порой трагические сюжеты.
5. В Тибет
В 2006 г. Китай готовился к Олимпийским играм в Пекине, назначенным на август 2008 г. Прибыв в сентябре 2006 г. в северный базовый лагерь Эвереста, на высоте 6400 метров, я дышал разреженным воздухом и любовался неповторимыми пейзажами Северной стены и Северного седла, Второй ступени и самой Джомолунгмы. Мы прилетели в Лхасу на самолёте и вначале, как положено, провели там несколько дней для акклиматизации.
Лхаса стоит на высоте 3650 метров, так что подниматься по лестнице в отеле или наклоняться, чтобы завязать шнурки, – уже задача не из лёгких. В номере рядом с кроватью стоял кислородный концентратор с маской, который принимал монеты. Проводником нам служил тибетец слегка за тридцать по имени Сонам. Он прекрасно говорил по-английски. Вырос он в Дхарамсале, образование получил благодаря Tibetan Children’s Village, некоммерческой организации, обучающей детей-беженцев из Тибета. Он отчаянно желал отыскать родных в Тибете, и вот несколько лет назад тибетские власти сообщили ему, что нашлась его мать. Чтобы повидать её, нужно было всего-навсего приехать в Лхасу. А это, конечно, была ловушка. Как только парень приехал в Лхасу, его тут же арестовали. Никакая мать не ждала его. Четыре месяца он просидел в тюрьме. Его били, сломали ему правую ногу, пытаясь получить сведения о далай-ламе. Видел он его? Как далай-лама проводит дни? Конечно, парень не мог рассказать китайцам ничего нового. Его отпустили. Выйдя из тюрьмы, Сонам рассудил, что блестящий английский даёт ему отличную возможность работать проводником, и решил остаться в Тибете.
На второй день в Лхасе мы собирались посетить дворец Потала, и впечатления нам изрядно испортил тот факт, что нашего проводника внутрь не пустили. Этническим тибетцам запрещено входить в Поталу. Сонаму пришлось болтаться снаружи и после встречать нас у входа.
На следующий день мы отправились в большой монастырь Дрепунг, расположенный в долине к северо-западу от Лхасы. Раньше там жили более 7000 монахов, порой доходило и до 10 000. На момент нашего визита в монастыре оставалось всего пятьсот человек. И расположение, и архитектура его очень живописны. Повсюду – молитвенные барабаны, барельефы с мантрами, молитвенные флаги полощутся на ветру. Мы заходили в кухни, покрытые сажей, где в огромных котлах можно было сварить риса на тысячи человек. На сей раз нашего нового друга, проводника-тибетца, пустили вместе с нами, и он провёл нам хорошую экскурсию. В числе прочего он показал нам покои настоятеля.
Это было просторное помещение с алтарём. В самом центре стоял сосуд – масляная лампа, полная ячьего жира, из которой торчали с десяток постоянно горящих фитильков. Одна дверь вела в спальню, другая – в ванную. Отведя меня в уголок, Сонам тихо рассказал мне одну историю. Оказалось, Китай давно видит в Дрепунге рассадник беспорядков и инакомыслия. Примерно за восемь месяцев до нашего приезда власти решили, что монастырь ведёт себя уж слишком нагло в рамках дозволенного, и решили принять меры устрашения. Настоятеля заперли в ванной и не выпускали. Через полтора месяца он умер от голода. Я пришёл в ужас и не хотел верить, но Сонам утверждал, что это всё правда.
Через неделю, уже в базовом лагере, я поговорил с другим молодым проводником-тибетцем, которого мы наняли. Парень в прошлом был монах, пока его не выгнали из монастыря. Я спросил у него насчёт Дрепунга, и проводник без колебаний подтвердил, что история о кончине настоятеля – не вымысел.
По дороге из Лхасы в долину Ронгбук, которую мы преодолели на автомобиле, мы останавливались в Шигадзе и в Гьянгдзе, невероятно красивых религиозных центрах. Наш визит в монастырь Ташилунпо в Шигадзе, традиционный престол панчен-ламы, совпал с какой-то крупной церемонией. Монахи тянулись в главную гомпу, оставляя за дверью груды обуви из красного войлока. Вокруг собралась толпа зевак, и вскоре подъехало несколько блестящих чёрных лимузинов. К первому лимузину поднесли традиционный зонтик от солнца, и оттуда вышел кто-то явно очень важный – рослый юноша в традиционной высокой, конусообразной шляпе и в красных одеждах. Проводник подсказал нам, что это панчен-лама.
Десятый панчен-лама скончался в Шигадзе в январе 1989 г. в возрасте пятидесяти одного года, как считается, от сердечного приступа. Ещё молодым человеком он ездил в Пекин вместе с далай-ламой. В возрасте двадцати шести лет, после китайского вторжения, он пережил процедуру публичного унижения и был заключён в тюрьму. После «реабилитации», занявшей многие годы, он вышел на свободу, и в 1989 г. ему было позволено вернуться в Ташилунпо. Там он официально перезахоронил останки прежних панчен-лам, чьи могилы были разграблены в 1959 г., когда китайские силы разрушили монастырь. Через пять дней после церемонии, на которой он произнёс речь против китайского правительства, он умер при подозрительных обстоятельствах.
Согласно традиции, прежде чем панчен-лама переродится и будет узнан, должно пройти некоторое время. Час настал в 1995 г.: панчен-ламу признали в шестилетнем мальчике по имени Гедун Чокьи Ньима, который жил в уезде Лхари в так называемом Тибетском автономном районе КНР. 14 мая 1995 г. его подлинность подтвердил далай-лама. А 17 мая мальчика с родителями забрали китайские власти, и на двадцать с лишним лет они исчезли с лица земли. Что с ними стало, неизвестно до сих пор. Через полгода после похищения КНР заявила, что в Лхари нашли мальчика по имени Гьялцен Норбу и что с этого дня он официально становится одиннадцатым панчен-ламой. Ребёнка поселили в Пекине, и в юные годы он редко показывался на публике.
Далай-лама и панчен-лама – солнце и луна тибетского буддизма. По традиции они обязаны признавать реинкарнации друг друга – и когда нынешний далай-лама скончается, у китайских властей появится мощный инструмент контроля над следующим.
В тот день в 2006 г. в Ташилунпо я увидел Гьялцена Норбу – марионетку шестнадцати лет, который едва ли не первый раз вышел к публике в официальном качестве. Я волновался, как этого юношу примут: вдруг в толпе начнутся протесты, вдруг его освищут? Но вскоре я разглядел, что большинство вокруг меня – в тёмных европейских костюмах: агенты из китайской полиции.
– Но это же фальшивый панчен-лама! – говорю я проводнику.
– Да, – отвечает он. – Этот панчен-лама – китайский.
– Но что же думают люди? Не может быть, чтобы они его принимали!
– Он в трудном положении, – ответил Сонам. – Ему сочувствуют.
Это меня пристыдило. Мне преподали простейший урок буддизма. Конечно, этот молодой человек достоин жалости. Но у каждого поступка есть карма, и, может быть, в конечном итоге назначение фальшивого панчен-ламы пойдёт на благо тибетскому буддизму. Тибетцы никогда не примут фальшивого панчен-ламу за настоящего, что бы ни велели китайские власти, – однако они ни за что не пожелают ему зла.
Через несколько дней мы вошли в долину, ведущую к Северной стене Эвереста. Стоило завернуть за угол, как перед нами предстал монастырь Ронгбук. Основанный в 1902 г., он стоит на высоте 4980 метров. В 1920-х гг., когда первые альпинистские экспедиции из Европы достигли этих мест, монастырь был полностью действующим и альпинистов встречал главный лама. В 1974 г. китайцы разрушили монастырь, но в 1980-х его начали восстанавливать. Я обрадовался, увидев растянутые над землёй молитвенные флаги.
Монахи и монахини переносили в помещение скромный урожай. До базового лагеря оставалось всего пара часов пешком по долине. В лучах послеполуденного солнца сиял яркими красками Эверест: до него было ещё двадцать километров, но огромная гора уже притягивала взгляд. Не описать словами, какое счастье испытываешь, когда узнаёшь детали пейзажа, о которых только слышал. Жёлтая полоса, Первая, Вторая и Третья ступени, кулуар Нортона, кулуар Хорнбайна, Три жандарма, северо-восточный гребень!..
Мы стали лагерем на траве под конечной мореной, где в 1920-х гг. базировались Брюс, Нортон, Сомервелл, Финч, Мэллори и Ирвин.
За день до подъёма в наш лагерь явился монах из Ронгбука и провёл обряд пуджи – помолился и благословил нас на успешное и безопасное путешествие. Мы разложили снаряжение вокруг чортена, выстроенного из камней с ледника. На наспех устроенный алтарь возложили подношения: немного воды, риса и даже пива. Монах пел свои песнопения десять минут, а после велел нам трижды поклониться и подбросить в воздух горсть цампы, ячменной муки, в которой мы знатно измазались.
Несмотря на молитвы монаха и трек по Восточному Ронгбукскому леднику, план взобраться на Лхакпа-Ри не увенчался успехом из-за плохой погоды.
На следующий год, в сентябре 2007 г., я возвратился в Ронгбук, на сей раз в компании кузена Фила. Мы направились в продвинутый базовый лагерь, надеясь всё-таки взобраться на Лхакпа-Ри. Поскольку в следующем августе планировались Олимпийские игры, китайское правительство вовсю привечало туристов. Мы оплатили ещё одно посещение Дрепунга, а также собирались в Серу, Поталу и Джоканг. Власти привели в порядок туристический маршрут от Лхасы до базового лагеря Эвереста: Тибет должен предстать перед иностранцами «в лучшем виде».
Когда наша группа остановилась на ночь в Шегаре, рядом со знаменитой Шегар-Дзонг (по-тибетски – «Белая хрустальная гора»), мы с Филом отважились свернуть с проторённой дороги. Снимки крепостных стен и монастырских зданий, ползущих по крутому скалистому склону до самой вершины, – жемчужина в работе фотографов, сопровождавших экспедиции на Эверест 1922 и 1924 гг. На чёрно-белых фотографиях, иногда раскрашенных вручную, были запечатлены выбеленные монастырские стены, возведённые в 1266 г. В монастыре жили тогда около трёхсот монахов. В 1960-х гг., во время так называемой культурной революции, народно-освободительная армия Китая полностью разрушила монастырь.
Мы с Филом вышли из города и принялись карабкаться по склону среди руин. Нас встретил молодой монах, который посоветовал нам посмотреть остатки гомпы. Главный двор обрамляли сотни молитвенных флагов, но само здание казалось заброшенным. Все молитвенные барабаны грязные: после многих тысяч вращений краска с них слезла. Занавески, покрывавшие главный вход в гомпу, были до того засалены, что вышивку разглядеть не удалось. Левая занавеска, прибитая к двери верхними уголками, едва держалась. Внутри тускло горели две электрические лампы. Масляные светильники были пусты. На алтаре не нашлось ни обычных торм (фигурок из масла и муки), ни еды, ни питья, ни денег – никаких подношений. Крыша над правой стороной здания прохудилась, и в ней зияла дыра шириной в метр. Этот монастырь в олимпийскую программу не входил. Его бросили на произвол судьбы и обрекли на неотвратимое разрушение.
А вот дорогу к базовому лагерю знатно улучшили, и Ронгбук, кажется, процветал. Как и в прошлый раз, я видел монахов и монахинь, несущих с маленьких полей в окрестностях монастыря плоды урожая. Белый чортен, гордо стоящий на фоне Северной стены Эвереста, украшали молитвенные флаги. Однако приготовления к Олимпиаде подразумевали и строительство большого барака в базовом лагере, предназначенного для китайской полиции и военных, – прямо у поляны, где обычно встают лагерем альпинисты.
Подъём на Западный Ронгбукский ледник выдался таким же живописным, как в прошлый раз: мы любовались огромными ледяными шипами, которые называются «снега кающихся», и в любом пейзаже доминировала Северная стена. Между тем выпал свежий снег, и в продвинутом базовом лагере нас окутало облаком снежной крошки – то были остатки лавины, сошедшей на северном склоне Чангзе. Опять условия не позволяли нам подняться на Лхакпа-Ри. Проведя две ночи в продвинутом базовом лагере (6400 метров), мы спустились тем же путём вниз, в обычный базовый лагерь, и оттуда отправились в поход по новой дороге в Катманду.
Год спустя, прямо накануне Олимпиады, я прочёл шокирующую историю: всего через несколько недель после нашего визита в Дрепунг некоторые монахи начали протест. Они всего-навсего белили стены старой резиденции далай-ламы в Дрепунге – вот только занимались они этим в тот самый день, когда Его Святейшество получил Золотую медаль Конгресса в Вашингтоне. Ремонт восприняли как знак поддержки далай-ламы, и нескольких монахов арестовали. Через несколько месяцев, 10 марта 2008 г., была сорок девятая годовщина Тибетского восстания 1959 г. – далай-лама тогда бежал в Индию, вспыхнули народные волнения и тысячи жителей Лхасы погибли под пулями народно-освободительной армии. И вот, в годовщину этих событий, триста монахов из Дрепунга устроили мирный протест, отправившись маршем на Лхасу. Это сочли уж слишком очевидной провокацией, да ещё на виду у всего мира, накануне Олимпийских игр. Ситуация вышла из-под контроля. Считается, что тогда погибли двадцать два человека. Многих арестовали. Сорок два монаха получили от двух до пятнадцати лет тюрьмы, а монастырь Дрепунг несколько месяцев фактически не действовал.
6. Снова Тибет
2010 г. ознаменовался треккингом к озеру Тиличо, который предприняли мы с кузеном Филом и моим другом Джо Бонингтоном. Так мы решили отметить пятидесятую годовщину восхождения на Аннапурну II (7937 метров), которое совершил отец Джо, Крис. И Крис действительно отправился с нами – в бодром возрасте семидесяти пяти лет.
Отец Джо был превосходный рассказчик и обожал кормить нас байками о своих экспедициях. Он прекрасно помнил восхождение на Аннапурну II в 1960 г. В своём старом базовом лагере он рассказал нам, как прибыл на это самое место пятьдесят лет назад: «Когда мы пришли в Мананг, нам ясно дали понять, что носильщиков-гурунгов не потерпят: если те задержатся в деревне ещё на сутки, им несдобровать. Гурунги наши были бхотия. В Мананге, между прочим, было нигде не видать европейской одежды: люди все ходили в тибетских сапогах и покрывались шкурами. Почти не мылись. Ну женщины мылись, а мужчины – ни-ни. Мы тогда из Мананга отправились к подножию с новыми носильщиками. Подошли к тому берегу реки и пересекли её повыше, чем здесь: тогда был март и здесь была куча снега. А наши носильщицы прошли с нами до самого базового лагеря. У меня и фотокарточка есть: тибетские женщины, в этих своих сапогах, по колено в снегу, поднимаются вон по тому гребню, – он указал на место прямо над нами. – И вы тут говорили о чём-то, а я вспомнил, что у одной женщины ребёнок спал на руках: ей нужны были деньги, так что она тащила двойную ношу – наверное, килограмм пятьдесят!»
Мы пришли на место по так называемому Кольцу Аннапурны, треку, ведущему вокруг горы. Добравшись до Мананга, Фил и я отправились бродить по окрестностям. Оказалось, у Мананга есть старая половина и новая половина. В центре поселения стояла гомпа, и оттуда доносились песнопения. Подойдя к двери, мы увидели, что церемония в самом разгаре. Монахи в красных одеждах стояли в два ряда один напротив другого, и из разукрашенных дверей лилось сущее многоголосие: пение, бой барабанов, гром труб, посторонний шум… В воздухе стоял дым горящего ладана, распространявшего густой, едкий запах. Мы так и стояли заворожённые, пока один монах не улыбнулся и не позвал нас внутрь.
Он вышел для этого наружу и с широкой улыбкой на отличном английском объяснил: он – настоятель, а происходят сейчас похороны почтенного монаха, длящиеся уже второй день. Не желаем ли мы чашечку часуймы? Мы пробыли в гомпе почти час, погружаясь в захватывающую атмосферу, делая снимки и беседуя с монахами. Нам очень повезло присоединиться к этой красочной, таинственной церемонии, и мы были благодарны. В этой части Непала, как и в Мустанге и в Долпо, господствует тибетский буддизм и традиционные религиозные практики не меняются столетиями.
В 2011 г. я продолжил открывать для себя гималайский буддизм, отправившись на треккинг в Бутан. Я слышал, что в этой стране вместо валового внутреннего продукта измеряют валовое национальное счастье, а молодой пятый король Бутана стремится модернизировать страну.
Джо Бонингтон организовал маршрут и с радостью взял меня с собой, чтобы на всякий случай иметь в группе доктора. С нами отправился и Крис, и вечерами, ужиная далом, мы с радостью слушали байки этого талантливого рассказчика.
Наша группа добралась самолётом из Катманду до Паро и отправилась пешком на север, немного восточнее горы Джомолхари. Окрестности там очень живописные, а горы не так высоки и не так суровы, как дальше на западе, но не менее прекрасны и точно так же заснежены. И во время похода у меня было по-буддийски ясно на душе, особенно когда было трудно.
Утром четвёртого дня одна из наших спутниц, славная канадка по имени Мэри Томас, стала немного от нас отставать. На высоте около 3800 метров, в узкой долине чуть выше лесного пояса, мы остановились пообедать. Покончив с обедом, состоявшим из лёгкого перекуса и горячего напитка, который тащила наша дружелюбная «чайная лошадка», мы с Джо решили идти последними и присматривать за Мэри. С нами остались её подруга Кэролин Бриджман и носильщик Тензин. День был в самом разгаре, и мы преодолели только сотню-другую метров, когда стало ясно, что Мэри нехорошо.
– Ты там как, Мэри? – спросил её я.
– Ой, я так устала. Прямо глаза закрываются.
– Ничего, ты не торопись. Мы тут, рядом, – утешил её Джо.
В этот момент Мэри слегка пошатнулась, и Тензин подхватил её. Не успела она пройти и пары шагов, как её стошнило сегодняшним обедом. Дальше она идти не могла. Мы уложили её у тропы, устроив на снаряжении.











