Читать онлайн Социальные науки как колдовство
- Автор: Станислав Андрески
- Жанр: Социология
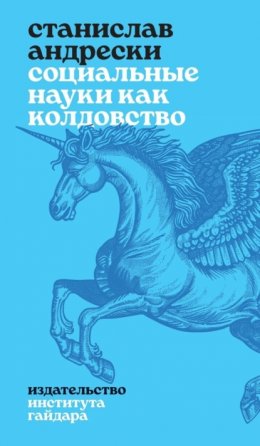
Stanislav Andreski
Social Sciences as Sorcery
Перевод с английского Дмитрия Кралечкина
© Издательство Института Гайдара, 2025
Благодарности
Достоинствами данной книги, как и предыдущих моих работ, я в значительной мере обязан своей жене, чьи готовящиеся к публикации книги о конфликте полов и отношениях матери и ребенка содержат критику актуальной литературы по этому вопросу, которая приводит примерно к тем же выводам, к каким я прихожу в этой книге.
Я благодарен миссис Одри Йетс за работу над гранками, а моим прошлым и настоящим коллегам любого ранга на социологическом факультете Редингского университета – за благожелательность, инициативность и ненавязчивое сотрудничество, позволившие мне остаться мыслителем и писателем, хотя я и исполнял определенную административную функцию.
Итак, существуют четыре главных препятствия для постижения истины, которые препятствуют всякому любителю мудрости и редко позволяют кому-либо обрести славное имя истинного мудреца. Эти [препятствия суть]: 1) пример ненадежного и недостойного авторитета; 2) устойчивость обычая; 3) мнение необразованной толпы; 4) сокрытие собственного невежества под видимостью мудрости.
Роджер Бэкон
Предисловие
Чтобы предупредить все возможные недоразумения, я должен с самого начала специально подчеркнуть, что не обвиняю и даже не подозреваю тех, кого упоминаю в этой книге по имени, в целенаправленном трюкачестве, осознанном распространении ложных сведений, желании получить нечестную прибыль или же добиться карьерного роста путем коррупции. Знаменитому автору понадобился бы совершенно исключительный характер (и, собственно, ему пришлось бы стать сверхчеловеком), чтобы писать много работ с полным сознанием того, что это просто галиматья, а сам он – шарлатан с незаслуженной славой, основанной лишь на глупости и легковерии его обожателей. Даже если на определенном этапе карьеры у него были какие-то сомнения в правильности своего подхода, успех и похвалы вскоре должны были убедить его в его гениальности и эпохальной ценности его измышлений. Когда же вследствие назначения на руководящую должность, позволяющую распределять финансы и рабочие места, он оказывается окружен прихлебателями, жаждущими его расположения, он чаще всего теряет способность осознавать свою мотивацию; подобно богатым и могущественным людям в других сферах жизни, он примет лесть за чистую монету, считая ее искренней оценкой (а потому и подтверждением его успехов).
Циничные шарлатаны встречается не столько среди известных авторов, сколько среди манипуляторов, которые либо совсем ничего не пишут, либо пишут мало, а потому они не привязаны к какой-то определенной идее или подходу и им не важно, какой именно инструмент использовать, чтобы доить организации, распределяющие финансы. Хотя я знаком с парой таких типов, ни один из них не упоминается в книге по имени, поскольку такое упоминание не только предполагало бы бездоказательное приписывание мотива, но и не имело бы в данном случае смысла, ведь моя задача – борьба с ложными идеями, а не составление списка нечистоплотных академических ученых. Но даже людям такого рода сложно придерживаться откровенного цинизма, и обычно в итоге они убеждают себя в ценности того, что делают, поскольку никто не хочет признаться себе в том, что зарабатывает на жизнь недостойными методами. В любом случае наиболее опасные распространители культурных инфекций – это не наглые циники, а сектанты, склонные к самообману, а также робкие функционеры, боящиеся отстать от уходящего поезда, которые спешат приравнять популярность и мирской успех к внутренней ценности.
Поскольку в данной книге я разбираю явления, которые с точки зрения интеллектуального прогресса следует считать нежелательными, ссылки на цитируемые работы обычно носят неодобрительный характер. Но это не означает, будто я считаю, что в них не было ничего ценного. Нельзя, однако, писать обо всем сразу, и эта книга представляет собой скорее памфлет, чем трактат. Многие значимые научные достижения упомянуты в моих предыдущих публикациях, а еще больше – в других книгах, которые я собираюсь написать, особенно если проживу достаточно долго, чтобы создать общий трактат. В этой работе я утверждаю, что значительная часть того, что может сойти за научное исследование человеческого поведения, сводится к своего рода колдовству, но, к счастью, не все им ограничивается.
Глава 1
Зачем гадить там, где ешь?
В количественном отношении социальные науки переживают сегодня невиданное развитие: повсюду гремят конгрессы и конференции, печатные публикации растут как на дрожжах, а число профессионалов увеличивается с такой скоростью, что, если этот рост не остановить, в ближайшие столетия это число будет больше всего населения Земли. Большинство специалистов отзываются об этом росте с воодушевлением, пополняя этот общий поток восторженными обзорами «современного» профессионализма и с готовностью награждая титулом «революции» любые ничтожные шаги вперед… или даже назад, а порой утверждая даже, что они наконец перешли границу, отделяющую их сферу деятельности от точных наук.
Особенно неприятно не только то, что этот поток публикаций на самом деле показывает изобилие претенциозной ерунды, в сочетании с нехваткой действительно новых идей, но и то, что даже старые, но по-настоящему ценные идеи, унаследованные нами от наших знаменитых предшественников, тонут сегодня в потоке бессмысленной болтовни и бесполезных технических тонкостей. Претенциозная, но туманная многословность, бесконечные повторения банальностей и замаскированная пропаганда – вот что сегодня определяет повестку дня, а по меньшей мере 95 % исследований являются на самом деле переисследованиями вещей, обнаруженных давно и неоднократно. В сравнении с ситуацией полувековой давности среднее качество публикаций (не считая тех, в которых рассматриваются методы, а не содержание) в ряде областей в действительности упало.
Столь громкий и общий приговор, естественно, требует доказательств, и большая часть этой книги нацелена именно на то, чтобы их предоставить. Но, возможно, интереснее даже не обосновать его, а объяснить, и это вторая задача, поставленная перед этой книгой, а третья – предположить, как это печальное положение вещей можно если не исправить, то по крайней мере облегчить. Я, в частности, попытаюсь показать, что этот крен в сторону бесплодности и обмана в исследовании реалий человеческой жизни возникает из доминирующих культурных, политических и экономических тенденций нашего времени; а потому данную работу можно отнести к общей, но несколько смутной рубрике «социологии знания», хотя ее содержание точнее описывалось бы выражением «социология незнания».
Поскольку такое начинание неизбежно ведет к вопросу о корыстных интересах и предполагает разоблачение недостойных мотивов, я спешу сообщить, что, как мне прекрасно известно, в логическом отношении argumentum ad hominem действительно ничего не доказывает. Тем не менее в тех вопросах, в которых царит неопределенность, а те или иные сведения признаются истинными на веру, у нас есть полное право попытаться сформировать в читателях позицию более критическую и настороженную, показав, что в исследовании человеческих дел уклончивость и обман, как правило, выгоднее правды.
Если повторить сказанное в предисловии, я не думаю, что argumentum ad hominem, указывающий на наличие корыстных интересов, приложим к мотивам изобретателей мимолетных мод, которые гораздо чаще бывают доктринерами или визионерами, настолько плотно закутанными в кокон собственного воображения, что они просто не могут видеть мир, как он есть. В конце концов, в каждом обществе со всеобщей грамотностью есть люди, пишущие всевозможную чушь. Многие разновидности такой чуши никогда не доходят до печати, а те, что все же преодолевают это препятствие, часто так и остаются непрочитанными, никому не известными или же быстро забываются, другие же, однако, раскручиваются и превозносятся, становясь предметом поклонения. Именно на уровне социального отбора, управляющего распространением идей, вопрос о том, как они служат различным корыстным интересам, становится более осмысленным.
Общая проблема отношения между идеями и интересами – одна из наиболее сложных и фундаментальных. Маркс обосновал весь свой политический анализ предположением о том, что общественные классы придерживаются идеологий, служащих их интересам, но этой теории противоречило, видимо, то, что ни один верующий не признает, что он выбрал свою веру, потому что она полезна ему в борьбе за богатство и власть. Тогда как фрейдовское понятие бессознательного предполагает то, что можно назвать «бессознательной хитростью» – в той форме, которая особенно хорошо применима к политике; та же идея была разработана Альфредом Адлером. Если подобные психические механизмы способны создавать бессознательные уловки и стратегии в индивидуальном поведении, нет причин, по которым они не могли бы действовать на уровне масс. Но какими именно данными мы можем подкрепить обвинения подобного рода? Еще больше эта проблема осложняется убедительной мыслью Парето о том, что правящие классы часто разделяют доктрины, которые ведут их к коллективному упадку и уничтожению. Благодаря механизмам отбора (на которые обратил особое внимание Спенсер), отсеивающим «неприспособленные» схемы организации, обычно выживают лишь те социальные агрегаты, которые взращивают убеждения, укрепляющие их собственную структуру и поддерживающие их способ существования. Однако, поскольку распад и разрушение коллективов самого разного рода и размера – факт столь же очевидный, что и их сохранение в течение длительного времени, позиция Парето (или, если угодно, модель) столь же применима, как и Марксова. Удовлетворительная теория должна объединять в себе все эти обоснованные, но неполные взгляды и в то же время преодолевать их, но в этой книге я не пытаюсь достичь такой теории. В ней я не могу пойти дальше обвинений, опирающихся на косвенные доказательства согласованности между системами идей и коллективными интересами, которые убедительны (или, наоборот, уязвимы для критики) в той же примерно степени, что и обычные марксистские утверждения о связях между содержанием идеологии и классовыми интересами. Главный интеллектуальный недостаток марксистов состоит в этом отношении в том, что, во-первых, они необоснованно ограничивают применимость своего основного понятия только теми группами людей (то есть общественными классами), которые выделил сам Маркс; и во-вторых, что вполне естественно, не собираются применять эту схему интерпретации к самим себе и своим убеждениям.
Каждое ремесло и каждая профессия – не важно, насколько нечистоплотная или даже попросту преступная – придерживаются принципа «ворон ворону глаз не выклюет». Древние и закрытые профессии – такие, как право и медицина – превозносят это правило настолько, что оно приобретает в них облик фундаментального положения этики. Учителя также подвергают остракизму тех, кто открыто критикует коллег и подрывает их авторитет в глазах учеников.
Как и у всех остальных человеческих установлений, у этого обычая есть как хорошие, так и дурные стороны. Если бы не такой обычай, было бы сложно поддерживать дружественные отношения, необходимые для плодотворного сотрудничества, – например, в цеху, в операционной или же в совете директоров. Если люди будут постоянно подначивать друг друга и пускаться во взаимные обвинения, их жизнь превратится в сплошные страдания, а их труды будут обречены на провал. Поскольку спокойствие пациента и его шансы на выздоровление в значительной степени зависят от его веры во врача, которая, в свою очередь, зависит как от личной репутации последнего, так и от статуса врачебной профессии в целом, эффективность лечения значительно пострадала бы в том случае, если бы медицинские работники взяли себе в привычку постоянно друг друга поносить. Подобным образом и учителя, подрывающие авторитет других учителей в глазах учеников, в конечном счете вообще никого учить не смогут, особенно учитывая, что подростки обычно склонны к неподчинению и лишь немногие из них сами хотят учиться.
С другой стороны, трудно сомневаться в том, что сила принципа «ворон ворону глаз не выклюет» обосновывается не альтруистической заботой о плодотворности труда – разве что в той мере, в какой она упрощает жизнь, – а поиском коллективной выгоды, которая может заключаться как в деньгах, так и в почете. Врачебная профессия, строго-настрого следящая за собственной профессиональной солидарностью, не только добилась благосостояния, которое во многих странах совершенно не соответствует ее уровню навыков, – не говоря уже о весьма выгодной защищенности от наказания за некомпетентность и халатность, – но также смогла обеспечить своих представителей весомым психологическим преимуществом, заключающимся в возможности изображать Господа Бога, невзирая на множество пробелов в знаниях и промахи в понимании. Конечно, представители врачебной профессии пользуются особенно выгодным положением, поскольку имеют дело с людьми, когда те наиболее слабы, то есть когда они испуганы и нуждаются в утешении, оказавшись в положении пациентов, – причем само слово «пациент» («терпящий») очень хорошо объясняет, почему во многих государственных больницах (по крайней мере в Британии) центральный вход предназначен для медицинского персонала, в то время как больные должны пробираться в здание через заднюю дверь. Юристы также смогли повысить престиж своей профессии и увеличить доход, составляя свои документы на необоснованно громоздком и витиеватом языке, чтобы простой смертный ничего не понял и вынужден был обратиться за дорогостоящей юридической консультацией.
Среди поставщиков услуг, непосредственно полезных потребителям, обычай воздерживаться от взаимной критики всего лишь защищает от ответственности за халатность и в то же время служит опорой для монополистических прибылей; но когда его придерживается профессия, которая оправдывает свое существование тем, что она посвятила себя поискам общих истин, соблюдение принципа «ворон ворону глаз не выклюет» обычно сводится к паразитическому и мошенническому сговору.
Бизнесменам, не стесняющимся признать то, что их основная цель – это получение прибыли, и чья профессиональная этика состоит из очень небольшого числа моральных запретов, к мистификации приходится прибегать гораздо реже, чем тем, кто зарабатывает на хлеб профессией, нацеленной на отстаивание высоких идеалов; и чем выше эти идеалы, тем сложнее соответствовать им и тем сильнее искушение лицемерия (а также область его применения). Честность – лучший выбор для поставщика в тех случаях, когда клиент знает, чего он хочет, и может судить о качестве полученного товара, за который он платит из собственного кармана. Большинство людей способны судить о качестве башмаков или ножниц, а потому никто не сделал себе состояния на производстве башмаков, которые бы тут же разваливались, или же ножниц, не способных резать. С другой стороны, в строительстве дефекты построенного дома или материалов могут оставаться скрытыми намного дольше, а потом халтура в этой отрасли часто действительно прибыльна. Достоинства же лечения, если взять другой пример, оценить непросто, и именно по этой причине медицинская практика столетиями была связана с шарлатанством, от которого она не освободилась в полной мере и сегодня. Тем не менее как бы сложно ни было оценить услуги врача или юриста, они определенно удовлетворяют вполне конкретным нуждам. Но какие именно услуги оказывает философ или исследователь общества и кому именно? Кому вообще важно, стоят они чего-то или нет? И могут ли те, кому это и правда важно, оценить их качество? А если и могут, они ли определяют вознаграждение за услуги и они ли несут издержки?
Сомнения в ценности их услуг редко возникают у тех, кто их предоставляет; а если такие сомнения и появляются, их поспешно устраняют ссылками на профессиональные стандарты, которые могут якобы гарантировать добросовестность и прогресс. Но если взглянуть на этот вопрос реалистически, нет особых причин считать, что все профессии по своей природе тяготеют к честному служению, а не к монополистической эксплуатации или же паразитизму. В реальности все зависит от того, какое именно поведение ведет к богатству и высокому статусу (или, говоря иначе, от связи между истинной заслугой и вознаграждением). Анализ различных форм труда с этой точки зрения может стать программой, полезной для социологии профессий и способной поднять ее над ее нынешним уровнем сухой каталогизации. Социальные науки, если смотреть на них с этой точки зрения, представляются деятельностью, лишенной каких-либо внутренних механизмов воздаяния, а потому любому в них может сойти с рук что угодно.
Критика господствующих тенденций и людей, стоящих наверху, может оказаться выгодной, если она осуществляется при поддержке влиятельной группы давления – скажем, пятой колонны, финансируемой из-за рубежа. Однако, к сожалению, контуры истины никогда не совпадают с границами между партиями и кликами. Поэтому свободный мыслитель может считать, что ему повезло, если он живет в ситуации, в которой им разве что пренебрегают, но не бросают в тюрьму и не называют «свиньей, которая гадит там же, где ест», если воспользоваться ярким эпитетом, которым глава КГБ Владимир Семичастный наградил Бориса Пастернака[1].
В полезности увещеваний можно серьезно усомниться, поскольку, несмотря на столетия порицания воровства и мошенничества, сегодня эти преступления, судя по всему, не менее распространены, чем во времена Иисуса Христа. С другой стороны, трудно понять, как вообще какие-либо стандарты могут сохраниться, если некоторые люди не возьмут на себя обязательство утверждать эти стандарты и обличать порок.
Поскольку можно потратить всю жизнь и написать целую энциклопедию, пытаясь изобличить все глупые предрассудки, которые выдаются за научное исследование человеческого поведения, я ограничился несколькими значимыми примерами. Так или иначе, разрушить идолы псевдонауки – задача относительно простая, в то время как гораздо интереснее и важнее – объяснить, почему они получили столь широкое распространение, заметное и сегодня.
Я не думаю, что мой трубный глас сокрушит стены псевдонауки, на которых стоит слишком много крепких защитников – рабов рутины, которые (пользуясь выражением Бертрана Рассела) «скорее умрут, чем начнут думать», продажных дельцов, покорных работников образовательной сферы, которые судят об идее по статусу ее сторонников, а также мягкошерстных потерянных душ, которые жаждут найти гуру. Тем не менее, несмотря на ту развитую стадию оболванивания, которой наша цивилизация достигла под влиянием массмедиа, все еще находятся люди, которые предпочитают пользоваться собственными мозгами, не ориентируясь на блеск материальной выгоды; и именно им адресована эта книга. Но если они в меньшинстве, как же может воцариться истина? Ответ (дающий определенный повод для надежды) заключается в том, что людей, заинтересованных идеями и готовых обдумывать их и высказывать, невзирая на личные неудобства, всегда было мало; и если бы знание не могло развиться без большинства, отстаивающего истину, тогда прогресса не было бы вовсе, поскольку попасть под свет софитов да и заработать денег путем шарлатанства, доктринерства, низкопоклонства, а также убаюкивающих или, наоборот, зажигательных речей всегда было проще, чем за счет логического и бесстрашного мышления. Нет, причина, по которой разум человека сумел в прошлом сделать некоторые шаги вперед и, возможно, еще сможет сделать их в будущем, в том, что истинные прозрения накапливаются постепенно, сохраняя свою ценность независимо от того, что случилось с первооткрывателями; тогда как модные поветрия и сенсации, может, и приносят прямую прибыль своим импресарио, однако в долгосрочной перспективе никуда привести не могут – они лишь гасят друг друга и уходят в небытие, как только их агенты сходят со сцены (или теряют власть) и более не могут руководить шоу. Так или иначе, не будем отчаиваться.
Глава 2
Дилемма колдуна
Большинство интеллектуальных проблем, отягощающих исследование общества (их следует отличать от препятствий, создаваемых страстями и корыстными интересами), проистекают из огромного различия в величине, продолжительности жизни и силе между предметом исследования и собственно исследователем. Конечно, геологи и астрономы изучают предметы, которые еще больше, еще долговечнее и даже еще менее доступны для эксперимента; однако они по крайней мере проще, поскольку в известном нам космосе нет ничего, что по сложности могло бы сравниться с человеческим мозгом. Понимание иногда описывают как создание модели внешней реальности в нашем мозгу. Такое описание не следует понимать чересчур буквально; но, если мы полагаем, что у теоретического понимания должна быть какая-то физиологическая основа, и если мы помним о том, что число конфигураций нейронов и синапсов конечно, хотя и астрономически велико, из этого следует, что, хотя разум, возможно, способен создать совершенную модель вещей, которые проще него, его способность строить модели объектов, которые столь же сложны или даже еще сложнее, видимо, серьезно ограничена. Поэтому представляется невозможным достичь в нашем понимании других разумов и их агрегатов той же степени точности, что и в физике или химии, где она стала возможной благодаря простоте и неизменности предметов этих наук.
Рассуждая в этом русле, мы можем также сделать вывод о том, что, по логике, никто не может достичь понимания своего собственного разума, которое позволило бы ему делать точные предсказания о его будущих состояниях; дело в том, что, не говоря даже о проблематичности знания о будущих воздействиях окружающей среды, разум в этом случае должен был бы содержать в себе столь же сложную модель, как и он сам, а также активную силу, позволяющую делать выводы. Другими словами, такая способность потребовала бы, чтобы часть совпадала с целым и в то же время оставалась лишь частью.
Другой источник огромных затруднений в создании обобщений, описывающих сети человеческих отношений (известных как группы, общества, государства, экономики и т. д.), – это их всеобщая текучесть и подвижность. В своей работе «Азбука теории относительности» Бертран Рассел обсуждает отношение между постоянством феноменов и возможностью построения научных теорий:
Условия, сложившиеся на поверхности земли по более или менее случайным причинам, подсказывают нам концепции, которые являются на самом деле неточными, хотя они и стали казаться логически необходимыми. Наиболее важное из этих условий состоит в том, что большинство предметов на поверхности земли являются довольно устойчивыми и почти неподвижными, если смотреть с точки зрения земли. Если бы это было не так, само представление о путешествии не казалось бы столь же определенным, как сегодня. Если вы хотите проехаться от Кингс-Кросса до Эдинбурга, вам известно, что вы обнаружите Кингс-Кросс именно там, где он был всегда, что железная дорога пойдет в том же направлении, что и в тот последний раз, когда вы по ней ездили, и что вокзал Уэверли в Эдинбурге не уйдет в Эдинбургский замок. Поэтому вы говорите и думаете, что это вы ездили в Эдинбург, а не Эдинбург ездил к вам, хотя последнее утверждение столь же точно, что и первое. Успех этой общепринятой точки зрения зависит от ряда вещей, являющихся на самом деле следствием случайности. Предположим, что все дома в Лондоне находились бы в постоянном движении подобно рою пчел; предположим, что железнодорожные пути перемещались бы и меняли направление подобно лавинам; наконец, предположим, что материальные объекты постоянно образовывались бы и распадались подобно облакам. Во всех этих предположениях нет ничего невозможного. Однако, очевидно, то, что мы называем поездкой в Эдинбург, в таком мире больше не имело бы никакого смысла. Для начала вам пришлось бы, несомненно, спросить таксиста: «Где сегодня утром Кингс-Кросс?» А на вокзале вам нужно было бы задать схожий вопрос об Эдинбурге, однако кассир ответил бы вам: «Какую часть Эдинбурга вы имеете в виду, сэр? Принсес-стрит ушла в Глазго, за́мок переместился на нагорье, а вокзал Уэверли теперь под водой посередине Фёрт-оф-Форт». Да и во время поездки вокзалы не стояли бы на месте – одни двигались бы на север, другие – на юг, третьи – на восток, четвертые – на запад, какие-то, возможно, даже быстрее поезда. При таких условиях вы не могли бы сказать, где именно вы находитесь в тот или иной момент времени. В действительности само представление о том, что человек всегда находится в некотором определенном «месте», обусловлено удачной неподвижностью большинства крупных объектов, расположенных на поверхности земли. То есть сама идея «места» является всего лишь грубым приближением, полезным на практике: в ней нет ничего логически необходимого, и ее нельзя сформулировать в точном виде.
Если бы мы были по размерам не больше электрона, у нас не было бы впечатления стабильности, которая обусловлена исключительно грубостью наших органов чувств. Кингс-Кросс, представляющийся нам столь прочным, был бы слишком большим, чтобы его вообще мог кто-либо постичь, не считая немногих эксцентричных математиков. Те его фрагменты, которые мы могли бы видеть, состояли бы из мельчайших точек материи, которые никогда не соприкасаются друг с другом, но постоянно носятся друг вокруг друга в непостижимо быстрой балетной партии. Мир нашего опыта был бы столь же безумным, что и мир, в котором разные части Эдинбурга гуляют в разных направлениях. Если же – возьмем прямо противоположный пример – вы были бы величиной с Солнце и жили бы столь же долго, с соответствующей медлительностью восприятия, вы опять же обнаружили бы беспорядочный универсум безо всякого постоянства – звезды и планеты появлялись бы и исчезали подобно утреннему туману, и ничто не сохранялось бы в постоянном положении относительно чего бы то ни было другого. Представление об относительной стабильности, образующее основу нашего повседневного взгляда на вещи, обусловлено, таким образом, тем, что мы именно такого размера, а не другого, и что мы живем на планете, поверхность которой не слишком горяча. Если бы это было не так, мы, вероятно, не сочли бы дорелятивистскую физику в интеллектуальном плане удовлетворительной. Собственно, мы бы, вероятно, никогда бы и не изобрели таких теорий. Нам пришлось бы сразу, одним прыжком, дойти до релятивистской физики или же остаться в полном неведении о существовании научных законов. Нам повезло, что эта альтернатива нас миновала, поскольку почти невозможно представить, как один человек мог бы выполнить труд Евклида, Галилея, Ньютона и Эйнштейна. Однако без такого невероятного гения физику вообще вряд ли бы открыли в мире, в котором очевидностью ненаучного наблюдения была бы всеобщая текучесть[2].
Вышеприведенный отрывок прекрасно иллюстрирует то, с чем нам приходится иметь дело при изучении общества и культуры, поскольку он указывает на чисто интеллектуальные сложности такого предприятия и объясняет, насколько проще физика, химия и даже биология. Но и это еще не все: представьте только, насколько печальна была бы участь ученого-естественника, если бы объекты его исследования взяли себе в привычку реагировать на то, что он о них говорит, то есть если бы вещества могли прочесть или услышать то, что химик пишет или говорит о них, и изготовились выпрыгнуть из своих контейнеров и сжечь его, как только им не понравится то, что они увидели на его доске или в блокноте. Представьте трудности проверки химических формул, которые возникли бы в том случае, если бы химик, повторяя их достаточно долго и достаточно убедительным тоном, мог заставить вещества подчиниться этим формулам – но с тем именно риском, что они могут и досадить ему, действуя наперекор. В подобных обстоятельствах наш химик не только испытывал бы значительные трудности в попытке выявить устойчивые закономерности в поведении своих объектов, но и вынужден был бы тщательно выбирать слова, иначе вещества могли бы обидеться и напасть на него. Его задача стала бы еще более безнадежной, если бы химические вещества смогли понять его тактику, организоваться для защиты своих интересов и разработать контрмеры, препятствующие его маневрам, – и все это прямо соответствовало бы тому, с чем приходится сталкиваться исследователю человеческих дел и поступков.
С другой стороны, нам нет нужды излишне осложнять себе задачу, ставя ее в зависимость от учения о всеобщем детерминизме и в особенности от предположения, что человеческое поведение можно изучать научным путем (то есть с целью обнаружения в нем закономерностей) только в том случае, если никакой свободы воли не существует[3].
Нет причин отрицать существование феноменов, известных нам только благодаря интроспекции; некоторые философы указали на невозможность выполнения программы Карнапа (принимаемой бихевиористами за догму), то есть перевода всех утверждений о психических состояниях на «физикалистский язык», как он его называет. Я бы пошел еще дальше и сказал, что и физику невозможно выразить на одном только физикалистском языке, поскольку она является эмпирической наукой только в той мере, в какой включает в себя утверждение о том, что ее теории подтверждаются данными чувств; но мы не можем приписать последнему термину, то есть чувствам, какой-либо смысл, не предполагая при этом понятия субъекта. Если попросить физика рассказать, как он проверил такую-то гипотезу, он скажет: «Я сделал то-то и то-то; и я увидел то-то и то-то…» Если вы ему не верите, он пригласит вас принять участие в эксперименте, и вы можете затем сказать: «Да, я тоже вижу… вот это двигается сюда и сюда… я вижу теперь вот этот цвет, линию или что там у вас». Следовательно, вы не можете представить отчет об эмпирических основаниях физики, не услышав и не высказав местоимение «я». Но какой именно смысл вы можете приписать этому слову, если не использовать знание, полученное благодаря интроспекции, и если не постулировать наличие других разумов, процессы в которых похожи на те, что в наблюдении доступны только вам одному?
Чтобы добиться прогресса в понимании общества, нет необходимости соглашаться даже и с аргументами в пользу остаточной неопределенности человеческих действий. На самом деле пока есть все основания воздержаться от суждения по этому вопросу, поскольку ни детерминизм, ни индетерминизм нельзя проверить в качестве онтологических принципов, а потому они должны оставаться положениями метафизической веры. Детерминизм можно было бы доказать только в том случае, если бы была достоверно доказана последняя причина последнего, ранее не объясненного события; индетерминизм же можно было бы доказать только когда, если бы можно было безо всякой тени сомнения сказать, что этого никогда не случится. Иначе говоря, чтобы доказать детерминизм, нам пришлось бы показать то, что однажды знание неизбежно станет полным; и хотя невозможно доказать, что этого не произошло или не произойдет в божественном разуме, для смертных достижение такого знания представляется совершенно невероятным. Кроме того, можно утверждать, что полная предсказуемость внутренне невозможна в случае системы, частью которой является сам наблюдатель-предсказатель, ведь его действия (в том числе и его предсказания) влияют на другие события. Поскольку тогда его предсказания должны составлять часть причинно-следственных цепочек, возникающих в системе, он мог бы делать предсказания только в том случае, если бы мог предсказывать также и свои предсказания, что было бы возможным только тогда, когда он мог бы предсказывать свои предсказания предсказаний… и так далее до бесконечности.
К счастью, для наших исследований нам не нужно принимать учение о всеобщем детерминизме. Достаточно предположить, что многие явления поддаются причинно-следственному объяснению, что не все возможные причинные объяснения известны и что можно открыть новые. Этого достаточно для оправдания научного предприятия как такового, однако в качестве логически непротиворечивого метафизического взгляда индетерминизм можно переформулировать в качестве представления (которое я лично также разделяю) о том, что смертные никогда не достигнут стадии, на которой их знания станут совершенно полными и больше будет нечего открывать.
Теперь позвольте мне сказать несколько слов о часто задаваемом вопросе, является ли какая-либо из «социальных наук» «настоящей» наукой. И, как часто бывает в подобных спорах, аргументы и «за» и «против» упускают одну очевидную истину, а именно то, что ответ на этот вопрос зависит от того, что мы имеем в виду под наукой. Если мы имеем в виду такую точную науку, как физика или химия, тогда экономика, психология и социология, как и любое другое исследование человеческого поведения, науками не являются. Если же мы признаем, что этим почетным титулом можно наградить любое систематическое исследование, направленное на тщательные описания, содержательные объяснения и обобщения, опирающиеся на факты, тогда можно сказать, что вышеупомянутые отрасли исследований действительно являются науками, хотя обоснованность такого именования будет зависеть от того, чем именно мы его оправдываем – устремлениями или реальной деятельностью, высокими достижениями или же средними. Так или иначе, вербальную природу этого спора можно доказать, переведя его на другой язык, поскольку он попросту исчезнет, если сформулировать его на немецком, русском или польском, и значительно утихнет на французском или испанском. В Британии же он сопровождался известной горячностью лишь по причине характерного для нее довольно жесткого разделения на «искусства» и «науки» в английских школах; а также потому, что он неплохо служит для игры, в которой одни пытаются получить статус, а другие в нем отказывают.
Если мы не считаем всеобщий детерминизм необходимым основанием исследования человеческого поведения, мы не должны противиться идее личной ответственности. Многие психологи критикуют правосудие, основанное на представлении о свободе воли и ответственности, не понимая при этом, что детерминизм, если он действительно верен, применим к любому: если преступник не может избежать совершения преступления, то и судья не может не вынести ему приговор, а палач не может не четвертовать его. Если только не признать того, что индивиды могут принимать решения и отвечать по крайней мере за некоторые из своих деяний, нет причин, по которым мы должны были бы считать то или иное действие хорошим или дурным или же стараться не причинять вред другим людям; и точно так же любые моральные увещевания становятся тогда бессмысленными[4].
Учение о психологическом детерминизме, понимаемое в качестве доказательства несуществования ответственности, снимает вину с деятелей апартеида и с полицейских, занимавшихся пытками в Бразилии, а также с малолетних преступников, но на практике этот аргумент применяется весьма избирательно, в соответствии с предпочтениями «ученого», в которых отражаются его давно сложившиеся симпатии и антипатии, в том числе и подавленные. Все это в значительной степени сводится к тому, что психологи, социологи и особенно психиатры играют в Господа Бога, заимствуя свой престиж у наук, чтобы навязать обществу свои, часто довольно грубые, моральные понятия. Как я попытаюсь показать в этой книге, обличение понятия ответственности, основанное на недоказанной догме психологического детерминизма, во многом способствовало подрыву основ нашей цивилизации.
Эти методологические затруднения, хотя и пугающие, представляются тривиальными в сравнении с фундаментальными препятствиями развитию точной науки об обществе, которые ставят ее в совершенно иное положение по сравнению с естественными науками: речь о том факте, что люди реагируют на сказанное о них. «Эксперт» по человеческому поведению напоминает колдуна, своими заклинаниями способного накликать урожай или дождь в большей мере, чем его коллеги, занимающиеся естественными науками. А поскольку факты, с которыми он имеет дело, верифицировать удается редко, его клиенты могут попросить его говорить им то, что им хочется слышать, и накажут несговорчивого заклинателя, который упорно говорит то, что они предпочли бы не знать – подобно тому, как монархи некогда наказывали придворных врачей, если те не могли их вылечить. Кроме того, когда люди хотят достичь своих целей, влияя на других, они всегда будут пытаться завлечь, запугать или же подкупить колдуна, дабы он применил свои способности им на пользу и прочитал нужное заклинание… или по крайней мере рассказал им нечто приятное. И почему он вообще должен сопротивляться угрозам или искушениям, если в его дисциплине доказать или опровергнуть что-либо настолько сложно, что он может безнаказанно поступать так, как ему захочется, учитывая приязни или неприязни своих слушателей или даже просто сознательно торгуя враньем. Его дилемма проистекает, однако, из того, что в какой-то момент ему будет сложно вернуться обратно; ведь вскоре он пройдет точку невозврата, после которой крайне болезненно признаваться себе в том, что он потратил годы на погоню за химерами, не говоря уже о том, что он воспользовался доверчивостью публики. Тогда, чтобы успокоить гложущие его сомнения, тревогу и чувство вины, он должен будет выбрать линию наименьшего сопротивления, плетя еще больше значительно более сложных сетей вымысла и лжи, на словах при этом еще сильнее заявляя о своей решительной приверженности идеалам объективности и истины.
Если посмотреть на практические следствия умножения числа специалистов по социальным наукам, мы найдем больше сходств с ролью колдунов в первобытном племени, чем с той ролью, которую представители естественных наук и технологи играют в промышленном обществе. Позже мы исследуем все странные особенности политологов и создателей социологических систем, однако в целом они уклоняются от прагматического испытания, поскольку сложно найти примеры важных общественно-политических решений, которые были бы основаны на их рекомендациях. Та их разновидность, что, вероятно, оказала наиболее глубокое влияние на человеческое поведение, – это психологи и семейные социологи, которые, в общем-то, добились, особенно в Америке, того, что навязали обществу свои взгляды на природу человека, а потому и существенно повлияли на поведение своих клиентов.
Психология, если понимать ее прямо, – это, пожалуй, самая сложная из всех наук, будь то естественных или социальных, поскольку в ней человек пытается вытащить самого себя за волосы, используя разум для понимания разума; и, соответственно, серьезные открытия в ней случаются редко, причем они всегда остаются приблизительными и предварительными. Однако большинство психологов не любят признавать это, предпочитая делать вид, что они говорят с авторитетностью точной науки, являющейся не только теоретической, но и прикладной. Чтобы исследовать обоснованность подобных утверждений, я хотел бы предложить простой, грубый и уже известный критерий.
Когда определенная профессия предоставляет услуги, основанные на хорошо обоснованном знании, мы можем обнаружить выраженную положительную связь между числом специалистов (относительно численности населения) и достигнутыми результатами. Так, в стране, где много специалистов по телекоммуникациям, телефонная связь в обычном случае будет лучше, чем в стране, в которой таких специалистов мало. Уровень смертности должен быть ниже в странах или регионах, где больше врачей и медсестер, чем в местах, где их не слишком много. Бухгалтерия обычно ведется лучше в тех странах, где много профессиональных бухгалтеров, чем там, где они в дефиците. Мы могли бы привести много примеров, однако сказанного уже достаточно для прояснения этой мысли.
Теперь посмотрим, какую же пользу принесли социология и психология. Конечно, можно утверждать, что это чисто спекулятивные отрасли исследований, которые пока не имеют никакого практического применения, что само по себе могло бы стать непротиворечивой, хотя и не слишком популярной точкой зрения, которая, однако, подняла бы вопрос о том, стоит ли столь многим людям со скромными умственными способностями заниматься столь пространными теоретическими построениями. Таким образом, чтобы исследовать обоснованность утверждения о том, что все это в высшей степени полезные отрасли знаний, спросим сначала о том, в чем именно должен заключаться их вклад в благосостояние человечества. Если судить по учебникам и учебным курсам, практическая полезность психологии заключается в том, что она должна помочь людям найти свою нишу в обществе, безболезненно приспособиться к нему и начать жить в довольстве и гармонии со своими близкими. Таким образом, в странах, регионах, институтах или секторах с широким применением услуг психологов семьи должны быть устойчивее, узы между супругами, родственниками, родителями и детьми – прочнее и теплее, отношения между коллегами – гармоничнее, обращение с получателями социальных пособий – лучше, а вандалов, преступников и наркоманов там должно быть меньше, чем в местах или группах, которые не пользуются услугами психологов. На этом основании мы должны сделать вывод, что благословенной страной гармонии и мира являются, безусловно, США, причем в последнюю четверть века все больше и больше, соответственно росту числа социологов, психологов и политологов. Могут возразить, что этот аргумент неверен, то есть причинно-следственная связь имеет прямо противоположное направление: рост наркомании, преступности, разводов, расовых бунтов и других социальных бед создает спрос на большее число целителей. Возможно, это и правда так; однако, даже если согласиться с этим взглядом, приток терапевтов все равно не принес никаких улучшений. Тогда как ускорение роста их числа непосредственно перед резким подъемом кривых преступности и наркомании может указывать на то, что они, возможно, усугубляют эти болезни, а не лечат их. На это же указывают и некоторые другие малозаметные признаки.
Позвольте задать следующий вопрос: какая сфера деятельности в США наименее эффективна? И в какой занято больше всего психологов и социологов? Ответ прост: в образовании. Но в какой области качество продукта падало быстрее всего, хотя число психологов и социологов быстрее всего росло? Ответ все тот же: в сфере образования. Если же сравнить состояние американского образования не с другими секторами общества, а с образованием в других странах, мы получим схожий результат. Где, собственно, учебные заведения нанимают больше (пропорционально общей численности населения) психологов, социологов и их всевозможных гибридов? Вопрос риторический – в Америке. Тем не менее, если оценивать по объему преподанных знаний (а не по числу выданных дипломов) относительно затраченных средств, тогда американские учебные заведения, безусловно, самые неэффективные в мире, не исключая даже беднейших стран Африки и Латинской Америки. Я не думаю, что где бы то ни было еще в мире вы можете найти студентов, посещавших учебное заведение по крайней мере 12 лет, но при этом с трудом читающих, что не редкость в американских университетах. Более того, учебные заведения становились все хуже, когда число работников социологии, психологии и образования росло[5]. Возможно, все это просто совпадение. Однако ни в одной другой стране вы не можете стать профессором престижного университета, не научившись сначала правильно писать. И я говорю не об иностранцах или тех, у кого другой родной язык, но о мужчинах и женщинах, не знающих иного языка, кроме американского английского, но все равно нарушающих правила английской грамматики и применяющих слова, не обращая никакого внимания на словарь Уэбстера. В каких же дисциплинах их особенно много? Безусловно, в социологии, психологии и образовании; а сегодня все больше и в антропологии, политологии и даже истории, поскольку эти дисциплины тоже становятся «научнее». Поэтому, возможно, не будет большой натяжкой сказать, что падение качества образования, вероятно, как-то связано с распространением социальных наук – конечно, не в силу какой-либо логической необходимости, но именно из-за характера, приобретенного этими дисциплинами.
Все эти тенденции не ограничиваются США, и в других странах также наблюдается падение стандартов литературного высказывания, коррелирующее с распространением социальных наук. Возможно, здесь стоит отметить, что тест на словарный запас, который проходили студенты в Англии, показал, что студенты, изучающие социальные науки, имеют более ограниченный вокабуляр, чем остальные студенты, включая инженеров и физиков, которые работают не со словами, а с математическими символами. В результате мы видим людей, которые разглагольствуют о великих проблемах коллективной жизни, возникших в ходе развития нашей цивилизации, и в то же время эти люди не научились правильно писать на родном языке.
Даже крупный бизнес становился менее эффективным с увеличением числа нанимаемых социологов и психологов, что, конечно, не доказывает, что они и есть причина ухудшения ситуации, но все же ставит их пользу под определенное сомнение. Есть, однако, одно особое применение, которое можно найти для психолога (по крайней мере психоаналитического направления): в некоторых учреждениях, когда рабочий начинает слишком много требовать, его можно направить к психологу, который откопает у него всевозможные инсцестуозные и гомосексуальные желания и тем настолько напугает бедного рабочего, что тот забудет о нужной ему надбавке.
Во Франции недавнему развалу системы образования предшествовал быстрый рост числа социологов и психологов, а в некоторых других странах наблюдалась, судя по всему, положительная, хотя и грубая корреляция между ростом числа семейных консультантов и детских психологов, с одной стороны, и уровнем разводов и наркомании – с другой. Конечно, не считая возможности чистого совпадения, такая связь может на самом деле означать, что обострение социальных проблем повысило спрос на услуги подобных экспертов, что и привело к росту их числа. Но в любом случае можно сделать вывод: все эти эксперты помочь не смогли; и нельзя исключать того, что своей неправильной терапией они даже ухудшили ситуацию. Если мы видим, как по прибытии пожарной бригады пламя становится ярче, можно задаться резонным вопросом: чем же они его поливают – может, маслом?
В вопросах образования, личных отношений, воспитания детей, отношения к браку или дружбе влияние психологии и психологической социологии было весьма значительным, особенно в Америке, которая, судя по всему, находится под властью фрейдизма в той же мере, что и Россия – под властью марксизма, хотя это и не означает, что основатели этих течений одобрили бы то, что от их имени делается в каждой из этих двух стран, особенно учитывая тот исторический факт, что Маркс ненавидел Россию, а Фрейд презирал Америку. Вряд ли последователи Маркса следовали его учению в решении важных общественно-политических вопросов после захвата власти, а в капиталистических странах с политологами или антропологами, возможно, консультировались как с носителями конкретных знаний о далеких странах, однако мне неизвестны случаи, когда бы на те или иные важные решения повлияли выводы, сделанные исходя из социологических или политических теорий… что, возможно, и к лучшему. Поэтому мы вряд ли можем винить политологов или макросоциологов в том, что они сыграли активную роль в современных общемировых бедах; однако для того, чтобы оценить их пользу для человечества, мы должны взглянуть на то, что они пытались сделать. Они заслуживают определенного уважения, если мы можем найти примеры советов или предсказаний, которые, возможно, не были учтены людьми, принимающими решения, но при этом получили общее признание в рамках их профессии и которые, если судить в ретроспективе, могли бы считаться правильными или по крайней мере более правильными, чем мнение людей непосвященных. Лично я не думаю, что примеры такого рода существуют, но, если они кому-то известны, я был бы счастлив о них услышать.
Конечно, есть отдельные мыслители, которые делали удивительно проницательные предсказания. Как можно понять из недавно изданных сборников статей Парето и Моски, в начале XX века они предсказали (видимо, независимо друг от друга), причем с достаточными подробностями, что будет представлять собой система, которая возникнет при осуществлении марксистской программы, хотя ни один из них не сказал, что такая система и правда будет создана. То есть это были весьма смелые утверждения, которые, хотя они и не являлись строгими выводами из теорий этих авторов, тем не менее были достаточно тесно связаны с ними. Примерно в то же время Макс Вебер сделал более пространное, хотя и менее детальное предсказание, заявив о победе бюрократии над капитализмом в западном мире. Маркс, будучи не только ученым, но и пророком, высказал много пророчеств, которые не сбылись, однако он, безусловно, был прав в том, что касается движения к концентрации контроля над производством. Токвиль же, вообще не склонный к мессианству, к пророчествам относился с гораздо большей осторожностью, чем указанные авторы, но при этом оказался лучшим пророком, чем любой из них, поскольку он вряд ли сделал хоть одно предсказание, оказавшееся совершенно ложным. Однако все эти примеры, к которым можно было бы добавить и некоторые другие, представляют собой, по сути, исключительные подвиги воображения и проницательности, ставшие возможными, конечно, благодаря глубокому пониманию природы человеческого общества, но не основанные на каком-либо общепризнанном корпусе знаний.
Если посмотреть на представления, широко распространенные в среде специалистов по социальным наукам, мы увидим, что в них очень мало того, что может объясняться более глубоким профессиональным пониманием; и, если не считать отдельных обрывков информации о фактах, они следовали и продолжают следовать за общепринятыми интеллектуальными модами: они придерживались ура-патриотизма в начале Первой мировой, пацифизма в 1920-е годы, стали леваками в 1930-е, превозносили конец идеологии в 1950-е, наконец, увлеклись культурой молодежи и пополнили ряды новых левых к концу 1960-х. Конечно, во многих ситуациях специалисты по социальным наукам разделились в своих мнениях по серьезным проблемам современности, но в целом по тем же линиям, что и лавочники или конторские служащие… и это говорит о том, что их якобы профессиональные знания вряд ли вообще что-то значили. В целом их специальные знания не влекут значительного расхождения с господствующим мнением их класса, которым является, разумеется, не буржуазия, а класс дипломированных специалистов.
Тот факт, что профессиональные исследователи общества, экономики и политики продолжают относить себя и своих коллег к левым или правым, сам по себе показывает, что их категории не сложнее и утонченнее, чем категории первого встречного. Представьте, какой наукой была бы зоология или кристаллография, если бы в ней все сводилось к одному параметру, классификации предметов по какому-то одному качеству, например их размеру, прозрачности или непрозрачности, гладкости или грубости. На самом деле с этим еще можно было бы смириться, поскольку эти качества все же существуют и образуют определенный континуум, но никому еще не удалось точно определить левых и правых, и люди продолжают спорить о том, кто из них левый, а кто правый. Подобно униформам и флагам, такие примитивные ярлыки (например, синие против зеленых в Византии или же пуритане против роялистов) нужны для организации толп, чтобы те знали, с кем драться; но что это за наука, если она предполагает, будто все установки по всем вопросам можно упорядочить по одному параметру… а потом не может решить, где именно расположить их на ей же выбранной шкале?
Когда возникает некое подобие единодушия, оно по своей природе ближе к солидарности группы влияния, чем к консенсусу, основанному на практически неопровержимой верификации. Например, разглагольствования о конце идеологии начались благодаря той манне небесной, которой американских интеллектуалов и их вассалов стали осыпать фонды, а не по каким-то иным причинам, которые можно было бы счесть научными. Самый простой путь – не задумываться об истине и говорить людям только то, что они хотят услышать, в то время как секрет успеха состоит в том, чтобы угадать, что именно они желают услышать в данное время и в данном месте. Специалист по социальным наукам, обладающий весьма приблизительными и неточными, в основном случайными и ориентировочными знаниями и при этом способный все же оказывать значительное влияние своими высказываниями, нередко напоминает колдуна, который говорит с прицелом на следствия, которые могут произвести его слова, а не на их фактическую верность; потому-то он изобретает небылицы, подкрепляющие то, что он говорит, и оправдывающие его положение в обществе.
Глава 3
Манипуляция путем описания
Самоисполняющееся пророчество – лишь одно (и причем относительно узкое) проявление намного более общей склонности людей попадать под влияние сказанного о них и об их окружении. На индивидуальном уровне всем известно, что один человек может внушить другому недовольство, сетуя на обстоятельства, в которых тот живет, воодушевить его похвалой или же обескуражить сарказмом; мы знаем, что уверенность врача может способствовать выздоровлению, а тревожный родитель – сформировать у ребенка робость. Конечно, сила убеждения не безгранична, и есть много ситуаций – таких, как болезнь, нищета или какая-либо другая беда, – когда никакие заверения не принесут облегчения; однако во многих случаях перевесить чашу весов и правда могут несколько слов, сказанных авторитетным тоном.











