Читать онлайн Метафизика Аристотеля. Седьмая книга
- Автор: Валерий Антонов
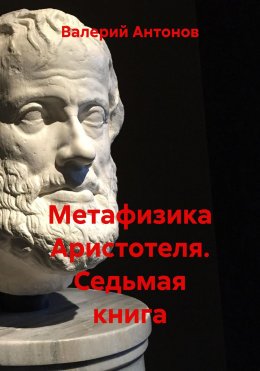
Аннотация к книге Z (VII) «Метафизики» Аристотеля: «О сущности» (ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ)
Книга Z (VII) является смысловым и композиционным центром всего трактата «Метафизика». В ней Аристотель формулирует сердцевину своей собственной онтологии, сводя вопрос о бытии как таковом (τὸ ὄν) к вопросу о сущности (οὐσία). Это глубокое, сложное и диалектическое исследование, построенное как последовательный критический разбор различных кандидатов на роль первичной сущности, culminating в положительном учении о форме (εἶδος) как об истинной причине и основе всякого бытия.
Ключевые проблемы и цели книги:
· Определение того, что является первичной сущностью – фундаментом всей реальности.
· Критика платоновской теории Идей за «удвоение мира» и неспособность объяснить причинность в чувственном мире.
· Поиск имманентного принципа, который объяснял бы единство, устойчивость и познаваемость изменчивых вещей.
Структура и краткое содержание по главам:
Часть I. Введение и постановка проблемы (Главы 1-2)
· Гл. 1: Утверждается, что бытие понимается в множестве смыслов, но первичным из них является сущность (субстанция). Все остальные категории (качество, количество и т.д.) – лишь атрибуты сущности. Задается главный вопрос: «Что есть сущность?».
· Гл. 2: Апоретический обзор существующих мнений (физикалисты, платоники, пифагорейцы). Показывается тупиковость этих подходов и необходимость нового пути.
Часть II. Анализ кандидатов в сущности и развитие собственной теории (Главы 3-12, 17)
· Гл. 3: Анализ материи (ὕλη) как подлежащего (ὑποκείμενον). Делается вывод, что материя (чистая потенциальность) не может быть первичной сущностью, так как она неопределенна и не является «вот этим нечто» (τὸde τι).
· Гл. 4-6, 10-12: Анализ сути бытия (τὸ τί ἦν εἶναι) и определения (λόγος). Устанавливается, что сущность вещи – это ее форма, выражаемая в определении. Доказывается тождество вещи и ее сущности (для первичных сущностей). Исследуется структура определения через род и видовое отличие.
· Гл. 7-9: Отступление в физику для анализа становления. Любое возникновение требует материи, формы и движущей причины. Подчеркивается, что в природных вещах форма является имманентной целью.
· Гл. 17 (Кульминация): Применяется новый подход: поиск сущности через вопрос «почему?». Форма провозглашается конечной причиной бытия вещи, тем принципом, который организует материю в единое целое. Пример: причиной того, что кусок меди есть статуя, является форма статуи, присутствующая в ней.
Часть III. Критика ложных кандидатов: универсалии и идеи (Главы 13-16)
· Гл. 13: Главный аргумент: сущность по природе индивидуальна (τὸde τι), а универсалия (общее) по природе присуща многому, следовательно, универсалия не может быть сущностью.
· Гл. 14-15: Критика платоновских Идей как универсалий, существующих отдельно от вещей. Показывается, что они не помогают ни в объяснении становления, ни в познании (вещи нельзя определить, так как они преходящи; идеи нельзя определить из-за парадоксов).
· Гл. 16: Критика взгляда, что части вещи являются ее первичной сущностью. Утверждается примат целого (организованной формы) над частью.
Итоговый вывод и значение книги:
Аристотель в книге Z совершает коренной поворот от трансцендентной онтологии Платона к имманентной. Первичной сущностью чувственного мира является форма (εἶδος/μορφή) – не абстрактная идея, а внутренний, structuring-принцип самой вещи, который:
1. Делает вещь тем, что она есть (ее чтойность).
2. Организует материю в единое и целостное «вот это нечто».
3. Является причиной и целью бытия вещи.
4. Делает вещь познаваемой и выразимой в определении.
Таким образом, книга Z – это гениальная попытка найти умопостигаемые основания изменчивого мира в нем самом, заложив фундамент для всего дальнейшего развития европейской философии и науки.
Глава 1. О первичности субстанции: что есть сущее как таковое?
[1] Бытие имеет несколько значений, как мы уже объясняли выше в разделе о различных значениях: а именно, оно обозначает отчасти то, что и это, отчасти качественное или количественное, или нечто иное, предицируемое таким образом.
Аристотель начинает с отсылки к учению о многозначности сущего (изложенному в Книге Δ (V), 7 и Γ (IV), 2). Он напоминает, что «бытие» (τὸ ὄν) – это не унивокальный термин с одним значением, а скорее «просапон» (πρὸς ἕν), то есть множество значений, отнесенных к единому центру – субстанции (ουσία). Это не просто перечисление, а иерархическая структура.
Критическое описание: Ключевой момент здесь – установление иерархии. Комментаторы, такие как В. Д. Росс (W. D. Ross) в своей работе "Aristotle's Metaphysics: A Revised Text with Introduction and Commentary", подчеркивают, что Аристотель не просто констатирует факт многозначности, а готовит почву для главного тезиса: среди всех категорий одна является первичной. Отечественный исследователь А. В. Кубицкий в своих комментариях указывает, что это методологическое введение, которое позволяет Аристотелю отсечь все производные значения сущего (качество, количество и т.д.) и сконцентрироваться на основном – сущем как субстанции. Критический взгляд мог бы задаться вопросом, исчерпывается ли вся реальность этой схемой категорий, но сила аристотелевского подхода как раз в его аналитической и структурирующей мощи.
[2] Из этих различных значений сущего первым, очевидно, является «что»,
«Что» (τὸ τί ἐστι) – это стандартное для Аристотеля обозначение сущности, ответ на вопрос "что есть вещь?". Здесь он прямо заявляет о примате этой категории.
Утверждение «очевидно» (δῆλον) является риторическим и программным. Как замечает Томас де Конанк (Thomas de Koninck) в работе "Aristotle on Substance", это не столько очевидный факт, сколько фундаментальная интуиция аристотелевской онтологии, которую вся последующая аргументация Книги Ζ призвана обосновать. Это тезис, который требует доказательства, и Аристотель немедленно переходит к нему.
[3] которое обозначает единую субстанцию. Ведь если мы хотим сказать, какого качества вещь, мы называем ее хорошей или плохой, но не три локтя в длину или человеком. Если же мы хотим указать, что это такое, мы называем ее не белой, не теплой и не длиной в три локтя, а человеком или богом.
Здесь Аристотель использует лингвистический и эпистемологический аргумент для различения сущности и акциденций. Мы идентифицируем вещь через ее сущность ("человек"), а не через ее случайные свойства ("белый").
Майкл Фреде (Michael Frede) в эссе "Aristotle's Notion of Substance" обращает внимание на то, что этот аргумент основан на практике вопрошания и ответа. Вопрос "Что это?" фундаментален и не может быть сведен к вопросу "Какого оно качества?". Отечественный комментатор С. А. Жебелёв также видел в этом проявление характерного для Аристотеля подхода: анализ языка является надежным проводником к анализу бытия. Однако критик мог бы возразить, что в некоторых контекстах (например, "Что это за белое?" – "Это молоко") акциденция может быть ключом к идентификации, но Аристотель парировал бы, что конечным ответом все равно будет указание на субстанцию ("молоко").
[4] Остальное называется существом, потому что это количество, или качество, или свойство, или что-то еще в этом роде.
Это прямое следствие из учения о πρὸς ἕν. Все другие категории называются "сущим" лишь во второстепенном, производном смысле – потому что они являются свойствами первичного сущего, т.е. субстанции.
Дэвид Босток (David Bostock) в своей книге "Aristotle's Metaphysics: Books Z and H" уточняет, что здесь есть тонкое различие между "быть" (например, быть белым) и "называться сущим" (белое называется сущим, потому что оно атрибут сущего-в-первую-очередь). Это различие crucial для понимания всей аристотелевской онтологии. Акциденции существуют только как модусы субстанции.
[5] Поэтому можно также поставить вопрос о том, является ли ходьба, здоровье, сидение существом или не-существом; точно так же можно поставить тот же вопрос и в отношении всего остального подобного рода: ведь ничто из этого не существует само по себе и столь же мало может быть отделено от отдельных вещей, но скорее, если вообще возможно, ходьба, сидение и здоровье относятся к существу.
Аристотель применяет свой критерий к сложным случаям – действиям и состояниям. Является ли "ходьба" самостоятельной сущностью? Его ответ: нет. Это акциденция, которая требует носителя – того, кто ходит (субстанции).
Этот пассаж часто рассматривается как полемика с платоновским учением об идеях, где такие понятия, как "здоровье" или "сидение", могли бы рассматриваться как самостоятельные сущности. Вернер Йегер (Werner Jaeger) в "Aristotle: Fundamentals of the History of His Development" видит здесь яркий пример аристотелевского эмпиризма, противостоящего платоновскому трансцендентализму. Критический вопрос: всегда ли действие неотделимо от субъекта? Например, "ходьба" как социальный феномен может быть анализирована независимо от конкретного идущего. Но Аристотель говорит о онтологическом, а не о концептуальном отделении.
[6] Эти последние предстают скорее как сущее, потому что у них есть определенный субстрат, а именно вещь и индивид, который возникает в данной предикации: о хорошем или сидящем нельзя сказать без такого субстрата.
Вводится ключевое понятие "субстрата" (ὑποκείμενον) – лежащего в основе. Акциденции "существуют" лишь постольку, поскольку у них есть этот субстрат, который их "поддерживает".
Майкл Лoux (Michael J. Loux) в "Primary Ousia: An Essay on Aristotle's Metaphysics Z and H" предупреждает, что здесь нужно быть осторожным. Тот субстрат, о котором говорится здесь ("вещь и индивид"), – это конкретная сущность (отдельный человек, лошадь). Однако в дальнейших главах (напр., Z.3) Аристотель будет исследовать, что само является ultimate субстратом для всех предикаций, включая и саму сущность (материя или форма?). Это рождает известную апорию внутри самой теории.
[7] Итак, ясно, что только в силу единой вещи существует каждый из этих предикатов: первое бытие, то, что не является бытием в определенном отношении, но бытием как таковым, есть, таким образом, единая субстанция.
Это вывод из предыдущих аргументов. Бытие акциденций производно и зависимо. Абсолютное, независящее бытие – это бытие субстанции.
Джозеф Оуэнс (Joseph Owens) в своей фундаментальной работе "The Doctrine of Being in the Aristotelian 'Metaphysics'" акцентирует, что Аристотель здесь совершает революционный поворот от платоновского понимания "бытия как такового" (αὐτὸ τὸ ὄν) как трансцендентной идеи к имманентной "единой субстанции" (οὐσία) – конкретной сущности в чувственном мире. Это переход от "онтологии присутствия" (Парменид, Платон) к "онтологии субстанции".
[8] Хотя понятие первого имеет различные значения, единая субстанция является первой во всех отношениях, как в плане понятия, так и в плане познания и времени.
Аристотель уточняет свой тезис о "первичности", различая три аспекта:
1. По понятию (λόγῳ): Определение акциденции (напр., "белое") необходимо включает в себя определение субстанции (напр., "то, что имеет цвет").
2. По познанию (γνώσει): Мы знаем вещь только когда знаем, что она есть.
3. По времени (χρόνῳ): Конкретная субстанция (этот человек) существует во времени прежде своих акциденций (быть образованным, поседеть и т.д.).
Сара Уотерлоу (Sarah Waterlow) в "Nature, Change, and Agency in Aristotle's Physics" подвергает сомнению третий пункт ("по времени"). Всегда ли субстанция предшествует своим акциденциям? Например, младенец уже обладает всеми своими акциденциями (цветом кожи, весом и т.д.) с момента возникновения. Аристотель, вероятно, имеет в виду, что субстанция может существовать без конкретной акциденции (человек может потерять загар), но акциденция не может существовать без субстанции.
[9] Ибо ни один из других предикатов не имеет существования для себя, только он один. И индивидуальная субстанция также является первой в плане понятия, ибо понятие индивидуального бытия должно содержаться в понятии каждой вещи.
Повторение и усиление предыдущего тезиса. Абсолютная онтологическая независимость – главный признак первичной сущности.
Этот пункт является центральным для всего проекта Метафизики. Пьер Обенк (Pierre Aubenque) в книге "Le problème de l'être chez Aristote" переводит это как вопрос о "сущем-основании". Субстанция – это то, на чем все держится, последний предел всякого спрашивания. Критика может быть направлена на кажущуюся тавтологичность: сущность первична, потому что она первична. Однако сила аргументации Аристотеля – в его герменевтической феноменологии: таково устройство нашего языка, нашего познания и, следовательно, самого бытия, каким оно нам является.
[10] Мы также считаем, что знаем каждую вещь прежде всего тогда, когда узнали, что она есть человек или огонь, а не тогда, когда узнали качество, или количество, или где, ибо последнее мы знаем только тогда, когда узнали, что такое количественное или качественное.
Эпистемологический аргумент, подтверждающий онтологический тезис. Наше познание устроено иерархически и mirrors структуру бытия.
Этот аргумент кажется интуитивно верным. Как отмечает А. Ф. Лосев в своей истории античной эстетики, аристотелевская гносеология является "таксономической": мы сначала идентифицируем род и вид сущего, а лишь затем изучаем его свойства. Однако современная наука часто действует иначе: мы можем изучать свойства (массу, заряд) неизвестной нам частицы, еще не зная, "что она такое" в аристотелевском смысле. Это показывает, что связь между онтологией и эпистемологией, возможно, не столь прямолинейна.
[11] Старый вопрос, который теперь, как всегда, рассматривается и неоднократно выдвигается, о том, что такое сущее, точнее, наш вопрос о том, что такое индивидуальная субстанция. Одни говорят, что это бытие есть единичная вещь, другие – что более чем единичная; одни считают его ограниченным, другие – неограниченным. Поэтому и нам, в первую очередь и почти единолично, предстоит исследовать, что же представляет собой то, что существует.
Аристотель подводит итог введению и формулирует центральный вопрос не только Книги Ζ, но и всей первой философии. Вопрос "что есть сущее?" сводится к вопросу "что есть сущность?" (τίς ἡ οὐσία;).
Здесь Аристотель помещает себя в контекст историко-философской дискуссии. Упомянутые позиции – отсылки к досократикам (напр., апейрон Анаксимандра), Платону (идеи как "более чем единичные" сущности) и другим. В. П. Зубов в "Аристотелевой Метафизике" подчеркивает, что Аристотель не просто продолжает старую традицию, а радикально переформулирует ее проблему. Финальная фраза – это декларация программы исследований, которая займет последующие главы, где он будет анализировать сущность через материю, форму и синтез того и другого. Критик мог бы сказать, что, сведя вопрос о бытии к вопросу о сущности, Аристотель сузил поле онтологии, проигнорировав, например, вопрос о бытии как акте (energeia), который станет центральным в более поздних книгах (Θ и Λ). Однако именно это фокусирование на сущности и сделало Книгу Ζ intellectual masterpiece, определившим развитие западной метафизики.
Обобщение главы 1 книги 7.
Основная цель главы – доказать, что центральным и первичным смыслом бытия (τὸ ὄν) является субстанция (ουσία), а вопрос «что есть сущее как таковое?» должен быть сведён к вопросу «что есть субстанция?». Это программное введение задаёт структуру и иерархию всей последующей онтологии Аристотеля.
Ключевые аргументы и тезисы:
1. Иерархия значений бытия: категории и их центр.
Аристотель начинает с напоминания о многозначности бытия (учение из книг Δ и Γ), но сразу вводит ключевой принцип: значения бытия не равноправны. Они относятся к единому центру – субстанции (πρὸς ἕν).
Все другие категории (качество, количество, место и т.д.) являются производными, «сущими» лишь во второстепенном смысле, так как обозначают не самостоятельные сущности, а атрибуты или свойства чего-то другого – субстанции.
2. Лингвистический и эпистемологический аргумент о первичности «что».
Категория «что» (τὸ τί ἐστι) – первична. Это демонстрируется через практику вопрошания и ответа:
Чтобы идентифицировать вещь, мы называем её сущность («человек», «бог»), а не её акциденции («белый», «три локтя»).
Вопрос «Что это?» является фундаментальным и не сводимым к вопросам о качестве, количестве и т.д.
Познание вещи начинается с узнавания её сущности. Мы знаем вещь только тогда, когда знаем, что она есть, а не её свойства.
3. Онтологический аргумент: независимость vs. зависимость.
Субстанция (конкретный индивид – «этот человек», «эта лошадь») существует самостоятельно и независимо (сама по себе). Она является субстратом (ὑποκείμενον), носителем, на котором «держится» всё остальное.
Акциденции (ходьба, здоровье, белизна) не существуют сами по себе. Их бытие – это бытие-в-другом или бытие-как-свойство. Они не могут быть «отделены» от субстанции, которой принадлежат.
4. Критика платонизма (имплицитная).
Рассуждение о том, что «ходьба» или «сидение» не являются самостоятельными сущностями, – это прямая полемика с платоновской теорией идей. Аристотель отвергает возможность существования идей-сущностей для акциденций и действий. Для него сущность имманентна чувственному миру и представляет собой конкретного индивида.
5. Три аспекта первичности субстанции.
Аристотель уточняет, в каком смысле субстанция «первична»:
По понятию (λόγῳ): Определение любой акциденции необходимо включает в себя отсылку к субстанции (например, «белое» – это «то, что имеет цвет»).
По познанию (γνώσει): Мы познаём акциденции только через предварительное познание сущности, которой они принадлежат.
По времени (χρόνῳ): Конкретная субстанция (например, человек) существует до того, как приобретает или теряет свои случайные свойства (например, стать образованным или поседеть). (Этот пункт, как отмечают комментаторы, является наиболее уязвимым для критики, так как акциденции часто возникают одновременно с субстанцией).
Заключительный вывод и постановка проблемы:
Глава завершается формулировкой главного вопроса всей книги Z: вопрос «что есть сущее?» сводится к вопросу «что есть субстанция?» (τίς ἡ οὐσία;).
Аристотель помещает свой inquiry в исторический контекст, указывая, что предыдущие философы давали разные ответы (единое vs. множество, ограниченное vs. неограниченное), и берёт на себя задачу разрешить этот многовековой спор.
Критический итог: Сила аристотелевского подхода заключается в создании стройной иерархической онтологии, основанной на анализе языка, познания и структуры реальности. Он совершает поворот от платоновской «онтологии присутствия» (трансцендентные идеи) к «онтологии субстанции» (имманентные, конкретные сущности как основа бытия).
Однако эта глава лишь намечает программу исследований. Как верно отмечают комментаторы (Лoux, Босток), заявленное здесь понимание субстанции как конкретного индивида («вещи и индивида») в последующих главах (особенно Z.3) будет подвергнуто серьёзному испытанию, когда Аристотель начнёт искать ultimate субстрат, что приведёт его к различению материи, формы и синтеза того и другого и в конечном счёте – к утверждению формы (είδος) как первичной субстанции. Таким образом, глава 1 – это не окончательный ответ, а мощный стартовый импульс для всего метафизического исследования.
Глава 2. Исследование природы индивидуальной субстанции: от чувственных тел к умопостигаемым принципам.
Общий контекст главы 2
Аристотель в «Метафизике» (особенно в книге 7, которая считается сердцем всего труда) исследует, что такое сущность (οὐσία, ousia). Глава 2 является программной: в ней Аристотель намечает поле проблем и существующие мнения, которые он будет детально разбирать в последующих главах. Его цель – найти первичную и безусловную сущность, которая не сказывается о другом и существует сама по себе.
[1] Отдельная субстанция наиболее очевидно приписывается телам…
Аристотель начинает с общепринятого (эндо́ксон, ἔνδοξον) мнения. Для обыденного сознания и даже для натурфилософов (досократиков) «отдельными сущностями» (ἄτομαι οὐσίαι) являются конкретные, чувственно воспринимаемые физические объекты: живые существа, растения, элементы (огонь, вода) и небесные тела.
Критический комментарий:
W. D. Ross (английский комментатор): Ross указывает, что Аристотель здесь не утверждает, что это правильное мнение, а лишь констатирует, что это наиболее очевидная и распространенная отправная точка. Аристотель уважает «явления» (φαινόμενα), и чувственный мир – первое, что является нам. Однако Ross подчеркивает, что вся последующая аргументация книги 7 будет направлена на то, чтобы показать, что чувственные тела – не первичные сущности, так как они состоят из материи и формы, а материя не может быть сущностью.
Ю. А. Ахылов (отечественный исследователь): В своих работах отмечает, что перечисление Аристотелем тел, растений, животных и небесных сфер – это не просто список, а отражение иерархии «отдельно существующего» в космосе. Небесные тела, будучи вечными и неизменными (по мнению Аристотеля), являются более совершенными кандидатами в сущности, чем perishable земные объекты. Однако это все еще кандидаты, а не окончательный ответ.
[2] Однако являются ли эти вещи единственными индивидуальными субстанциями… должно быть исследовано.
Аристотель сразу же ставит под сомнение очевидность первого пункта. Он формулирует центральный вопрос всей книги: являются ли чувственные тела единственными сущностями, или есть другие (нематериальные), или, возможно, и они сами не являются первичными сущностями?
Критический комментарий:
Joseph Owens (канадский историк философии): В своем фундаментальном труде «The Doctrine of Being in the Aristotelian 'Metaphysics'» Owens подчеркивает, что этот вопрос раскрывает апоретический (ἀπορέω, испытывать затруднение) метод Аристотеля. Философия начинается с удивления и постановки проблемы (апории). Здесь представлена фундаментальная апория метафизики: что есть сущее как таковое? Является ли сущее исключительно материальным?
Э. В. Ильенков (отечественный философ): Хотя Ильенков напрямую не комментирует этот отрывок, его диалектический подход к наследию Аристотеля позволяет интерпретировать этот вопрос как столкновение двух линий в философии: линии Демокрита (сущность – это атомы, телесное) и линии Платона (сущность – идея, бестелесное). Аристотель пытается найти третий путь, снять эту дихотомию.
[3] Некоторым философам границы тела… кажутся индивидуальными субстанциями в большей степени…
Аристотель переходит к альтернативной точке зрения, которая, парадоксальным образом, считает сущностями не сами тела, а их математические атрибуты и пределы: поверхности, линии, точки, единицы. Это отсылка к пифагорейской и платонической традициям.
Критический комментарий:
David Bostock (английский комментатор): В своей книге «Aristotle's Metaphysics: Books Z and H» Bostock объясняет, что логика здесь в том, что математические объекты более точны, вечны и неизменны, чем perishable физические тела. Если сущность должна быть чем-то устойчивым и самотождественным, то математические объекты подходят лучше. Однако Аристотель (как будет видно далее) отвергает это, так как эти «пределы» не могут существовать отдельно от тела, границами которого они являются.
В. П. Гайденко (отечественный историк философии): В работе «Эволюция понятия науки» Гайденко подробно разбирает этот конфликт. Она показывает, что для Платона и пифагорейцев математические объекты были промежуточной реальностью между миром идей и миром вещей, обладающей большей онтологической стабильностью, чем последний. Аристотель же настаивает на том, что абстракция математика не может быть отдельной сущностью.
[4] Кроме того, одни считают, что кроме разумного… Платон поместил обе эти…
Здесь Аристотель сужает фокус и переходит непосредственно к академической критике, прежде всего к учению Платона. Он кратко излагает его систему: существуют 1) Идеи (εἴδη) – нематериальные, вечные сущности; 2) Математические объекты – промежуточные сущности; 3) Чувственные тела. Таким образом, Платон признает multiple (множество) типов сущностей.
Критический комментарий:
Werner Jaeger (немецкий филолог): В своей генетической теории развития метафизики Аристотеля Jaeger видел в этой главе следы раннего, более платонического периода мышления Аристотеля. Однако даже здесь Аристотель выступает как критик: его не удовлетворяет умножение сущностей без ясного критерия, что же является первичной сущностью.
А. В. Лебедев (отечественный антиковед): Лебедев отмечает, что Аристотель точно схватывает главную проблему платонизма: «раздвоение мира» на умопостигаемый и чувственный. Для Аристотеля это излишне усложняет онтологию. Его ключевой вопрос к Платону: как именно идеи, существующие отдельно, могут быть сущностями этих вещей? Эта критика развернута в последующих книгах.
Вывод по абзацу: Аристотель представляет учение своего учителя как наиболее разработанную, но проблематичную альтернативу наивному реализму.
[5] Спевсипп предположил еще больше субстанций…
Аристотель упоминает Спевсиппа, преемника Платона в Академии, который пошел еще дальше, постулируя отдельные и несводимые друг к другу принципы (сущности) для разных уровней бытия: Единое для чисел, нечто иное для величин, еще одно для души и т.д.
Критический комментарий:
Leonardo Tarán (американский филолог, специалист по Спевсиппу): Tarán в своих исследованиях показывает, что Аристотель здесь, вероятно, несколько упрощает и карикатуризирует взгляды Спевсиппа в полемических целях. Однако суть передана верно: Спевсипп отрицал платоновскую идею Единого Блага как высшего принципа и заменял ее множеством независимых начал. Для Аристотеля это – худший вариант платонизма, так как он полностью разрушает единство онтологии и делает невозможным единое науку о сущем (метафизику).
Т. Ю. Бородай (отечественный исследователь): В своих работах Бородай указывает, что критика Спевсиппа для Аристотеля crucial (решающе важна), так как она демонстрирует тупик, к которому ведет отказ от поиска единой первопричины и первичной сущности. Множественность неизменных субстанций ведет к эпистемологическому хаосу.
[6] Некоторые говорят, что идеи и числа имеют одну и ту же природу…
Это отсылка к другой группе внутри Академии, возможно, к Ксенократу, который стремился упростить систему Платона, отождествив идеи с числами и выводя из них все остальные роды сущего (геометрические объекты и физический мир).
Критический комментарий:
John Dillon (ирландский историк философии, специалист по Древней Академии): Dillon поясняет, что это попытка построить единую, строго дедуктивную онтологическую систему, где все сущее выводится из первопринципов по аналогии с математикой. Однако для Аристотеля эта попытка также порочна, поскольку она пытается свести качественное многообразие мира к количественным (числовым) отношениям. Как он будет argue (спорить) позже, сущность – это не число.
С. В. Месяц (отечественный исследователь): В своих переводах и комментариях Месяц отмечает, что Аристотель consistently (последовательно) критикует пифагорейско-платоническую редукцию бытия к number (числу). Его главный аргумент: такая редукция не объясняет сущность как причину бытия и становления конкретной вещи. Как число «два» может быть сущностью этого вот дерева?
[7] Что из всего этого верно или неверно… это мы сейчас и выясним.
Аристотель подводит итог всем поставленным вопросам и announces (провозглашает) программу всего последующего исследования. Он перечисляет ключевые проблемы: критерий сущности, существование отдельно от чувственного, отношение между сущностями.
Критический комментарий:
Michael Frede (немецко-американский историк философии): Frede подчеркивает, что этот пассаж – brilliant (блестящий) пример аристотелевского метода. Он не навязывает свою систему сходу, а сначала проводит диарезу (διαίρεσις) – различение всех существующих мнений, выявляя их трудности (апории). Только после этого можно приступить к их разрешению. Фраза «сначала кратко проанализируем понятие» указывает на то, что анализ начнется с логико-лингвистического исследования значения «сущности» (категории сущности в «Категориях»), что и происходит в главе 3.
В. В. Бибихин (отечественный философ и переводчик): Бибихин в своих лекциях обращал внимание на последний вопрос: «существует ли индивидуальная субстанция сама по себе… или же ее нет отдельно от чувственно воспринимаемого». Это центральная дилемма. Ответ Аристотеля будет диалектическим: да, форма (вид, εἶδος) является сущностью и может быть помыслена отдельно от материи (и в этом смысле «отдельна»), но в реальном мире она не существует отдельно от материи, кроме случая с Нусом (Умом), божественной сущностью.
Обобщение главы 2: Исследование природы индивидуальной субстанции.
Глава 2 книги 7 «Метафизики» Аристотеля выполняет программную и апоретическую функцию. В ней не дается ответа на вопрос «что такое сущность?», но meticulously (тщательно) очерчивается поле исследования, формулируются ключевые проблемы (апории) и подвергаются критическому разбору существующие философские позиции. Это отправная точка, с которой начнется собственный диалектический поиск Аристотеля.
Основной тезис главы: Первичная сущность не является ни чем-то очевидным и чувственным, ни чисто умопостигаемым и математическим, ни множеством разрозненных принципов. Ее поиск требует преодоления этой дихотомии.
Ключевые выводы по структурным элементам главы:
Уважение к «явлениям» (φαινόμενα) и отправная точка. Аристотель начинает с общепринятого мнения (эндо́ксон), что сущности – это чувственно воспринимаемые тела (животные, растения, элементы). Однако, как отмечают комментаторы (Ross, Ахылов), это лишь исходная точка анализа, а не его итог. Чувственные тела – кандидаты на роль сущности, но они сложны (состоят из материи и формы) и преходящи, что ставит под сомнение их первичность.
Центральная апория метафизики. Аристотель сразу же ставит главный вопрос (Owens, Ильенков): являются ли эти тела единственными сущностями, или существуют иные, нематериальные? Этим вопросом он фиксирует фундаментальную дилемму всей античной философии: линия Демокрита (материальное) против линии Платона (нематериальное). Аристотель намечает свой путь – поиск «третьего пути», который снимет это противоречие.
Критика математизирующего подхода (Пифагор, Платон). Рассматривается альтернативная позиция, что истинные сущности – это математические объекты (поверхности, линии, числа) как более вечные и точные (Bostock). Аристотель и его комментаторы (Гайденко) отвергают это: математические объекты – лишь абстракции, свойства тел, не способные к самостоятельному существованию и не объясняющие причин бытия вещей.
Критика платонического «удвоения мира» и его крайних форм. Аристотель детально разбирает учение Платона об Идеях и математических объектах как отдельных сущностях, видя в нем главного оппонента. Критика заключается в:
Неоправданном умножении сущностей (Лебедев): мир удваивается на умопостигаемый и чувственный, что излишне усложняет онтологию.
Отрыве сущности от вещи: Как отдельно существующая Идея может быть сущностью конкретной вещи? Этот вопрос остаётся без ответа.
Доведении платонизма до абсурда: Учения Спевсиппа (множество независимых начал) и Ксенократа (отождествление идей с числами) показывают тупиковость этого пути. Они ведут к эпистемологическому хаосу (Бородай) и невозможности построить единую науку о сущем, а также к необъяснимой редукции качественного мира к количественным числовым отношениям (Dillon, Месяц).
Провозглашение метода. Финальный пассаж главы – это не заключение, а объявление программы исследований (Frede). Аристотель применяет диалектический метод: сначала собрать и проанализировать существующие мнения (диареза), выявить их трудности (апории), и только затем двигаться к их разрешению через анализ ключевых понятий (в первую очередь, через логико-лингвистическое исследование понятия «сущность» в следующей главе).
Итоговое обобщение:
Глава 2 представляет собой карту проблемного поля метафизики. Аристотель показывает, что ни наивный реализм (только тела), ни крайний идеализм (отдельные идеи или числа), ни плюрализм (множество несводимых начал) не могут адекватно объяснить природу первичной сущности. Все эти подходы либо не видят за телом его умопостигаемых принципов, либо отрывают эти принципы от телесной реальности. Задача Аристотеля – найти такой принцип (форму, суть бытия), который был бы истинной причиной и сущностью чувственной вещи, не существуя отдельно от нее (за исключением высшей, божественной сущности), тем самым преодолев разрыв между чувственным и умопостигаемым.
Глава 3. Анализ понятия «субстанция» через категорию субъекта: материя, форма и сложная сущность.
Абзац [1]
Текст Аристотеля: «Единая субстанция имеет если не несколько, то, по крайней мере, предпочтительно четыре значения: ибо понятие, общее и род кажутся субстанцией каждой вещи, а четвертое – это субъект. Субъект – это то, от чего предицируется другое, не будучи само предицировано от другого. Поэтому мы должны сначала установить понятие субъекта: ведь субъект (в собственном смысле этого слова) представляется предпочтительно единой субстанцией».
Комментарий и критика:
Аристотель начинает с перечисления четырех кандидатов на роль сущности (οὐσία): суть бытия (λόγος τῆς οὐσίας, переведенное как «понятие»), общее (τὸ καθόλου), род (τὸ γένος) и подлежащее (τὸ ὑποκείμενον). Он сразу же фокусируется на последнем – ὑποκείμενον (субъект, субстрат, подлежащее), определяя его как то, что служит основой для predication (сказывания о нем чего-либо), но само не сказывается о другом.
Комментарий А.Ф. Лосева: Лосев подчеркивает, что Аристотель здесь проводит фундаментальное различие между логическим и онтологическим подходами. «Подлежащее» – это прежде всего онтологическая основа, «первая материя» бытия, то, что несет на себе все свойства и определения. Однако Лосев предупреждает, что простое отождествление сущности с подлежащим является наивным и ведет к материализму, что и будет раскритиковано далее.
Комментарий Д.В. Бугая: Бугай акцентирует, что выбор подлежащего в качестве приоритетного кандидата – это следование здравому смыслу и досократической традиции (искавшей первоначало – ὕδωρ, ἀήρ и т.д.). Это отправная точка диалектического движения мысли, которая должна быть пройдена и преодолена для достижения более точного определения.
Критическое описание: Аристотель начинает с наиболее очевидного и «физического» определения сущности как субстрата. Однако это определение имплицитно содержит проблему: если сущность – это просто то, что остается после снятия всех свойств, то мы приходим к чистой, неопределенной материи, которая не может быть сущностью отдельной вещи. Это начало апории, которую философ будет разрешать.
Абзацы [2-5]
Текст Аристотеля: «Субъект или субстрат называется материей в одном смысле, формой – в другом, а продуктом этих двух – в третьем. Под материей я понимаю, например, руду, под формой – внешний вид, под продуктом того и другого или целого – законченную живописную колонну. Если, следовательно, форма возникла раньше материи и существует в более высокой степени, то по той же причине она будет раньше и того, что стало из обоих».
Комментарий и критика:
Аристотель уточняет, что «подлежащее» неоднозначно. Он вводит ключевые понятия своей метафизики: материя (ὕλη), форма (μορφή, εἶδος) и синтез обоих (συνόλον) – конкретная вещь.
Комментарий (общий для многих интерпретаторов, включая российских): Пример с колонной (или статуей, как в других переводах) является классическим. Медь – материя, очертание (σχῆμα) – форма, а готовая колонна – составная сущность. Важнейшее утверждение – о приоритете формы. Форма не просто «возникает раньше» в процессе изготовления, но онтологически и актуально первичнее. Именно форма делает материю чем-то, определяет ее.
Комментарий В.П. Леги (отечественный исследователь): Лега отмечает, что Аристотель здесь намечает путь к решению: сущностью не может быть просто материя, но и не просто форма в платоновском смысле (как отдельная идея), а форма, воплощенная в материи, или, точнее, форма как принцип организации материи в конкретную вещь.
Критическое описание: Это ключевой момент методологии Аристотеля. Он не просто отвергает предыдущее определение, а показывает его сложность. Подлежащее как сущность оказывается тройственным. Это снимает наивность первоначального подхода и готовит почву для анализа.
Абзацы [6-10]
Текст Аристотеля: «Теперь мы указали, что такое индивидуальная субстанция: то, что предицируется не от субъекта, а от всего остального… Но мы не должны останавливаться на этом определении, поскольку оно недостаточно… ибо при таком определении материя становится единой субстанцией… Если мы теперь отнимем длину, ширину и высоту, то обнаруживаем, что не остается ничего, кроме, самое большее, того, что ими ограничено, так что с этой точки зрения материя предстает как единая субстанция».
Комментарий и критика:
Аристотель проводит мысленный эксперимент: если последовательно удалять все свойства (предикаты) вещи – не только качества, но и количественные определения (размеры), – то в конечном счете остается лишь неопределенный субстрат, чистая материя.
Комментарий Лосева: Лосев видит здесь brilliant диалектический ход. Аристотель демонстрирует, что логика отождествления сущности с подлежащим неминуемо ведет к апории: последним подлежащим оказывается «никакая» материя, лишенная всякой определенности, «не-сущее» (μὴ ὄν), которое, однако, является основой всего сущего. Это «чистая потенциальность».
Комментарий Д.Б. Харта (зарубежный, в интерпретации Бугая): Харт сравнивает этот аристотелевский субстрат с современным понятием «вещи в себе»: мы можем мыслить его только как предел абстракции, но познать его самого по себе, лишенного всех форм, невозможно. Он есть лишь условие возможности множественности и изменчивости вещей.
Критическое описание: Аристотель показывает тупиковость материализма. Если сущность – это только материя, то сущность любой вещи (статуи, человека, дома) одна и та же – аморфный, неопределенный субстрат. Это противоречит нашему интуитивному пониманию сущности как того, что делает вещь именно этой вещью.
Абзацы [11-13]
Текст Аристотеля: «Я называю материей то, что само по себе не является ни чем-то, ни количественным, ни чем-либо еще из того, через что мы определяем бытие… последняя, таким образом, сама по себе не есть ни нечто, ни количественное, ни что-либо иное. Столь же мало можно считать отрицание всех этих предикатов такой конечной субстанцией, ибо эти отрицания существуют лишь случайным образом. В соответствии с этим, следовательно, материя предстает как индивидуальная субстанция. Но это невозможно».
Комментарий и критика:
Дается строгое определение материи: то, что актуально не является ни одной из категорий, но потенциально может стать любой из них. Материя – это не отрицание предикатов (не-красное, не-тяжелое), а их основание-возможность.
Комментарий Бугая: Бугай подчеркивает, что Аристотель здесь проводит границу между своей концепцией материи и платоновским «не-сущим» из «Софиста». Материя у Аристотеля – не абсолютное небытие, а иное по отношению к форме, возможность бытия.
Комментарий Дж. Оуэнса (зарубежный): Owens отмечает, что статус материи – чисто умопостигаемый. Мы никогда не встречаем ее в опыте, мы приходим к ней через абстракцию (метод «логического отнятия»). Ее бытие – это бытие в возможности (δυνάμει).
Критическое описание: Аристотель заключает: вывод о том, что материя – это сущность, является логическим следствием изначального определения, но он неприемлем онтологически. Это reductio ad absurdum (доведение до абсурда) наивной точки зрения.
Абзацы [14-16]
Текст Аристотеля: «Но это невозможно: ведь для единичной субстанции существенно, что она существует как самостоятельное это, и по этой причине форма и то, что состоит из материи и формы, вероятно, хотели бы быть в большей степени единичной субстанцией, чем материя. Однако мы должны оставить здесь единую вещь, состоящую как из материи, так и из формы, поскольку она занимает более позднее положение и ее смысл ясен. В определенной степени материя также является умопостигаемым понятием. Третье понятие, с другой стороны, должно быть проанализировано, поскольку оно является самым сложным. Теперь мы согласны с тем, что среди разумных субстанций есть отдельные субстанции: среди них мы должны сначала найти наше понятие».
Комментарий и критика:
Здесь – разрешение апории и указание на дальнейший путь. Критерий истинной сущности – быть «отдельным этим» (τὸ τὶ ὄν, лат. hoc aliquid). Материя неотличима и неотделима, она не «это», а «то, из чего». Следовательно, сущностью в первую очередь является форма (эйдос), а во вторую – составная вещь.
Комментарий Лосева: Лосев утверждает, что это кульминация главы. Аристотель приходит к выводу, что форма есть принцип индивидуации и определенности. Именно форма делает материю конкретной, отдельной вещью. Составная сущность (целое) вторична, так как зависит от формы для своего единства.
Комментарий М. Фреде (зарубежный): Frede указывает, что Аристотель не просто отвергает материю, а устанавливает иерархию: 1. Форма (наипервейшая сущность), 2. Составная вещь, 3. Материя. Материя называется сущностью лишь в слабом, производном смысле, как субстрат.
Критическое описание: Глава выполняет роль негативного диалектического шага. Аристотель очищает поле от неадекватных определений (сущность как материя) и указывает на двух главных претендентов: форму и суть бытия вещи (λόγος τῆς οὐσίας), анализ которого составит содержание последующих глав. Решение отдать приоритет форме
Обобщение главы 3: Анализ понятия «субстанция» через категорию субъекта.
Глава 3 представляет собой диалектическое движение мысли, которое начинается с общепринятого и очевидного определения сущности и, через его имманентную критику и доведение до логического предела, приходит к его отрицанию и указанию на истинного кандидата. Это наглядная демонстрация аристотелевского метода разрешения апорий.
Основной тезис главы: Хотя сущность как подлежащее (ὑποκείμενον) является логичной отправной точкой, отождествление сущности с материальным субстратом ведет в тупик. Истинной сущностью, отвечающей критерию «быть отдельным этим» (τὸ τὶ ὄν), является не материя, а форма (εἶδος, μορφή), которая и придает материи определенность и индивидуальность.
Ключевые выводы по структурным элементам главы:
Выбор отправной точки и постановка апории. Аристотель начинает с анализа сущности как «подлежащего» – того, о чем все сказывается, но что не сказывается ни о чем другом (Лосев, Бугай). Это уважение к здравому смыслу и физической интуиции (традиция досократиков). Однако в этом определении уже заложена проблема, которую предстоит вскрыть.
Уточнение понятия «подлежащее»: введение триады. Аристотель сразу усложняет картину, показывая, что «подлежащее» понимается в трех смыслах:
Материя (ὕλη) – то, из чего вещь состоит (медь).
Форма (εἶδος) – то, что вещь есть, ее структура и суть (форма статуи).
Синтез (συνόλον) – конкретная вещь как единство материи и формы (готовая статуя).
Уже здесь заявляется приоритет формы как онтологически первичного начала (Лега).
Мысленный эксперимент и редукция к абсурду. Центральный логический ход главы – последовательное «снятие» всех предикатов (свойств, количеств, качеств) с вещи. Этот анализ показывает, что если настаивать на идентификации сущности с подлежащим, то в остатке мы получаем чистую материю – неопределенный, лишенный всяких свойств субстрат (Лосев).
Этот субстрат невозможно познать (Харт), он есть «чистая потенциальность» (δυνάμει) и сам по себе не является ничем определенным (Оуэнс).
Таким образом, исходное определение приводит к абсурдному выводу: сущностью любой вещи является одна и та же аморфная материя, что противоречит самому понятию сущности как того, что делает вещь именно этой вещью.
Окончательный вердикт материи. Аристотель делает категоричный вывод: материя не может быть первичной сущностью. Она не удовлетворяет ключевому критерию – быть «отдельным этим» (τὸ τὶ ὄν). Материя неотличима, неиндивидуальна и актуально не существует сама по себе.
Разрешение апории и указание на путь вперед. Критика материи не означает возврата к началу. Диалектический процесс разрешается утверждением новой иерархии кандидатов в сущности (Фреде):
1. Форма (εἶδος) – наипервейшая сущность, активный принцип, определяющий и организующий материю, делающий вещь тем, что она есть.
2. Синтез формы и материи (συνόλον) – конкретная вещь, которая является сущностью лишь вторично, так как своим единством и определенностью обязана форме.
3. Материя (ὕλη) – называется сущностью лишь в слабом, производном смысле, как необходимый субстрат.
Итоговое обобщение:
Глава 3 выполняет роль негативного пролога ко всему последующему исследованию. Ее цель – устранить неадекватное, но соблазнительное определение сущности как материи. Путем логической редукции Аристотель демонстрирует, что сущность не может быть пассивным субстратом, но должна быть активным принципом определенности и индивидуации. Этим принципом является форма.
Вывод главы не окончателен, но стратегически важен: он очищает поле для позитивного анализа. Указав на форму как на главного претендента, Аристотель теперь должен исследовать ее природу. Это ведет к анализу следующего кандидата из начального списка – «сути бытия» (λόγος τῆς οὐσίας), которой и посвящены последующие главы. Таким образом, глава 3 – это ключевой поворот от физического субстрата к метафизическому принципу.
Глава 4. Сущность как «чтойность»: поиск определения и принципы концептуального бытия.
Абзац [1]
Текст Аристотеля: «Поскольку в самом начале мы различали разные значения единой субстанции, и одно из них, по-видимому, было термином, мы должны рассмотреть последнее. Ибо полезно перейти к тому, что более известно.»
Комментарий и критика:
Аристотель возвращается к перечню кандидатов в сущности из начала гл. 3 и объявляет, что теперь будет исследовать «чтойность» или «суть бытия» (τὸ τί ἦν εἶναι) – тот самый «термин» (λόγος), который является концептуальным выражением сущности.
Комментарий А.Ф. Лосева: Как отмечает Лосев, Аристотель в этом месте совершает важный переход: от онтологического рассмотрения подлежащего (гипокейменона) – к логико-диалектическому анализу его определения. «Суть бытия» трактуется не как просто слово, а как смысловая структура, раскрывающая самую глубокую определенность вещи. Следовательно, знаменитый аристотелевский принцип «перехода от более известного нам к более известному по природе» означает здесь движение от вещи, данной в чувствах, к её умопостигаемому логосу, то есть к определению.
Комментарий Э. Зеллера (зарубежный): Zeller видит здесь применение аристотелевского метода восхождения от более известного для нас (τὰ ἡμῖν γνωριμώτερα) – конкретных вещей – к более известному по природе (τὰ φύσει γνωριμώτερα) – к их принципам и причинам, каковой и является суть бытия.
Критическое описание: Аристотель четко определяет следующий шаг своего исследования. Если глава 3 была негативной (критика субстрата как сущности), то глава 4 – позитивная: что же такое сущность, если выразить ее в понятии?
Абзацы [2-4]
Текст Аристотеля: «Всякое познание происходит таким образом, что человек продвигается через то, что само по себе менее познаваемо, к тому, что само по себе более познаваемо… Но то, что узнаваемо и далее известно индивидуальному субъекту, часто мало узнаваемо само по себе и имеет мало или совсем ничего от существующего. Тем не менее, мы должны попытаться узнать то, что узнаваемо само по себе, из того, что мало узнаваемо само по себе, но из субъекта, исходя, как я уже сказал, из первого.»
Комментарий и критика:
Это методологическое отступление, где Аристотель поясняет свой эпистемологический принцип. Познание движется от частных, чувственных данных к общим, умопостигаемым принципам.
Комментарий В.П. Леги: Лега указывает, что здесь Аристотель противопоставляет свое понимание познания платоновскому. Для Платона познание – это припоминание уже готовых идей из мира иного. Для Аристотеля – это восхождение от опыта к сущности. Мы начинаем с вещей, которые «мало познаваемы по природе» (ибо изменчивы и случайны), чтобы прийти к тому, что «познаваемо по природе» (неизменной сущности).
Комментарий Дж. Барнса (зарубежный): Barnes обращает внимание на тонкое место: Аристотель говорит, что известное нам «имеет мало или совсем ничего от существующего» (μικρὸν ἢ οὐθὲν ὑπάρχει τοῦ ὄντος). Это не значит, что вещи не существуют, а значит, что в своем эмпирическом, случайном виде они не выражают своей истинной, существенной природы в полной мере. Их бытие затемнено акциденциями.
Критическое описание: Аристотель обосновывает свой метод. Он не занимается чистым умозрением, а исходит из данных опыта, чтобы подняться до уровня метафизики. Это апостериорный метод, в отличие от априорного метода Платона.
Абзацы [5-8]
Текст Аристотеля: «Согласно своей субстанциальной сущности или понятию, каждая вещь есть то, чем она является сама по себе… Поэтому то, чем вы являетесь в соответствии с вашим бытием в себе, есть чистое понятие или субстанциальная сущность вашей личности… это концептуальное определение чего-либо, которое указывает на его сущность без того, чтобы определяемое понятие было включено в определение.»
Комментарий и критика:
Здесь дается ядро теории: «суть бытия» (чтойность) вещи – это то, чем она является «сама по себе» (καθ' αὑτό), в отличие от того, что присуще ей «по совпадению» (κατὰ συμβεβηκός). Аристотель приводит примеры, чтобы отсечь все случайное.
Комментарий Д.В. Бугая: Бугай разъясняет, что «быть самим по себе» (καθ' αὑτό) у Аристотеля имеет несколько значений. Здесь используется ключевое: бытие, принадлежащее вещи в силу ее собственной природы, а не в силу привходящих обстоятельств. Ваша суть – быть «разумным живым существом», а не «образованным» или «белым», ибо это может измениться, не уничтожив вас.
Комментарий М. Фреде (зарубежный): Frede акцентирует правило, которое Аристотель устанавливает для определения: в правильном определении definiendum (то, что определяется) не должно входить в definiens (определяющую часть). Определение «белая поверхность» порочно, потому что «поверхность» уже является определяемым субъектом. Это правило исключает тавтологию и ensures, что определение раскрывает сущность, а не акциденцию.
Критическое описание: Аристотель формулирует строгий критерий для выделения сути бытия из всего множества предикатов вещи. Это логический инструмент для решения проблемы, поставленной в предыдущей главе: как отличить форму (сущность) от всего остального. Ответ: сущность выражается в определении, которое говорит о вещи то, что ей присуще «само по себе» и необходимо.
Абзацы [9-11]
Текст Аристотеля: «Таким образом, если бытие белой поверхности тождественно бытию гладкой поверхности, то быть белым и быть гладким – одно и то же… Теперь, поскольку существуют также композиции по другим категориям… следует выяснить, существует ли концептуальное определение для каждой из этих вещей, и есть ли у них также чистое понятие, например, понятие белого человека.»
Комментарий и критика:
Аристотель применяет свой критерий к сложным случаям – акцидентальным единствам (например, «белый человек»). Если бы сущность «белой поверхности» была тождественна сущности «гладкой поверхности», то белизна и гладкость были бы тождественны, что абсурдно. Следовательно, у акцидентальных единств нет собственной сути бытия.
Комментарий А.Ф. Лосева: Лосев видит здесь важнейшее разграничение между субстанциальной и акцидентальной формой. Суть бытия есть только у сущностей (субстанций). У сложных акцидентальных образований («музыкальный Сократ») нет собственной чтойности, они не являются самостоятельными «этостями». Их единство случайно и не порождает новой сущности.
Комментарий П. О. Глушакова (отечественный): Глушаков уточняет, что проблема акцидентальных единств – это пробный камень для теории. Аристотель показывает, что его метафизика способна провести четкую границу между подлинным (субстанциальным) и неподлинным (акцидентальным) единством, что было сложной проблемой для предшествующей философии (например, для платонизма, где любое понятие могло претендовать на статус идеи).
Абзацы [11-12]
Текст Аристотеля: «Что такое быть платьем? Это тоже не вещь сама по себе. [12] Если только не-бытие-для-себя не заявлено двойным образом, частично при добавлении, частично при противоположности.»
Комментарий и критика:
Аристотель продолжает анализ акцидентальных единств на новом примере – «платье» (ἱμάτιον), которое в данном контексте метафорически означает не одежду, а некое сложное понятие, подобное «белому человеку» (возможно, «одетый человек» или нечто подобное). Он утверждает, что у такого понятия нет собственной сути бытия, и вводит сложное различение.
Комментарий Д.В. Бугая: Бугай поясняет, что фраза о «двойном способе» – одна из самых трудных для интерпретации в тексте. Речь идет о двух способах, которыми нечто может «не быть самим по себе»:
Путем добавления (κατὰ πρόσθεσιν): Когда к субъекту добавляется предикат, который не является его сущностью (напр., «белый» к «человеку»). Это создает акцидентальное единство.
Путем противопоставления (κατὰ ἀντίφασιν): Возможно, имеется в виду отрицательное высказывание (например, «не-человек»), которое тем более не может иметь собственной сущности, так как определяется через отрицание другой сущности.
Комментарий В. Вундта (зарубежный, интерпретация Лосева): Лосев, опираясь на немецких комментаторов, suggests что здесь Аристотель намекает на различие между простым отрицанием и сложным, акцидентальным образованием. «Платье» не есть сущность ни так, как ею не является «не-лошадь» (отрицание), ни так, как ею не является «образованный человек» (добавление).
Критическое описание: Аристотель углубляет свою критику, показывая, что проблема акцидентальных единств имеет разные аспекты, но все они сводятся к одному: отсутствию самостоятельного, неделимого бытия.
Абзацы [13-16]
Текст Аристотеля: «Одно не утверждается само по себе, если оно, а именно то, что подлежит определению, добавляется к другому… Белый человек – это действительно белый человек, но [15] он не является белым как таковым или понятием белизны… Чистое понятие должно существовать как это, как индивидуальная субстанция, но если нечто является только предикатом другого, то оно не является этим; белый человек, например, [16] не является этим…»
Комментарий и критика:
Здесь Аристотель формулирует решающий критерий, отделяющий сущность от не-сущности. Он проводит различие между тем, что есть само по себе (καθ' αὑτό) и тем, что сказывается о другом (καθ' ἑτέρου).
Комментарий А.Ф. Лосева: Лосев видит здесь кульминацию всей главы. Аристотель устанавливает онтологический критерий сущности: быть «вот этим» (τὸ τόδε τι) – чем-то отдельным и самостоятельным. «Белый человек» не есть «вот это», потому что его бытие производно и зависит от бытия человека, который является субстратом для белизны. Сущность не может быть предикатом; она всегда есть субъект, носитель предикатов.
Комментарий М. Фреде (зарубежный): Frede подчеркивает, что это прямое следствие анализа подлежащего в гл. 3. Истинная сущность – это то, что является первым подлежащем, ultimate subject of predication. «Белый человек» не является первым подлежащим, так как он сам сказывается о человеке (или состоит из человека и акциденции).
Критическое описание: Аристотель делает ясный вывод: только то, что является самостоятельным «этим» (отдельной сущностью), может иметь свою собственную суть бытия. Акцидентальные единства лишены этого статуса.
Абзацы [17-18]
Текст Аристотеля: «Таким образом, существует только чистое «что» того, чье понятие есть определение… но если понятие относится к чему-то существенному… Таким образом, только виды имеют истинно понятийное существование… Для другого действительно существует описательное выражение… но для него не существует определения или понятийного бытия.»
Комментарий и критика:
Это ключевой вывод всей главы. Аристотель утверждает, что определение (ὁρισμός) возможно только для сути бытия (τὸ τί ἦν εἶναι), а она, в свою очередь, существует только у сущностей. Но не у всех сущностей одинаково: наипервейшими носителями сути бытия являются виды (εἴδη).
Комментарий Д.В. Бугая: Бугай поясняет, почему именно вид, а не индивид или род. Род (например, «животное») слишком общ и не может дать конкретного определения. Индивид (например, «этот человек Сократ») включает в себя материю, которая неопределенна и не может быть частью logos'а. Только вид («человек») является完美的 единством формы и выражает чистую, универсальную сущность всех своих индивидов.
Комментарий Дж. Оуэнса (зарубежный): Owens отмечает, что здесь Аристотель максимально сближается с Платоном, признавая, что истинно умопостигаемы и определяемы именно универсальные формы (виды). Однако радикальное отличие в том, что эти формы у Аристотеля не существуют отдельно от материи, а являются внутренними принципами чувственных вещей.
Критическое описание: Это центральный догмат аристотелевской метафизики: сущность, выражаемая в определении, тождественна форме, а форма тождественна виду. Познание сущности – это познание вида.
Абзацы [19-20]
Текст Аристотеля: «Если только определение, [19] как и то, что, не высказывается в нескольких смыслах… Как бытие принадлежит всем, но не одинаково, а [20] одному первоначально, а другому производно, так и то, что принадлежит безусловно только индивидуальной субстанции, а условно и остальным.»
Комментарий и критика:
Аристотель применяет свою знаменитую теорию просапон (πρὸς ἓν) – отнесенности к одному – к понятиям «определение» и «суть бытия». Подобно тому как «бытие» сказывается по-разному о разных категориях (первично о субстанции, производно о качестве, количестве и т.д.), так же обстоит дело и с «чтó есть».
Комментарий А.Ф. Лосева: Лосев видит в этом выводе гениальное разрешение апории об универсалиях. Вопрос «Что есть?» можно задать о чем угодно («Что есть этот человек?» – «Сущность»; «Что есть этот цвет?» – «Качество»). Но собственный и первичный смысл «чтó есть» принадлежит только сущности. О других категориях мы говорим, что они «есть то-то», лишь по аналогии, потому что они принадлежат сущности.
Комментарий Г. Рейля (зарубежный): Reale подчеркивает, что эта теория позволяет Аристотелю сохранить единство значения ключевых терминов метафизики, не впадая в платоновский дуализм. Есть один фокус – первичная сущность – по отношению к которому выстраивается вся структура реальности и познания.
Абзацы [20-21] (продолжение)
Текст Аристотеля: «Ибо мы можем также спросить, что такое качественное, так что качественное тоже есть что, только не безусловно, а примерно так же, как некоторые логически правильно говорят о несуществующем, что оно есть, только не безусловно, а как несуществующее. Теперь верно, что в отношении каждого мы должны также смотреть на то, как мы должны говорить о нем, [21] но еще больше на то, как он ведет себя на самом деле.»
Комментарий и критика:
Аристотель еще раз проясняет свою мысль об аналогии. Мы можем спросить «что это?» о качестве, но ответ («белое») будет означать «что» лишь во вторичном, производном смысле, подобно тому как мы можем сказать о не-сущем, что оно «есть» (в смысле «является не-сущим»), но его бытие – это бытие лишенности, а не позитивное бытие сущности.
Комментарий А.Ф. Лосева: Лосев усматривает здесь важнейший онтологический принцип: приоритет бытия над языком. Нельзя судить о природе вещи лишь по тому, как мы о ней говорим (например, используя слово «что»). Напротив, наш язык должен следовать за реальным положением дел («как он ведет себя на самом деле»). Структура языка (возможность задать вопрос «что?») отражает структуру бытия, но не тождественна ей.
Комментарий Э. Ансакомба (зарубежный): Anscombe (в своей знаменитой работе о логике Аристотеля) подчеркивает, что это различие – краеугольный камень аристотелевской критики платоников, которые, по его мнению, попадают в ловушку языка, принимая грамматическую форму за онтологическую реальность (например, если есть слово «справедливость», значит, есть и такая отдельная сущность).
Критическое описание: Аристотель предупреждает против наивного буквализма в метафизике. Философ должен анализировать не слова сами по себе, а стоящую за ними реальность.
Абзац [22]
Текст Аристотеля: «Итак, поскольку то, о чем мы только что говорили, будет понятно, мы можем сказать, что, подобно [22] чему, чисто понятийное бытие, во-первых, безусловно обусловлено индивидуальной субстанцией, но, во-вторых, также и остальным, а именно таким образом, что это остальное не существует как чисто понятийное бытие, но что качественное или количественное принадлежит его сущности.»
Комментарий и критика:
Здесь подводится итог учению об аналогии. Суть бытия («чисто понятийное бытие») в собственном и первичном смысле (πρώτως – протос) принадлежит только индивидуальной субстанции. Для других категорий (качества, количества и т.д.) «чтó есть» существует лишь во вторичном смысле (δευτέρως – дейтерос).
Комментарий Д.В. Бугая: Бугай поясняет, что, например, суть бытия качества (скажем, белизны) – это не быть самостоятельной вещью, а быть определенным качеством некоторой субстанции. Ее бытие и ее определение производны от бытия субстанции, которой она принадлежит. Ее «чтóсть» – это «быть таким-то качеством».
Комментарий Дж. Оуэнса (зарубежный): Owens отмечает, что это утверждение систематизирует всю аристотелевскую онтологию, устанавливая строгую иерархию: сущность (οὐσία) есть центр, а все остальные категории – ее модусы или атрибуты.
Критическое описание: Это итог всего предшествующего анализа. Устанавливается аксиома: онтологический примат сущности над акциденциями влечет за собой логический и понятийный примат ее сути бытия.
Абзацы [23-24]
Текст Аристотеля: «Этот последний вид бытия мы должны либо назвать бытием только на словах… правильнее, однако, считать это производное бытие не омонимичным и не тождественным с действительным бытием, а таким, как медицинское… Медицинское тело, например, медицинское произведение и медицинский аппарат не являются ни просто омонимами, ни действительно одним, но они относятся к одному…»
Комментарий и критика:
Аристотель уточняет тип этой связи. Связь между первичным и производным смыслом «чтó есть» – это не омонимия (случайное совпадение имени, как «ключ» от двери и «ключ» родник) и не синонимия (полное тождество значения, как у «быка» животного и его изображения). Это отнесенность к одному (πρὸς ἓν).
Комментарий А.Ф. Лосева: Лосев считает этот момент фундаментальным. Аристотель находит «золотую середину» между релятивизмом (все значения слова случайны) и платоновским гипостазированием (каждому слову соответствует одна идея). Медицинский инструмент, медицинская книга и медицинский работник – все они называются «медицинскими» не случайно и не одинаково, а потому что их значение отсылает к одному общему фокусу – искусству врачевания.
Комментарий Г. Рейля (зарубежный): Reale подчеркивает, что точно так же «чтó есть» цвета, количества и т.д. отсылает к единому фокусу – сущности. Их бытие-как-«чтó» производно от первичного бытия-как-«чтó» субстанции.
Критическое описание: Аристотель вводит мощный философский инструмент – «проса пон» – который позволяет ему объяснить единство и системность реальности, не отрицая ее многообразия.
Абзацы [25-28]
Текст Аристотеля: «…всякое слово, обозначающее то же самое, что и понятие, теперь также является определением, но это происходит только тогда, когда слово является синонимом определенного понятия… Единое, однако, выражается как сущее: сущее обозначает [28] отчасти это, отчасти количественное, отчасти качественное. Следовательно, есть также понятие и определение белого человека, но в ином смысле белого и единой субстанции.»
Комментарий и критика:
В заключение Аристотель возвращается к начальной проблеме – определению. Не всякое словосочетание, выражающее некое понятие, является определением сущности. Определение в строгом смысле требует синонимии, т.е. полного совпадения сути бытия между определяемым и определяющим.
Комментарий В.П. Леги: Лега указывает, что это окончательный приговор акцидентальным единствам. У «белого человека» есть некое описательное понятие (λόγος), но это не определение (ὁρισμός), так как понятие «белого человека» не синонимично понятию «человека» – оно добавляет несущественный признак.
Комментарий М. Фреде (зарубежный): Frede резюмирует: глава пришла к своему логическому завершению. Истинное определение возможно только для видов сущности. Для всего остального возможны лишь описания, значение которых производно и отнесено к сущности. Единство сущего, выраженное в analogia entis, гарантирует, что эти описания не бессмысленны, но их статус fundamentally отличен.
Критическое описание: Глава 4 завершает построение строгой теории сущности и ее определения. Аристотель установил, что:
Суть бытия – это то, что присуще вещи «само по себе».
Она выражается в определении.
Определение в собственном смысле существует только для сущностей.
Среди сущностей наипервейшим носителем сути бытия является вид (эйдос).
Для акцидентальных единств нет собственной сути бытия, а их понятия имеют смысл лишь через отнесенность к первичной сущности.
Это основа для дальнейшего анализа, который будет углубляться в природу самой формы и ее соотношение с материей и составной вещью.
Обобщение главы 4: Сущность как «чтойность»
Глава 4 представляет собой позитивный концептуальный прорыв в исследовании сущности. Если предыдущая глава была негативной (критика материи как сущности), то здесь Аристотель переходит к анализу следующего кандидата – «сути бытия» (τὸ τί ἦν εἶναι) или «чтойности». Его цель – выяснить, что представляет собой сущность, выраженная в понятии и определении.
Основной тезис главы: Истинная сущность вещи – это её «чтойность», выражаемая в определении (ὁρισμός). Однако определение в строгом смысле возможно только для субстанций (первично – для их видов, εἴδη), но не для акцидентальных единств, чьё бытие производно и сводимо к бытию субстанции.
Ключевые выводы по структурным элементам главы:
Методологический переход к «более известному по природе». Аристотель совершает переход от анализа подлежащего (онтология) к анализу понятия (логика). Он движется от чувственно данных вещей («известное нам») к их умопостигаемым принципам и причинам («известное по природе»), каковым и является чтойность (Лосев, Зеллер). Это апостериорный метод, противопоставленный априорному методу Платона (Лега).
Критерий чтойности: «само по себе» vs «по совпадению». Центральный инструмент анализа – различение того, что принадлежит вещи «само по себе» (καθ' αὑτό) и что присуще ей «по совпадению» (κατὰ συμβεβηκός). Суть бытия – это то, что составляет природу вещи необходимо и без чего она не может быть собой (Бугай). Это исключает из определения все случайные и преходящие признаки.
Критика акцидентальных единств. Аристотель доказывает, что у сложных образований типа «белый человек» нет собственной чтойности. Их единство случайно, а не субстанциально. Они не являются самостоятельным «вот этим» (τὸ τόδε τι) и их понятие не синонимично понятию субстанции (Лосев, Фреде). Это пробный камень, показывающий силу его метафизики в различении подлинного и неподлинного бытия (Глушаков).
Утверждение вида (эйдоса) как носителя чтойности. Главный вывод главы: наипервейшим носителем сути бытия является вид (εἶδος). Род слишком общ, а индивид включает неопределённую материю, не схватываемую в понятии. Только вид представляет собой完美ное единство формы и выражает универсальную сущность всех своих индивидов (Бугай, Оуэнс). Таким образом, сущность, форма и вид оказываются тесно связаны.
Теория аналогии (πρὸς ἓν) и онтологический примат субстанции. Аристотель применяет свою теорию «отнесённости к одному» к понятиям «бытие» и «чтó есть». Подобно тому как бытие первично присуще субстанции, а прочим категориям – производно, так и «чтó есть» в собственном смысле принадлежит только субстанции. «Чтó есть» качества или количества – это его бытие как атрибута субстанции (Лосев, Рейль). Это устанавливает строгую иерархию в онтологии: сущность – центр, акциденции – её модусы.
Приоритет бытия над языком. Важный методологический принцип: нельзя судить о природе вещи лишь по тому, как мы о ней говорим (например, задавая вопрос «что это?»). Напротив, язык должен следовать за реальным положением дел («как он ведет себя на самом деле»). Это предупреждение против платоновской ошибки гипостазирования, когда языковому выражению приписывается отдельное онтологическое существование (Лосев, Анскомб).
Итоговое обобщение:
Глава 4 закладывает логико-понятийный фундамент всей последующей метафизики Аристотеля. Он устанавливает, что:
Сущность есть то, что выражается в определении.
Определение раскрывает чтойность вещи – то, что она есть «сама по себе».
Чтойность в собственном смысле присуща только субстанциям, а именно – их видам.
Бытие и понятийность акциденций производны и отнесены к бытию субстанции.
Этот анализ позволяет Аристотелю снять дихотомию между единичным (материя) и общим (идея): вид (эйдос) не существует отдельно, как у Платона, но является общей сущностью, имманентно присущей множеству индивидов и выражаемой в их определении. Таким образом, глава 4 является мостом от критики материи к утверждению формы как истинной сущности.
Глава 5. Проблема определения сложных сущностей: допустимо ли «определение через добавление»?
Общий контекст главы.
В 7-й книге («Зете») Аристотель исследует сущность (οὐσία). В главе 5 он сталкивается с фундаментальной проблемой: что может быть объектом истинного определения (λόγος, ὁρισμός)? Определение должно раскрывать сущность вещи. Здесь Аристотель argues, что сложные понятия (как «курносый») создают апории для теории определения, и приходит к выводу, что определение в собственном смысле слова возможно только для простых сущностей.
Критический разбор по абзацам
[1] Здесь возникает трудность. Если не принимать в качестве определения понятие, созданное путем добавления нескольких характеристик, то возникает вопрос, в каком случае происходит определение чего-то не простого, а связанного. Ведь такое понятие может быть определено только путем добавления дополнительных характеристик.
Комментарий и критика (на основе Лосева, Бугая и зарубежных комментаторов):
Аристотель намечает центральную дилемму. Истинное определение, по его мнению, должно быть простым и указывать на единую сущность (τί ἐστι – что есть вещь). Но в языке и мышлении мы постоянно имеем дело со сложными, составными понятиями («курносый», «бледный человек»). Возникает вопрос: можно ли такие понятия определять, не сводя их к простым? Если нет, то мы лишаемся определения для огромного пласта реальности. Если да, то мы рискуем допустить «определение» через простое перечисление признаков, что для Аристотеля неприемлемо, так как такое определение не будет выражать единую сущность, а будет лишь акцидентальным соединением.
А.Ф. Лосев подчеркивает, что эта апория вытекает из самого аристотелевского понимания сущности как чего-то индивидуального и неделимого. Сложное образование уже не является первичной сущностью.
Зарубежные комментаторы (например, W.D. Ross) отмечают, что Аристотель здесь готовится провести жесткое разграничение между определением-сущностью (для простых субстанций) и описанием-через-сложение (для всего остального).
[2] Так, например, существуют нос и пустота, а пустотой называется то, что состоит из обоих, поскольку одно находится в другом; и действительно, пустота и пустота – это не случайные, а фундаментальные определения носа;
Комментарий и критика:
Аристотель выбирает пример «σιμός» (курносый, вздернутый, приплюснутый нос). Он разлагает это понятие на две части: 1) сам нос (субстанция) и 2) свойство «курносости» (вогнутость, пустота). Важный момент: он утверждает, что это соединение не случайное (не как «человек белый»), а сущностное («фунментальное»). Курносость по его мнению есть определенный вид вогнутости, а именно – вогнутость носа. Это ключевой пункт для последующей критики.
Комментаторы (как отечественные, так и зарубежные) видят здесь проблему. Является ли «курносость» действительно сущностным, а не акцидентальным свойством? Можно ли считать ее отдельным видом вогнутости? Критики Аристотеля (например, Порфирий) later argued, что «курносый» – это все же акцидентальное свойство носа, а не его видовая дифференция. Аристотель же намеренно выбирает сложный пример, чтобы проверить границы своей теории.
[3] не так, как белизна принадлежит Каллиасу или человеку, поскольку Каллиас – белый, а человек – случайно, но как мужественность принадлежит животному и то же самое – количественному, то есть в порядке фундаментального определения.
Комментарий и критика:
Здесь Аристотель противопоставляет два типа предикации:
Случайная (акцидентальная): «Каллиас – белый». Белизна не является сущностным свойством Каллиаса-человека.
Сущностная (в порядке фундаментального определения): «Животное – мужское» (если рассматривать «мужское» как дифференцию внутри вида «животное»). Или «число – нечетное». Нечетность – не случайное свойство числа, а свойство, вытекающее из его сущности (делимости на два).
Бугай Д.Д. в своих работах обращает внимание на то, что Аристотель пытается найти промежуточный класс предикатов, которые не являются ни чистыми субстанциями, ни чистыми акцидентами. Это предикаты, которые хотя и не существуют отдельно, но определяют способ существования субстанции (например, быть мужским или женским для животного).
[4] Такое фундаментальное определение – это определение, в котором содержится понятие или слово, которым оно определяется, и которое не может быть понято без этого понятия; например, белизну нельзя определить без понятия мужчины, а женственность нельзя определить без понятия животного.
Комментарий и критика:
Аристотель формулирует критерий: определение сложного понятия не может обойтись без упоминания субстанции, к которой оно относится. Нельзя определить «курносость» без упоминания «носа», «нечетность» – без «числа», «мужественность» – без «животного». Это означает, что подобные сложные понятия онтологически зависимы от первичных сущностей.
Лосев видит здесь сильную сторону аристотелевской системы: последовательный субстанциализм. Все существующее существует либо как сущность, либо в связи с сущностью. Однако критика заключается в том, что этот принцип делает определение любого не-простого объекта вторичным и производным, potentially обедняя онтологию.
[5] Либо, следовательно, не существует чистого понятия и концептуального определения для любого из этих конкретных понятий, либо, [6] как я уже сказал, каким-то другим способом.
Комментарий и критика:
Аристотель ставит вопрос ребром: если сложные понятия нельзя определить без обращения к субстанции, значит ли это, что для них вообще не существует самостоятельного определения? Или же их определение возможно, но «каким-то другим способом»?
Этот пассаж показывает, что Аристотель осознает ограниченность жесткого подхода. Он оставляет дверь приоткрытой для поиска иного типа определения для не-субстанций, но основной вектор его мысли ведет к первому, более жесткому выводу.
[7] Здесь возникает еще одна трудность. Если полый нос и полый нос – это одно и то же, то полый нос и полый – это одно. Но если нет, то, поскольку невозможно говорить о полом носе в отрыве от предмета, для которого он предназначен (ведь полый нос – это пустота в носу), то либо вообще нельзя называть нос полым, либо дважды говорить одно и то же – полый нос, ибо полый нос будет полым носом. [8] По этой причине невозможно, чтобы существовало концептуальное бытие такой вещи, как полый нос: ведь полый нос снова будет иметь нечто другое, присущее ему.
Комментарий и критика:
Это ядро апории. Аристотель применяет логический анализ:
Если «курносый нос» = «курносость», то мы приходим к абсурду: часть (свойство) равна целому (носу, обладающему свойством).
Если же это не одно и то же (что верно), то мы сталкиваемся с тавтологией в определении. Определить «курносый» как «вогнутый нос» – значит сказать «курносый нос – это нос, который является курносым», то есть дважды повторить одно и то же (нос + курносый). Это не раскрывает сущность, а лишь перефразирует имя.
Вывод: у сложного объекта «курносый нос» нет своей собственной, неделимой сущности («концептуального бытия»). Он лишь комбинация двух других сущностей.
Зарубежные комментаторы (например, M. Frede) видят здесь зарождение проблемы синонимии и аналитичности. Аристотель, по сути, требует, чтобы определение давало новое знание, а не было простой подстановкой синонимов. Его критика тавтологичности очень современна.
[9] Итак, ясно, что существует определение только индивидуальной субстанции: если существует такое определение и других предикатов, то оно обязательно возникает путем сложения, как, например, в случае качественного и нечетного: нечетное нельзя определить без понятия числа, женское – без понятия животного. Определением [10] через дополнение я называю то, при котором приходится говорить одно и то же [11] дважды, как в приведенных примерах.
Комментарий и критика:
Здесь Аристотель делает решительный вывод. Подлинное определение (раскрывающее сущность) возможно только для первичной сущности (например, для «человека» или «лошади»). Все остальное – качества, свойства, отношения – может быть лишь «определено через дополнение» (προσθέσει λέγεσθαι), то есть путем привязки к субстанции. Такое «определение» является тавтологичным и не выражает самостоятельной сущности.
Критический взгляд: Этот вывод радикален. Он implies, что вся наука (за исключением, perhaps, первой философии и теологии) имеет дело не с определениями сущностей, а с описаниями акцидентальных или хотя и сущностных, но зависимых свойств. Это raises вопрос о статусе математики (определение нечетного числа) и биологии (определение самки).
[12] Если это верно, то не будет и определения сложного, например, нечетного числа, но человек идет на это неточно, не осознавая этого. Но если и существуют определения соединенного, то они либо даются по-другому, либо, как уже отмечалось выше, определение и понятие используются в нескольких значениях.
Комментарий и критика:
Аристотель честно применяет свой вывод к другим областям: даже «нечетное число» – сложное понятие, и, следуя его логике, не должно иметь истинного определения. Но люди все же дают такие определения, будучи не до конца строгими.
Однако он делает важную уступку: возможно, есть иной способ определения сложного, или же термин «определение» омонимичен, то есть имеет разный смысл применительно к сущностям и к не-сущностям.
Лосев высоко ценит эту диалектическую осторожность Аристотеля. Философ не просто отвергает все сложные понятия, а указывает на проблему и намечает возможные пути ее решения через анализ значений слов.
[13] Таким образом, с одной стороны, относится исключительно к отдельным субстанциям – определению и понятию, с другой – не исключительно. Теперь ясно, что определение есть понятие сущности [14], и что понятийное бытие либо принадлежит исключительно отдельным субстанциям, либо преимущественно и первично и безусловно.
Комментарий и критика:
Итог главы – компромиссный, но с четко расставленными приоритетами.
В первичном и абсолютном смысле (πρώτως καὶ ἁπλῶς) определение и сущность принадлежат только индивидуальным субстанциям.
В производном и вторичном смысле мы можем говорить о «определениях» и «сущностях» качеств, свойств и отношений, но только как о чем-то зависящем от субстанции.
Бугай и другие современные комментаторы отмечают, что эта глава – не приговор другим категориям, а прояснение их онтологического статуса. Они существуют, но их способ существования – это «бытие-в-другом» (в сущности). Таким образом, Аристотель строит иерархическую онтологию, во главе которой стоит индивидуальная субстанция, а все остальные категории являются ее модусами.
Общий итог критического анализа
Глава 5 демонстрирует силу и слабость аристотелевского субстанциализма.
Сила: Логическая строгость, последовательность, защита индивидуального сущего как фундамента реальности. Аристотель успешно показывает проблематичность рассмотрения сложных свойств как самостоятельных сущностей и избегает платоновского гипостазирования идей (например, «идеи курносости»).
Слабость (предмет критики): Выводы главы кажутся излишне редукционистскими. Они ставят под сомнение научный статус любых дисциплин, кроме тех, что изучают простые субстанции. Уступка о «разных смыслах» определения выглядит как запоздалая попытка смягчить слишком жесткий вывод. Проблема определения сложных, но устойчивых единств (как «нечетное число», «радуга», «гроза») в полной мере не решается и остается вызовом для аристотелевской системы.
Комментаторы (и отечественные, и зарубежные) сходятся во мнении, что значение этой главы – не в окончательных ответах, а в постановке глубокой и чрезвычайно важной проблемы отношения языка, логики и онтологии.
Обобщение: Проблема определения сложных сущностей у Аристотеля.
Основной тезис главы: Истинное определение (ὁρισμός), раскрывающее сущность (τί ἐστι), в первичном и абсолютном смысле возможно только для простых, индивидуальных субстанций (первичных сущностей). Определение сложных, составных понятий (таких как «курносый», «нечетное число») проблематично и, если возможно, то лишь во вторичном, производном смысле, через добавление (πρόσθεσις) и привязку к субстанции.
Ключевые выводы и аргументы Аристотеля:
Дилемма определения: Возникает апория: если не признавать определение через простое сложение характеристик, то как определить сложные, но целостные понятия? Если же признать такой способ, то определение рискует стать простым перечислением акциденций, не выражающим единой сущности.
Критерий истинного определения: Определение должно быть не-тавтологичным и давать новое знание. Определение «курносый нос» как «нос, обладающий курносостью» нарушает этот принцип, так как является круговым и не раскрывает сущность.
Онтологическая зависимость: Сложные понятия (свойства, качества) онтологически зависимы от первичных сущностей. Нельзя определить «курносость» без ссылки на «нос», а «нечетность» – без ссылки на «число». Их бытие – это «бытие-в-другом».
Два типа предикации: Аристотель различает:
Случайную (акцидентальную): «Каллиас – белый». Белизна не есть сущность Каллиаса.
Сущностную («в порядке фундаментального определения»): «животное – мужское» или «число – нечетное». Здесь свойство хотя и не является самостоятельной сущностью, но определяет способ существования субстанции (ее вид, состояние).
Окончательный вывод: Строго говоря, у сложных образований нет своей собственной, неделимой сущности («концептуального бытия»). Они являются комбинациями. Поэтому:
Первично и абсолютно определение относится только к индивидуальным субстанциям.
Вторично и по-другому мы можем говорить о «определениях» свойств и качеств, но лишь как об описаниях, данных «через добавление» к субстанции.
Критическая оценка (на основе комментариев):
Сила позиции Аристотеля:
Логическая строгость: Последовательный субстанциализм защищает мир от превращения каждого свойства в отдельную сущность (критика платоновского гипостазирования идей, например, «идеи курносости»).
Прояснение онтологического статуса: Четко выстраивает иерархию бытия: во главе – независимая субстанция, все остальные категории – ее зависимые модусы.
Актуальность: Поднятая проблема тавтологичности и аналитичности в определениях остается крайне важной для философии и логики по сей день.
Слабость и проблемность позиции:
Редукционизм: Выводы главы излишне жестки. Они ставят под сомнение научный статус дисциплин, изучающих сложные, но устойчивые единства (математика – «нечетное число», физика – «гроза», биология – «самка»). Если у них нет истинных определений, то что же тогда дает их наука?
Недоработанность альтернативы: Уступка о том, что определение может иметь «несколько значений» или что сложное можно определить «каким-то другим способом», выглядит как намек на решение, а не само решение. Это ослабляет жесткость основной позиции, но не предлагает четкой альтернативной модели.
Проблема статуса сложных свойств: Не до конца ясно, как надежно отличить сущностное свойство («мужественность» животного) от акцидентального («белизна» Каллиаса), если оба онтологически зависимы.
Общее значение главы:
Глава 5 имеет методологическое, а не догматическое значение. Ее главная ценность – не в окончательных ответах, а в глубокой и точной постановке фундаментальной проблемы на стыке логики, языка и онтологии: как язык и логические определения соотносятся со сложной структурой реальности? Аристотель не столько закрывает вопрос, сколько открывает поле для дальнейших исследований, очерчивая границы применимости своего ключевого понятия – определения.
Глава 6. Тождество вещи и её сущности: критический анализ и доказательство единства.
Общий контекст главы
Аристотель в этой главе решает центральный вопрос своей онтологии: является ли сущность (οὐσία) вещи тождественной ее понятию (λόγος τῆς οὐσίας, определение, формула сущности). Это прямой вызов платоновской теории идей, где идея (эйдос) существует отдельно от вещи. Аристотель доказывает, что для первичной сущности (индивидуальной субстанции) такое тождество необходимо, в то время как для акциденталий (случайных свойств) – нет.
Последовательно-абзацный анализ
[1] Тождественна ли какая-либо вещь своему понятию или нет, должно быть принято во внимание, поскольку это способствует исследованию индивидуальной субстанции. Ибо каждая вещь представляется не чем иным, как своей сущностью, а понятие есть сущность каждой вещи.
Комментарий (Лосев, Бугай): Аристотель сразу задает тон исследованию, связывая проблему тождества с анализом индивидуальной субстанции (τode τι – «вот это нечто»). Утверждение, что «каждая вещь есть своя сущность», – ключевой тезис. Это означает, что сущность не есть нечто внешнее по отношению к вещи (как у Платона), а является ее внутренним принципом и причиной бытия. «Понятие» (λόγος τῆς οὐσίας) здесь – не психологическое представление, а логическое определение, выражающее чтойность (τὸ τί ἦν εἶναι) вещи, то есть ее сущность. Таким образом, вопрос ставится так: тождественна ли сама вещь (как сущность) своему собственному определению?
[2] В случае с тем, что утверждается как факт, понятие и сущность кажутся различными, например, белый человек отличается от понятия белого человека.
Комментарий (Бугай): Здесь Аристотель вводит важнейшее различие между субстанцией (сущностью) и акциденцией (случайным свойством). «Белый человек» – это не первичная сущность, а сложное образование: субстрат (человек) плюс акцидентальное свойство (белизна). Его понятие также будет сложным и составным. Поэтому их тождество неочевидно и проблематично. Это отправная точка для критики.
[3-4] Если бы оба понятия были тождественны, то понятие человека и понятие белого человека также были бы тождественны… Поэтому нет необходимости в том, чтобы случайное было тождественно своему понятию…
Комментарий (Лосев): Аристотель применяет метод reductio ad absurdum (сведение к абсурду). Если бы мы признали тождество вещи и понятия для акцидентальных комплексов (вроде «белого человека»), это привело бы к смешению сущностных и не-сущностных предикатов. Понятие «человека» (сущность) и понятие «белого человека» (сущность + акциденция) были бы одним и тем же, что абсурдно. Критический вывод: Для акциденций (случайных свойств) и их сочетаний с субстанцией тождество с понятием не необходимо.
[5-7] Но необходимо ли в случае бытия-для-себя, чтобы понятие и бытие были тождественны? Предположим, например, что существуют известные субстанции, более ранние… которые некоторые называют идеями. Ведь если реальное благо отличается от понятия блага… то, кроме упомянутых, должны существовать и другие субстанции… Если же оба [понятие и сущность] отделить друг от друга, то не будет ни науки об одном, ни сущности о другом.
Комментарий (Бугай, Лосев): Аристотель переходит к главному – к сущностям самым по себе (καθ' αὑτά). Он использует гипотезу идей Платона, чтобы показать ее внутреннее противоречие.
Аргумент «третьего человека»: Если идея Блага (реальное благо) отлична от своего понятия (λόγος), то должно существовать нечто третье, что опосредует это отношение, и так до бесконечности. Это классическое возражение Аристотеля против Платона.
Гносеологический аргумент: Наука (ἐπιστήμη) возможна только тогда, когда наше понятие (знание) адекватно самой вещи. Если сущность (идея) и ее понятие радикально разделены, познание становится невозможным. Мы будем знать лишь понятия, но не сами сущности, и наоборот.
[8-11] Ибо наука о вещи имеет место, когда мы узнали ее понятие… Отсюда с необходимостью следует, что хорошее тождественно понятию хорошего, прекрасное – понятию прекрасного…
Комментарий (Лосев): Это кульминация аргументации. Аристотель делает сильный онтологический вывод из гносеологического требования. Если понятие бытия не есть само бытие, то оно ложно, и все знание рушится. Чтобы знание было истинным, а не пустым именованием, сущность вещи должна быть тождественной ее понятию. Это тождество справедливо не для акциденций, а для того, что существует «не в другом, а в себе и для себя и сущностным образом» (μὴ κατ' ἄλλο ἀλλὰ καθ' αὑτὰ καὶ ἁπλῶς). То есть для первичных сущностей.
[12] Этот результат достаточен, даже если нет идей, и, возможно, тем более, если идеи есть.
Комментарий (Бугай): Аристотель подчеркивает силу своего аргумента. Он работает независимо от принятия или отрицания теории идей. Более того, если идеи и существуют, то его аргумент их не опровергает, а, наоборот, предъявляет к ним жесткое требование: каждая идея должна быть тождественна своему собственному понятию, а не быть отделенной от него.
[13-16] В то же время ясно, что субстрат не может быть единой субстанцией, если идеи таковы… Согласно этим причинам, каждая вещь не просто случайно тождественна своему понятию… о случайном… нельзя с достоверностью сказать, что его понятие и его действительное бытие – одно и то же…
Комментарий (Лосев): Здесь Аристотель суммирует и проводит окончательное разграничение.
Для первичных сущностей (индивидуальных, например, вот этого человека Сократа): его сущность (чтойность – быть человеком) тождественна понятию «человека». Этот конкретный человек есть его сущность, выраженная в понятии.
Для акциденций и сложных сущих: Тождества нет. Аристотель уточняет: акциденция (напр., белизна) двусмысленна. Она может означать и само свойство (белизну как качество), и обладателя свойства (белого человека). Свойство в себе может быть тождественно своему понятию (понятие «белизны» выражает сущность белизны), но свойство как принадлежащее субстрату – нет.
[17-18] Вся несостоятельность разделения понятия и реального бытия стала бы очевидной… Но почему бы не считать нечто тождественным с его понятийным бытием… если понятие есть субстанция? Но не только понятие и реальное бытие тождественны, но даже их мысль – одно и то же… Если бы понятие и бытие различались, это продолжалось бы до бесконечности…
Комментарий (Бугай): Аристотель приводит два дополнительных мощных аргумента против разделения:
Аргумент от бесконечного регресса: Если вещь (А) отлична от своего понятия (П1), то для понятия П1, которое тоже является неким «сущим», должно существовать свое понятие (П2), и так до бесконечности. Это делает познание невозможным. Единственный способ остановить регресс – признать тождество вещи и ее понятия на уровне сущности.
Аргумент от единства мысли и бытия: Мысль о сущности (понятие) и сама сущность – одно и то же. Это не означает субъективный идеализм, а говорит о том, что ум (νοῦς), постигая сущность, становится ею в акте мышления (как подробнее будет сказано в кн. XII). Форма вещи в уме тождественна форме вещи в самой вещи.
[19-21] Итак, ясно, что в случае сущностного и внутренне существующего понятие и реальность – одно и то же. Таким образом, софистические возражения… против вопроса о том, являются ли Сократ и понятие Сократа одним и тем же, также разрешаются…
Комментарий (Лосев): Аристотель применяет свой вывод к разрешению софистической проблемы. Софисты смешивали уровни: они спрашивали, тождественен ли конкретный индивид Сократ (со всеми его случайными свойствами: бледный, сидящий и т.д.) понятию «Сократ». Правильный ответ, по Аристотелю, заключается в том, что Сократ как сущность (как человек, как живое существо определенного вида) тождествен понятию своей сущности («человек»). Но Сократ как конкретный чувственный комплекс – нет. Таким образом, вопрос снимается путем уточнения, о каком аспекте бытия Сократа идет речь.
Критическое резюме на основе комментаторов
Критика Платона: Глава является образцом полемики Аристотеля с учителем. Он не отвергает «эйдос» (форму) как таковой, но отвергает его самостоятельное существование в виде идеи. Эйдос существует в самой вещи и тождествен ее внутренней сущностной формуле.
Различение сущности и акциденции: Фундаментальный вклад Аристотеля – четкое разделение сфер, где тождество с понятием имеет место (сущность), и где оно отсутствует (акциденция). Это различение снимает множество псевдопроблем.
Онтологизация логики: Аристотель показывает, что логические структуры (понятия, определения) не являются чисто мыслительными конструкциями; они отражают реальную структуру бытия самой сущности. Истинное определение открывает саму вещь.
Гносеологический оптимизм: Тезис о тождестве бытия и мысли лежит в основе аристотелевской уверенности в возможности истинного, адекватного познания мира. Познать вещь – значит постичь ее сущность, которая и выражена в понятии.
Проблема индивидуации: Комментаторы (особенно Лосев) отмечают, что хотя Аристотель и доказывает тождество для индивидуальной субстанции, остается вопрос: как индивидуальное (уникальное, невыразимое) тождественно всеобщему (понятию, которое по природе своей обще)? Аристотель намечает ответ через понятие формы, реализованной в материи, но проблема остается одной из центральных в средневековой и новой философии.
Таким образом, 6-я глава – это стержневой текст, в котором Аристотель утверждает единство логики, онтологии и эпистемологии через принцип тождества сущности вещи и ее понятия, одновременно проводя жесткую и плодотворную границу между миром сущностей и миром случайных свойств.
Обобщение: Тождество вещи и её сущности
Основной тезис главы: Для первичных сущностей (индивидуальных субстанций) сама вещь тождественна своей сущности (τὸ τί ἦν εἶναι – чтойности), а сущность тождественна своему понятию (λόγος τῆς οὐσίας – определению, формуле сущности). Для акциденций (случайных свойств) и сложных образований (вроде «белый человек») такое тождество отсутствует.
Ключевые выводы и аргументы Аристотеля:
Постановка центральной проблемы: Вопрос о тождестве вещи и ее понятия прямо вытекает из исследования индивидуальной субстанции. Утверждение, что «каждая вещь есть своя сущность», является фундаментальным и отрицает платоновское отделение идеи (эйдоса) от вещи.
Критика платоновского дуализма: Аристотель использует классические аргументы против теории идей:
Аргумент «третьего человека»: Если идея Блага отлична от своего понятия, то требуется третье, их объясняющее, что ведет к дурной бесконечности.
Гносеологический аргумент: Если сущность (идея) и ее понятие разделены, то познание становится невозможным. Мы будем знать лишь понятия, но не сами сущности. Истинная наука (ἐπιστήμη) требует тождества объекта знания и его понятия в уме.
Различение сущности и акциденции: Это главный методологический инструмент главы.
Для акциденций («белый человек»): Тождества с понятием нет. Понятие «белого человека» – сложное и составное, оно не выражает единой сущности. Признание тождества здесь ведет к абсурду (смешению сущности «человека» и акцидентального комплекса «белый человек»).
Для первичных сущностей («вот этот человек»): Их сущность (быть человеком) тождественна понятию «человека». Конкретный индивид есть его сущность, выраженная в определении.
Онтологическое доказательство единства: Аристотель приводит дополнительные логические аргументы:
Аргумент от бесконечного регресса: Если вещь (А) отлична от своего понятия (П1), то для П1 должно существовать свое понятие (П2), и так до бесконечности. Остановить регресс можно, лишь признав изначальное тождество.
Аргумент от единства мысли и бытия: Мысль о сущности (понятие) и сама сущность – одно и то же в акте познания. Ум, постигая форму вещи, становится ею.
Ответ софистам: Софистические возражения (тождественен ли Сократ понятию «Сократ») снимаются путем разграничения аспектов: Сократ как сущность (как человек) тождествен понятию своей сущности («человек»). Сократ как конкретный чувственный комплекс (бледный, сидящий) – нет.
Критическая оценка (на основе комментариев):
Сила и значение позиции Аристотеля:
Опровержение платонизма: Эффективная критика отдельно существующих идей. Аристотель «возвращает» эйдос в саму вещь в качестве имманентного принципа и формы.
Фундамент для научного познания: Тезис о тождестве сущности и понятия лежит в основе аристотелевского эпистемологического оптимизма. Он гарантирует, что наши определения и понятия могут адекватно отражать реальную структуру бытия.
Синтез логики и онтологии: Глава демонстрирует глубокое единство у Аристотеля логических структур (определение, понятие) и онтологических структур (сущность, форма). Логика является инструментом постижения бытия.
Четкое категориальное разграничение: Разделение на сущность и акциденцию является мощным аналитическим инструментом, позволяющим избежать множества логических и метафизических ошибок.
Проблемные места и критика:
Проблема индивидуации: Это центральная проблема, отмеченная комментаторами (Лосев). Если сущность выражается во всеобщем понятии («человек»), то как оно может быть тождественно индивидуальной субстанции (уникальному Сократу)? Понятие «человек» одинаково и для Сократа, и для Платона. В чем тогда состоит их индивидуальная сущность? Аристотель намечает ответ через понятие материи как принципа индивидуации, но эта проблема остается открытой и становится ключевой для последующей философии.
Статус акциденций: Хотя Аристотель ясно показывает, что акциденции не тождественны своему понятию в том же смысле, что и сущности, их онтологический статус (способ бытия «в другом») требует дальнейшего прояснения.
Общее значение главы:
Глава 6 – смысловой центр не только книги VII, но и всей метафизики Аристотеля. В ней доказывается краеугольный камень его системы: тождество бытия и мысли на уровне сущности. Это утверждение, что реальность умопостигаема, а logos (понятие, разум) способен адекватно схватывать ousia (сущность), является одним из самых влиятельных положений в истории западной философии, закладывающим основы научного и философского рационализма.
Глава 7. Природа становления: анализ причин и роли материи и формы в процессе возникновения.
Общий контекст главы.
Аристотель в этой главе продолжает исследование сущности (οὐσία) и её становления. Он анализирует типы становления (по природе, искусству, случаю) и ключевые принципы любого изменения: «через что» (движущая причина), «из чего» (материя) и «во что» (форма). Это центральный момент для понимания его гилеморфизма (учения о материи и форме).
[1] Из вещей, которые появляются на свет, одни становятся по природе, другие – по искусству, третьи – по воле случая. Но все, что становится, становится через что-то, из чего-то и чем-то. Это нечто может подпадать под любую категорию, оно может быть этим, или качественным, или количественным, или где.
Комментарий (Лосев, Бугай): Аристотель начинает с классификации видов становления (γένεσις). Важно, что он сразу подчёркивает универсальную структуру любого изменения: у него всегда есть 1) источник движения или деятель («через что»), 2) материальный субстрат («из чего») и 3) цель или форма («чем-то», т.е. во что оно превращается). Утверждение, что причина может относиться к любой категории (сущность, качество, количество, место), означает, что изменение может быть не только субстанциальным (возникновение новой вещи), но и качественным (изменение свойства), количественным (увеличение) и т.д.
Критическое описание: Это введение задаёт аналитический framework для всей последующей главы. Аристотель не просто описывает, а декомпозирует процесс становления на его необходимые компоненты, что является классическим примером его метода.
[2] Что касается естественного становления, то это то, что становится от природы.
Комментарий (Бугай): Здесь Аристотель лишь обозначает сферу анализа, которую он рассматривает первой – природное становление. «От природы» (φύσει) означает, что принцип движения и покоя находится в самой вещи, а не привнесён извне, как в искусстве.
[3] То, что становится чем-то, – это материя; то, чем она становится, – это природная вещь; то, чем она становится, – это человек или растение, короче говоря, то, что мы предпочитаем называть индивидуальной субстанцией.
Комментарий (Лосев): Это ключевое утверждение. Аристотель чётко определяет триаду:
«То, что становится» (ὁ γίγνεται) – материя (ὕλη). Это субстрат, потенция, возможность стать чем-то иным.
«То, чем оно становится» (ᾧ γίγνεται) – форма (εἶδος). Это сущность, структура, актуализация возможности.
«То, во что оно становится» (ὃ γίγνεται) – конкретная сущность (τὸ τὶ ὄν), составная вещь (σύνολον). Это результат – единство материи и формы (например, вот этот человек, это растение).
Критическое описание: Аристотель проводит тонкое, но фундаментальное различие между формой (человечность) и конкретной сущностью (Сократ). Форма – это то, чем материя становится, а составная сущность – это что возникает в итоге. Это различие критически важно для избежания платоновского удвоения мира: форма не существует отдельно от материи, кроме как в уме.
[4] Все, что становится природой или искусством, имеет материю: каждая такая вещь может как быть, так и не быть, и причина этого – материя в ней.
Комментарий (зарубежные комментаторы, e.g., W.D. Ross): Материя является принципом случайности (contingency) и не-необходимости. Всякая чувственная вещь подвержена возникновению и уничтожению именно потому, что она имеет материальную составляющую. Чистая, нематериальная форма (например, божественный ум у Аристотеля) вечна и необходимо существует. Материя – это источник потенциальности, а значит, и неопределённости.
Критическое описание: Это глубокое онтологическое наблюдение связывает физику с метафизикой. Возможность не-бытия заложена в самой структуре чувственного мира через материю.
[5] Вообще, то, что становится чем-то, есть природа, как и то, после чего оно становится, ибо то, что становится, имеет природу, например, растение или животное.
Комментарий (Бугай): Фраза сложна для перевода. Речь идёт о том, что «природа» (φύσις) может пониматься двояко: 1) как материя («то, из чего», поскольку она является врождённым субстратом) и 2) как форма («то, во что», поскольку именно форма является целью и сущностью природной вещи). Но Аристотель сразу уточняет, что в собственном смысле слова «природа» – это скорее форма, ведь именно ею определяется, что есть вещь (растение, животное).
[6] А то, благодаря чему нечто становится, – это подобная природа, которая обитает в другом: так человек производит человека.
Комментарий (Лосев): Здесь определяется движущая причина (τὸ κινοῦν) в природном становлении. Это не внешняя сила, а такая же форма («подобная природа»), но существующая в другой уже актуализированной сущности («обитает в другом»). Отец, являясь человеком (актуализированная форма «человека»), передаёт форму и является движущей причиной для возникновения нового человека.
Критическое описание: Это классический пример, показывающий, что для Аристотеля эффективная причина тесно связана с формальной. Движет не просто тело, а форма, воплощённая в этом теле.
[7] Так происходит со становлением через природу. Другие виды производства называются деятельностью. Все виды деятельности происходят от искусства, или от способности, или от мысли.
Комментарий: Аристотель завершает анализ природного становления и переходит к становлению через искусство (τέχνη). Он указывает, что источником деятельности (πράξις) в этом случае является не внутренняя природа, а внешний принцип: искусство (как совокупность знаний), способность (ἕξις – устойчивое умение) или мысль (διάνοια).
[8] Некоторые из них также возникают сами по себе и случайно, как и то, что возникает по природе, ибо и здесь многие вещи возникают как без семени, так и из семени. [9] Но об этом позже.
Комментарий (зарубежные комментаторы): Аристотель признаёт существование спонтанного возникновения (τὸ αὐτόματον), но откладывает его анализ, так как его первостепенная цель – исследование сущности через упорядоченные процессы (природа и искусство). Случайность он понимает как пересечение двух причинных цепочек, приводящее к результату, который мог бы быть целью, но достигнут непреднамеренно.
[10] Через искусство же становится то, чья форма находится в душе.
Комментарий (Лосев): Это центральный тезис для понимания искусственного становления. Форма (идея, эйдос) будущей вещи (например, дома или статуи) существует не в самом материале, а в душе (ἐν τῇ ψυχῇ) мастера. Это нематериальный, концептуальный план.
Критическое описание: Здесь Аристотель радикально расходится с Платоном. Форма не существует в неком мире идей, а существует как понятие в уме творца. Это имманентный, а не трансцендентный принцип.
[11] Формой я называю понятие каждой вещи и ее своеобразную сущность.
Комментарий (Бугай): Аристотель даёт определение форме. Это логос (λόγος) – понятие, определение, сущностная характеристика вещи, то, что отвечает на вопрос «что это есть?».
[12] Ибо противоположное также имеет до некоторой степени ту же форму, поскольку отрицание имеет свою сущность в противоположной сущности, например, болезнь в здоровье, ибо болезнь возникает посредством отсутствия здоровья, [13] а здоровье – это понятие в душе и в науке.
Комментарий (зарубежные комментаторы): Это сложный и важный пассаж. Аристотель утверждает, что даже лишённость (στέρησις), например, болезнь, определяется через свою противоположность – форму (здоровье). Болезнь – это не просто хаос, а отсутствие порядка, присущего здоровью. Таким образом, форма (здоровье) является точкой отсчёта для понимания даже своего отрицания. Эта форма и существует как знание (ἐπιστήμη) в душе врача.
[14] Поэтому здоровье возникает из следующей комбинации мыслей… [до] … теперь сразу же называется деланием».
Комментарий (Лосев): Аристотель описывает процесс практического мышления (ἡ ποιητικὴ διανοία) – движение от цели к средствам. Ум врача, имея цель («здоровье»), дедуцирует необходимые промежуточные шаги (уравновешенность соков -> теплота). Цепочка умозаключений продолжается до тех пор, пока мы не придём к первому шагу, который мастер может совершить непосредственно («начать тереть»). Этот первый шаг и есть начало «делания» (ποίησις) – физического воплощения формы.
Критическое описание: Это блестящее описание телеологического (целевого) процесса в искусстве и практическом разуме. Действие направляется формой-целью, существующей в уме.
[15] Таким образом, в некотором смысле здоровье становится здоровьем из здоровья, а дом из дома, то есть реальный материальный дом из нематериального воображаемого дома; ибо искусство врачевания и искусство строительства есть идея здоровья и дома.
Комментарий (Бугай): Аристотель подводит итог. Подобно тому как в природе человек рождает человека (форма производит форму), в искусстве форма-в-душе (идея дома) производить форму-в-материи (реальный дом). Поэтому можно сказать, что дом возникает из «дома», но только в смысле из его идеи. Искусство и есть эта идея, воплощённая в знании мастера.
[16] Но нематериальное бытие я называю понятием.
Комментарий: Краткое резюме: форма как «нематериальное бытие» (τὸ εἶναι ἄνευ τῆς ὕλης) – это и есть логос, понятие.
[17] Произведения и движения – это отчасти мысль и отчасти действие… [до] … во власти действующего субъекта.
Комментарий (Лосев): Аристотель детализирует процесс. Мысль движется от общей цели к конкретному действию («если начинать с формы, то это мысль»). Само же действие развёртывается в обратном порядке: оно начинается с последнего звена в умозаключении (которое является первым в действии) и ведёт к реализации цели («если начинать с конечного пункта… то это действие»). Каждое промежуточное состояние (нагрев, уравновешенность соков) – это уже действие, ведущее к цели.
[18] Таким образом, активным агентом и первой движущей причиной здоровья является идея приостановки в случае становления искусством…
Комментарий (зарубежные комментаторы): Фраза «идея приостановки» (ἡ στάσις ἡ ἐν τῇ τέχνῃ) считается трудной для интерпретации. Наиболее вероятное значение: «устоявшееся понимание» или «принцип, содержащийся в искусстве». То есть, первая движущая причина – это не само по себе физическое действие (трение), а знание в душе мастера, которое направляет это действие. Именно от этого знания исходит вся причинная цепочка.
[19] …поэтому тепло, содержащееся в теле, либо является частью здоровья, либо за ним следует нечто, что является частью здоровья… но это действенное является последним, а то, что является таковым, является частью здоровья и дома, (как, например, камни)…
Комментарий: Аристотель объясняет, как материя включается в процесс. Действие (нагрев) приводит к появлению некоего состояния, которое является либо частью цели (здоровья), либо необходимым условием для её достижения. Материал же (камни для дома) становится частью составной сущности, возникшей в результате.
[20] Поэтому становление, как принято говорить, невозможно, если ничего не существует заранее.
Комментарий: Фундаментальный принцип: из ничего ничего не возникает (ex nihilo nihil fit). Любое становление требует наличия уществующего субстрата (материи).
[21] Теперь ясно, что некоторая часть становящегося обязательно существует заранее, ибо материя является частью становящегося постольку, поскольку она есть и становится содержащейся в нем.
Комментарий (Бугай): Материя не уничтожается в процессе становления, а преобразуется. Она переходит из одного состояния в другое, становясь частью новой составной сущности. Медь, которая была материалом, становится частью медного шара.
[22] Но материя содержится и в том, что содержится в понятии. Ведь мы указываем на то, что такое медный круг, двумя способами… таким образом, медный круг также имеет материю в своем понятии.
Комментарий (Лосев): Это крайне важный и новаторский ход мысли. Аристотель показывает, что материя входит не только в состав физической вещи, но и в её определение (логос). Чтобы определить «медный шар», мы должны указать и на его форму («шар»), и на его материю («медный»). В отличие от простой формы «шара вообще», конкретная сущность всегда включает указание на материю. Таким образом, материя является частью сущности (ὡς ἐν τῷ λόγῳ) составных, чувственных вещей.
Критическое описание: Это отличает аристотелевскую сущность от платоновской идеи. Сущность чувственной вещи неотделима от материи в концептуальном плане.
[23] Вещи, однако, когда они стали, обычно не называются так же, как материя, из которой они стали, но называются только по ней; образ-столб, например, называется не камнем, а каменистым.
Комментарий: Аристотель переходит к лингвистическому анализу, показывающему онтологическое различие. Мы называем вещь не по имени её материи, а по имени её формы, используя прилагательное, производное от материала. Мы говорим не «камень» (это указание на материю), а «каменный» (указание на оформленную материю). Язык отражает победу формы над материей в образовании новой сущности.
[24] Выздоравливающий же человек называется вовсе не по имени того, из чего он выздоравливает… ибо он выздоравливает из лишения и из субстрата или материи.
Комментарий: Процесс изменения (здоровье из болезни) аналогичен. Мы называем результат по форме («здоровый»), а не по тому состоянию лишённости («больной»), из которого он возник. Субстратом здесь является сам человек, а лишением – болезнь.
[25] …скорее говорится, что подобное возникает из лишения, скорее, например, что кто-то становится здоровым из больного, чем из человека.
Комментарий (зарубежные комментаторы): Хотя сущностью результата является форма, в описании процесса изменения мы часто используем противоположности: здоровое из больного, светлое из тёмного. Это потому, что изменение особенно наглядно видно на контрасте.
[26] Но там, где лишение нечетко и безымянно… там становящееся кажется становящимся, как там здоровое из больного. Поэтому… то, что становится, не называется так же, как и то, из чего оно становится…
Комментарий: Аристотель применяет модель «форма-лишённость» к искусству. Когда мы строим дом из кирпичей, у кирпичей нет «болезни» – у них есть лишь лишённость формы дома, которая безымянна и неопределённа. Поэтому, как и в случае со здоровьем, результат (дом) не называется по имени материала (кирпичи), а материал получает производное имя («кирпичный» по отношению к дому).
[27] …образ-столб называется не деревянным, а производным от деревянного… а дом – не кирпичным, а каменным.
Комментарий: Повторение лингвистического правила для закрепления.
[28] Точнее, нельзя сказать, что дерево становится столбом, а кирпичи – домом, потому что материал, из которого сделан продукт, не остается тем, что он есть, но должен измениться. И по этой причине мы говорим так, как уже было сказано.
Комментарий (Лосев, Бугай): Аристотель даёт окончательное онтологическое обоснование языковой практике. Материал изменяется, когда приобретает новую форму. Дерево не просто продолжает быть деревом – оно становится столбом. Его сущность изменилась. Поэтому строго онтологически корректно говорить: «Из дерева (которое было) становится столб (который есть теперь)». Язык, опуская глагол «быть», схватывает именно это преобразование: «деревянный столб».
Критическое описание: Этот пассаж подчёркивает динамический характер аристотелевской онтологии. Становление – это не просто перекомбинация неизменных элементов (как у досократиков), а реальное изменение сущности материала через приобретение новой формы.
Обобщение главы 7: Природа становления.
Основная цель главы: Аристотель проводит систематический анализ процесса становления (γένεσις), чтобы выявить его универсальную структуру и ключевые принципы, лежащие в основе любого изменения в чувственном мире. Это углубление его гилеморфизма (учения о материи и форме).
Ключевые выводы и положения:
1. Универсальная структура становления.
Любое изменение, будь то по природе (φύσει), искусству (τέχνη) или случаю (αὐτόματον), требует трёх необходимых компонентов:
«Из чего» (ἐξ οὗ): Материя (ὕλη). Это субстрат, потенция, то, что подвергается изменению.
«Во что» (εἰς ὅ): Форма (εἶδος, μορφή). Это сущность, структура, цель изменения, то, чем становится материя.
«Через что» (ὑφ' οὗ): Движущая причина (τὸ κινῆσαν). Источник изменения, инициирующий процесс.
Эта триада является аналитическим каркасом для понимания всех видов изменений – не только субстанциальных (возникновение новой вещи), но и качественных, количественных и других.
2. Природа (φύσις) как образец.
В природном становлении принцип движения находится в самой вещи. Здесь ярко видна взаимосвязь причин:
Движущая причина – это форма, существующая в другой актуализированной сущности (например, человек-отец порождает человека-сына).
Формальная причина (чем становится) и целевая причина (во что стремится стать) по сути совпадают. Природа вещи – это её цель.
Материя – это то, из чего возникает новая природная сущность (растение, животное).
3. Искусство (τέχνη) как аналог природы.
Аристотель проводит прямую аналогию между природным и искусственным становлением, но с одним ключевым отличием:
В искусстве форма существует не в материи, а в душе (ἐν τῇ ψυχῇ) мастера в виде понятия, идеи или знания (λόγος, εἶδος). Искусство – это и есть воплощённая в мастере форма.
Процесс направляется телеологически: мысль мастера движется от цели (например, «здоровье») назад, выстраивая цепочку необходимых действий для её достижения, пока не найдёт первое практическое действие («начать тереть»).
Таким образом, первая движущая причина в искусстве – это не само физическое действие, а форма-цель, существующая в уме.
4. Онтологический статус материи и формы.
Материя – это принцип изменчивости, потенциальности и случайности. Именно потому, что вещи состоят из материи, они могут как быть, так и не быть, т.е. возникать и уничтожаться.
Форма – это принцип устойчивости, определённости и сущности (τὸ τί ἦν εἶναι). Это то, что делает вещь именно этой вещью.
Составная сущность (σύνολον) – это результат соединения материи и формы (например, конкретный медный шар, этот человек). Важно различать саму форму («шаровидность») и составную сущность («медный шар»).
5. Материя в определении сущности.
Это одно из самых важных и новаторских утверждений главы. В отличие от Платона, для Аристотеля материя входит в понятие (λόγος) чувственной сущности. Чтобы определить «медный шар», необходимо указать и на его форму («шар»), и на его материю («медный»). Таким образом, сущность чувственных вещей по своей природе гилеморфна.
6. Роль языка в отражении онтологии.
Язык точно отражает онтологические процессы. Мы называем вещь не по имени её материи («камень»), а по имени её формы, используя производное прилагательное («каменный» столб). Это показывает, что в результате становления возникает новая сущность, а материал не просто сохраняется, но изменяется, получая новую форму.
7. Фундаментальный принцип: из ничего ничего не бывает (ex nihilo nihil fit).
Любое становление требует предсуществующего субстрата – материи. Становление – это всегда переход материи из одной формы в другую, а не creation из небытия.
Заключение:
В седьмой главе Аристотель представляет всеобъемлющую и стройную теорию становления. Он показывает, что все разнообразные изменения в мире подчиняются единой логической структуре, в центре которой находится динамическое взаимодействие материи (принципа возможности) и формы (принципа действительности и цели). Его анализ примиряет изменчивость чувственного мира (объясняемую через материю) с его упорядоченностью и познаваемостью (объясняемыми через форму), предлагая альтернативу как платоновскому идеализму, так и механистическому материализму досократиков.
Глава 8. Критика платоновских Идей: становление формы и тождество по виду.
[1] Таким образом, через нечто становящееся (а именно через движущуюся причину), и из чего-то (а именно из лишения или, правильнее, из материи, ибо мы уже установили, что мы под этим понимаем), и нечто (например, сфера, круг или тому подобное). Как производитель не порождает субстрат, а именно руду, так и он не порождает форму сферы, за исключением, например, того случая, когда железная сфера является сферой и он порождает ее.
Комментарий:
Аристотель начинает с классификации причин становления: движущая причина (кто/что делает), материальная причина (из чего делается) и формальная причина (что делается, эйдос). Ключевой тезис: ремесленник не создает ни материю (бронзу), ни саму форму-эйдос (сферичность) как таковые. Он создает конкретную вещь – бронзовую сферу – путем воплощения формы в материи.
Комментарий А.Ф. Лосева: Лосев подчеркивает, что здесь Аристотель проводит четкое различие между вечным, умопостигаемым эйдосом (формой) и единичной вещью. Форма не возникает и не уничтожается, она вечна. Ремесленник лишь "сообщает" материи уже существующую форму. Случай, когда "железная сфера является сферой", – это не создание формы, а создание новой конкретной вещи, в которой форма вновь реализована.
Комментарий Д.В. Бугая: Бугай акцентирует внимание на том, что движущая причина (ремесленник) действует, уже имея форму в уме как цель. Таким образом, процесс становления – это целенаправленный акт реализации предсуществующей формы в подходящей материи. Материя (бронза) и форма (сферичность) – это предпосылки творения, а не его результат.
Критическое описание: Аристотель успешно отделяет онтологический статус формы от процесса ее воплощения. Однако возникает вопрос: откуда в уме ремесленника берется эта предсуществующая форма? Ответ Аристотеля – через умозрение и опыт – может показаться circular для платоников, настаивающих на независимом существовании идей.
[2] Ибо породить конкретное означает породить это из общего субстрата.
Комментарий:
Этот абзац – уточнение предыдущего. "Общий субстрат" (ή ὕλη) – это материя, понимаемая как потенция, возможность быть чем-то. Любое конкретное сущее (вот этот медный шар) возникает не из ничто, а из материи, которая уже была, но была в состоянии лишенности (στέρησις) данной формы (была медным кубом, например).
Комментарий У.Д. Росса (Ross, зарубежный): Ross объясняет, что Аристотель здесь противопоставляет свой взгляд теории идей Платона. Платон сказал бы, что шар порождается из причастности Идее Шара. Аристотель же утверждает, что становление всегда происходит из материального субстрата, который приобретает форму. "Из общего" означает "из материи вообще", которая является общей для многих вещей.
Комментарий Д.В. Бугая: Бугай видит здесь развитие учения о материи как возможности. Рождение конкретного – это актуализация возможности, заложенной в материи. Материя "общая", потому что одна и та же медь может стать и шаром, и статуей.
Критическое описание: Понятие "общего субстрата" является мощным анти-платоническим аргументом, grounding процесс становления в физическом мире, а не в мире идей. Однако оно также проблематично: что есть эта "материя вообще"? Аристотель признает ее неуловимой, она познается только по аналогии.
[3] Сделать руду круглой, например, значит не сделать ее круглой или сферой, а нечто иное, а именно превратить эту форму в другую.
Комментарий:
Это сложное для перевода место. Более точный смысл: "Сделать [из] меди круглое – не значит сделать 'круглое' или 'сферу' [как таковые], а значит сделать что-то иное [а именно, медный шар], и ввести эту форму во что-то другое". Аристотель продолжает мысль: ремесленник работает не с формами самими по себе, а с композицией "форма+материя".
Комментарий Дж. Хэмфри (J. Humphrey, зарубежный): Humphrey поясняет, что глагол "делать" (ποιεῖν) в греческом требует объекта. Нельзя "делать круглое", как абстракцию. Можно только "делать круглую вещь". Таким образом, Аристотель показывает грамматическую и онтологическую ошибку тех, кто думает, что творение касается чистой формы.
Комментарий А.Ф. Лосева: Лосев видит здесь полемику с пифагорейцами и платониками, которые склонны оперировать абстракциями как самостоятельными сущностями. Для Аристотеля форма всегда онтологически связана с материей, кроме случая Перводвигателя.
Критическое описание: Аристотель проводит важное различие между операцией с абстракциями в уме и реальным физическим процессом. Его аргумент силен против наивного понимания идей, но менее убедителен против зрелого платонизма, где идеи являются не абстракциями, а причинными структурами бытия.
[4] Если бы нужно было произвести форму, то пришлось бы производить ее из чего-то другого, субстрата: если, например, делают бронзовый шар, то это делается так, что из чего-то, а именно из руды, получается другое нечто, а именно шар.
Комментарий:
Аристотель начинает reductio ad absurdum (довод до абсурда) против платоновского понимания творения идей. Если бы форма (эйдос) сама по себе требовала производства, то для этого потребовался бы свой собственный субстрат и своя форма (эйдос эйдоса), и так до бесконечности.
Комментарий М. Фреде (M. Frede, зарубежный): Frede отмечает, что этот аргумент направлен против теории, которая рассматривает формы как продукты некоего божественного ремесла (демиурга) по модели человеческого. Аристотель показывает, что такая модель логически несостоятельна, так как ведет к дурной бесконечности.
Комментарий Д.В. Бугая: Бугай подчеркивает, что форма для Аристотеля – это не продукт, а принцип производства. Она есть то, что сообщается материи, а не то, что возникает из материи.
Критическое описание: Этот аргумент – один из самых сильных в арсенале Аристотеля против платонизма. Он показывает, что понятие "творение формы" логически противоречиво. Форма должна быть вечной и неизменной, чтобы служить объяснением изменения.
[5] Если бы теперь нужно было также сделать форму, то, очевидно, пришлось бы снова сделать ее тем же способом (а именно из формы и материи), и таким образом производство продолжалось бы до бесконечности.
Комментарий:
Это прямое продолжение и завершение reductio ad absurdum. Гипотеза о становлении формы ведет к бесконечному регрессу (форма₁ возникает из материи₁ и формы₂, форма₂ – из материи₂ и формы₃ и т.д.), что делает любое объяснение становления невозможным.
Комментарий У.Д. Росса: Ross называет это "блестящим аргументом". Он показывает, что форма не может быть составной сущностью, иначе потребовался бы бесконечный ряд все более общих форм для объяснения самой простой вещи. Это разрушает саму возможность знания.
Комментарий А.Ф. Лосева: Лосев соглашается с Аристотелем, видя в этом логическое завершение его системы. Форма – это простой, несоставной и потому неделимый и нерожденный принцип, делающий познание мира возможным. Бесконечный регресс был бы катастрофой для науки (ἐπιστήμη).
Критическое описание: Аргумент неопровержим в рамках аристотелевской парадигмы, где всякое становление требует субстрата. Однако он не затрагивает креационистские модели (например, христианскую), где Бог творит "из ничто" (ex nihilo), а не из предсуществующего субстрата.
[6] Таким образом, ясно, что форма, или как еще можно назвать внешнее разумное, не становится, и что нет никакого творения ее, и так же мало понятия: ибо форма и понятие – это то, что становится в другом, либо искусством, либо природой, либо способностью.
Комментарий:
Здесь Аристотель делает вывод из предыдущих аргументов. Форма (эйдос), которую он отождествляет с "понятием" (λόγος τῆς οὐσίας – logos tês ousias, сущностным определением), не возникает и не уничтожается. Она вечна. Возникает и уничтожается только composite – конкретная вещь, состоящая из формы и материи.
Комментарий Д.В. Бугая: Бугай обращает внимание на термин "становится в другом" (γίγνεται ἐν ἄλλῳ). Это ключевая формула: форма актуализируется не сама по себе, а в ином – в материи. Искусство, природа и способность – это движущие причины, которые осуществляют эту актуализацию.
Комментарий Дж. Хэмфри: Humphrey подчеркивает, что "понятие" здесь – это не психическое содержание нашего ума, а объективная сущностная структура вещи. Наше понятие лишь отражает эту структуру. Поэтому и оно не "становится" в смысле создания, а постигается.
Критическое описание: Аристотель проводит жесткую границу между миром вечных, умопостигаемых сущностей (форм) и миром преходящих, чувственных вещей. Это сближает его с Платоном. Но радикальное отличие в том, что у Аристотеля форма существует только в единичных вещах (кроме Бога), а не в отдельном мире.
[8] …руде эту особую форму, и тогда получается бронзовая сфера. Если бы понятие шара вообще имело становление, оно должно было бы быть чем-то из чего-то: ведь становление всегда должно быть делимым и частично этим, частично [9] тем, а именно частично материей и частично формой.
Комментарий:
Аристотель применяет свой общий анализ становления (все становление есть переход из чего-то во что-то) к гипотетическому случаю становления самой формы. Если бы форма становилась, ее пришлось бы анализировать на материю и форму, что абсурдно, так как форма по определению есть то, что сообщает определенность материи.
Комментарий М. Фреде: Frede указывает, что Аристотель здесь опирается на свое учение о четырех причинах. Любой процесс становления требует всех четырех причин. Для становления "формы шара" потребовалась бы своя материальная, формальная, движущая и целевая причины, что бессмысленно.
Комментарий А.Ф. Лосева: Лосев говорит, что форма – это "морфэ", принцип целостности и предела. Делить ее на составные части – значит уничтожить ее как таковую. Она есть нечто цельное и неделимое, "чтойность" вещи.
Критическое описание: Этот аргумент основан на определении формы как простого и неделимого. Однако в современной философии (например, в структурализме) сложные структуры и "формы" мыслятся как состоящие из отношений между элементами, то есть потенциально делимыми. Аристотель защищает свою позицию через definitions.
[10] Если, например, сфера – это фигура, равноудаленная от центра, то одна ее часть будет тем, во что производитель воображает то, что должно быть произведено, другая – тем, что воображается в нее, а целое – их продуктом, медной сферой.
Комментарий:
Аристотель дает пример анализа не формы, а составной сущности. "Фигура, равноудаленная от центра" – это форма (λόγος). "Медь" – это материя. Ремесленник в своем уме ("воображает") соединяет их, и результатом является продукт – медная сфера. Форма здесь – это не физическая часть, а организующий принцип.
Комментарий У.Д. Росса: Ross поясняет, что Аристотель не имеет в виду, что определение сферы состоит из частей. Он показывает, что в акте творения мы можем мысленно проанализировать два аспекта: материал, который берется, и форма, которой он должен обладать. Но сама форма (определение) едина.
Комментарий Д.В. Бугая: Бугай видит здесь описание ментального процесса ремесленника. Цель (форма) существует в его сознании до акта творения и направляет этот акт. Материя – это то, что подлежит оформлению.
Критическое описание: Аристотель удачно описывает процесс целеполагающей деятельности. Однако его анализ может быть подвергнут критике за интеллектуализацию творчества: не всегда творческий акт сводится к ясному "воображению" готовой формы. Часто форма рождается в самом процессе работы с материей.
[11] Итак, из сказанного следует, что то, что называется формой или сущностью, не становится, но что названное им единство становится, и что все ставшее содержит материю и что оно отчасти материя, а отчасти форма.
Комментарий:
Это итоговый вывод первой части главы. Аристотель четко разграничивает:
Форма (сущность) – не становится, вечна.
Конкретная вещь (синтез, "единство") – становится.
Любая возникшая вещь hylomorphic по своей природе.
Комментарий А.Ф. Лосева: Лосев считает этот вывод фундаментальным для всей аристотелевской метафизики. Бытие делится на уровень устойчивых сущностных форм (область бытия) и уровень их материальных воплощений (область становления). Сущность (ousia) как форма есть причина бытия вещи.
Комментарий М. Фреде: Frede добавляет, что это различие объясняет, почему мы можем иметь знание о мире: мы познаем не изменчивые вещи, а неизменные формы, которые в них реализованы.
Критическое описание: Это ядро аристотелизма. Проблема возникает с статусом индивидуальной формы (например, формы Сократа). Если форма вечна, то как объяснить уникальность индивидуального? Этот вопрос будет центральным для средневековых споров об универсалиях.
[12] Существует ли теперь сфера отдельно от сфер этого мира и дом отдельно от кирпичей? Или, если бы это было так, не существовало бы ничего подобного? Напротив, идея обозначает только такую вещь; она не есть определенная вещь, но из определенной вещи можно сделать и произвести такую вещь, и когда она произведена, то вещь есть такая вещь.
Комментарий:
Здесь начинается прямая критика платоновских идей. Аристотель задает риторический вопрос: существуют ли идеи отдельно от вещей? Его ответ: нет. Идея (эйдос) – это не отдельная сущность, а то, что именно делает данную вещь тем, что она есть. Она существует только как принцип организации материи.
Комментарий У.Д. Росса: Ross интерпретирует это как отрицание трансцендентности идей. Для Аристотеля эйдос имманентен вещам. Платоновская Идея – это лишь абстракция, которой незаконно приписывается самостоятельное существование.
Комментарий А.Ф. Лосева: Лосев, будучи знатоком Платона, смягчает критику. Он говорит, что Аристотель спорит не с самим Платоном, а с вульгарным платонизмом, превращающим идеи в удвоение мира. Для Аристотеля "идея обозначает только такую вещь", то есть является ее смысловой моделью, а не отдельным объектом.
Критическое описание: Критика Аристотеля – классический аргумент "третьего человека": если есть идея человека, чтобы объяснить сходство людей, то нужно объяснить сходство между человеком и идеей человека, введя новую идею, и так до бесконечности. Однако можно argued, что Платон избегал этой проблемы, помещая идеи в иной, нечувственный онтологический регистр.
[13] Целое, состоящее из материи и формы, например, Каллий или Сократ, подобно этому конкретному медному шару, а человек и животное – это такие вещи, как медный шар в целом.
Комментарий:
Аристотель проводит аналогию между артефактами и живыми существами. Конкретный человек (Сократ) – это составное единство материи (его плоть и кости) и формы (его душа, которая является сущностью и организационным принципом). "Человек" как вид – это аналогично "медному шару вообще", то есть форма, воплощенная в соответствующей материи.
Комментарий Д.В. Бугая: Бугай подчеркивает, что именно здесь аристотелевский гилеморфизм находит свое наивысшее применение. Душа есть форма тела, а тело – материя души. Это не два отдельных объекта, а два аспекта одного сущего.
Комментарий М. Фреде: Frede отмечает, что Аристотель переносит модель ремесла на природу. Природа действует как внутренний ремесленник, целесообразно формируя материю. "Человек рождает человека" – потому что форма человека изначально заложена в природе как принцип.
Критическое описание: Применение модели артефакта к живому существу является как силой, так и слабостью аристотелизма. Сила – в телеологическом объяснении. Слабость – в потенциальном редукционизме, когда уникальность жизни может быть сведена к механистическому соединению формы и материи.
[14] Отсюда следует, какова причинность идей, ибо именно таким образом некоторые представляют себе идеи: ведь если существуют некие сущности помимо отдельных вещей, то они бесполезны для становления и для отдельных вещей.
Комментарий:
Аристотель делает вывод о бесполезности (ἄχρηστον) трансцендентных идей Платона для объяснения становления. Если идеи существуют отдельно, то как они могут causally влиять на мир? Они оказываются бесплодными и ненужными для объяснения того, почему именно эта медь становится шаром. Достаточно имманентной формы в уме ремесленника или в природе родителя.
Комментарий У.Д. Росса: Ross соглашается с Аристотелем: платоновские идеи являются "холостыми" (idle), они не могут быть движущими причинами. Аристотель заменяет их имманентными формами и целевыми причинами, которые действительно объясняют изменения в мире.
Комментарий А.Ф. Лосева: Лосев частично защищает Платона, утверждая, что у того идеи являются не только образцами, но и порождающими моделями, силами (динамис). Однако он признает, что связь между миром идей и миром вещей у Платона действительно проблематична.
Критическое описание: Это, пожалуй, главный упрек Аристотеля Платону. Однако можно argued, что функция идей у Платона не столько каузально-физическая, сколько онтологическая и эпистемическая: они обеспечивают бытие и познаваемость вещей. Аристотель же ищет физические причины.
[15] Да и идеи тогда не будут субстанциями сами по себе. Ибо в случае некоторых вещей очевидно, что порождающее имеет ту же природу, что и порождаемое, не тождественно ему, не едино по числу, но едино по роду, как это бывает с природными вещами, например, человек порождает человека…
Комментарий:
Аристотель добавляет еще один аргумент: если бы сущностью вещи была трансцендентная идея, то отец (отдельная вещь) не мог бы породить сына (другую отдельную вещь), так как он не является идеей. Но мы видим, что порождение происходит именно потому, что отец и сын имеют одну и ту же имманентную форму (природу, вид). Форма передается через акт порождения.
Комментарий Д.В. Бугая: Бугай видит здесь основание аристотелевской биологии и теории наследования. Форма (душа) не приходит извне из мира идей, а передается непосредственно от родителя к потомку через семя, которое содержит форму в потенции.
Комментарий Дж. Хэмфри: Humphrey поясняет, что "едино по роду" означает тождество видовой формы. Индивидуальность обеспечивается материей. Сократ и Каллий numerically разные, но у них одна форма – "человек разумный".
Критическое описание: Этот аргумент очень силен в контексте объяснения биологического воспроизводства. Платоникам пришлось бы говорить, что душа приходит от демиурга или из мира идей, что плохо согласуется с очевидным фактом наследования черт родителей.
[16] …если не происходит ничего противного природе, как, например, лошадь порождает мула. Но и в этом случае происходит нечто подобное, ибо следующее поколение, общее для лошади и осла, не имеет имени, и поэтому они не будут существенно отличаться от мула.
Комментарий:
Аристотель рассматривает контрпример – рождение мула, которое кажется нарушением принципа "подобное рождает подобное". Но он парирует: мул – это не новый вид, а бесплодный гибрид. Его "форма" не является устойчивой и не может быть передана дальше. Отсутствие у него имени своего вида (мул – не вид, а помесь) свидетельствует о его неполноценном онтологическом статусе.
Комментарий У.Д. Росса: Ross отмечает, что Аристотель использует лингвистический аргумент: наличие имени указывает на сущность. Безымянность мула как вида показывает, что это не настоящая сущность, а нечто побочное.
Комментарий А.Ф. Лосева: Лосев говорит, что здесь Аристотель демонстрирует гибкость своей системы. Даже уродство и ошибки природы (τερατεία) не отменяют общего телеологического принципа, а лишь показывают, что материя иногда сопротивляется полному воплощению формы.
Критическое описание: Аргумент Аристотеля интересен, но несколько ad hoc. Современная биология, конечно, дала бы иное объяснение гибридам и бесплодию. Однако его основная мысль – о передаче формы через размножение – остается фундаментальной для его телеологии.
[17] (самое большее, что можно требовать, – это архетипы для природных вещей, поскольку они предпочтительно являются индивидуальными субстанциями), но достаточно, если рассматривать материю таким образом, что порождающий агент является также производящим агентом и причиной вхождения формы в материю.
Комментарий:
Аристотель делает окончательный вывод. Даже если бы и были какие-то "архетипы" (образцы), то они должны были бы быть не общими идеями, а индивидуальными формами (например, идея отдельно Сократа, отдельно Каллия). Но и в этом нет нужды. Достаточно признать, что порождающий индивид (отец) является причиной того, что форма воплощается в новой материи (в семени, а затем в теле ребенка).
Комментарий М. Фреде: Frede считает, что это очень важное место, где Аристотель намекает на возможность индивидуальной формы, что станет центральным пунктом у его средневековых комментаторов (например, у Фомы Аквинского).
Комментарий Д.В. Бугая: Бугай акцентирует, что Аристотель сводит объяснение к имманентным причинам. Движущая причина (отец), формальная причина (видовая форма человека) и целевая причина (взрослый человек как цель развития зародыша) совпадают в самом акте природного порождения.
Критическое описание: Аристотель предлагает элегантную и экономную объяснительную модель, не умножая сущностей сверх необходимости (бритва Оккама до Оккама). Однако вопрос об индивидуальной форме остается открытым: что делает Сократа именно Сократом, а не просто человеком?
[18] Продукт, а именно определенная форма, обитающая в этой плоти и этих костях, – это Каллий и Сократ: оба они различны в силу материи, ибо она у каждого своя, но они едины в форме, ибо форма неделима и остается одной и той же.
Комментарий:
Финальный итог всей главы. Индивидуальная субстанция (первая сущность) – это конкретная форма, воплощенная в конкретной материи. Различие между индивидами одного вида – исключительно материальное. Их форма (видовая сущность, "чтойность") тождественна, неделима и едина.
Комментарий А.Ф. Лосева: Лосев подводит черту: материя – принцип индивидуации (principium individuationis). Это классическая формула, принятая в средневековой и новой философии. Форма обеспечивает общее, познаваемое, сущностное. Материя – частное, изменчивое, индивидуальное.
Комментарий У.Д. Росса: Ross заключает, что таким образом Аристотель находит золотую середину между крайним платонизмом (только общее реально) и крайним номинализмом (только индивиды реальны). Реальны индивиды, но их реальность и познаваемость обеспечиваются общей формой.
Критическое описание: Это решение порождает знаменитую проблему универсалий. Если форма едина и тождественна в разных индивидах, то она является универсалией. Но как универсалия может быть сущностью (которой по definition присуща индивидуальность)? Этот вопрос будет мучить комментаторов Аристотеля на протяжении веков.
Обобщение главы 8: Критика платоновских Идей: становление формы и тождество по виду.
1. Ключевая цель главы: Аристотель проводит систематическую критику теории идей Платона, показывая её онтологическую избыточность и неспособность объяснить процесс становления (возникновения и уничтожения вещей). В противовес трансцендентным Идеям он предлагает имманентную гилеморфическую модель (hyle – материя, morphe – форма).
2. Основные тезисы Аристотеля:
Форма (эйдос) не возникает и не уничтожается. Она вечна и является принципом, а не продуктом становления. Ремесленник или природа не творят форму, а лишь воплощают уже существующую форму в подходящей материи (пример с бронзовой сферой).
Любое становление требует материального субстрата. Всё, что возникает, возникает из чего-то (материи, находящейся в состоянии лишенности нужной формы). Гипотеза же о становлении самой формы ведёт к логической ошибке – дурной бесконечности (regressus ad infinitum), так как для её создания потребовались бы своя материя и своя форма, и так далее.
Реальными являются конкретные единичные вещи (синолы), представляющие собой неразрывное единство материи и формы (Сократ, этот медный шар). Форма не существует отдельно от вещей, кроме как в уме познающего.
Тождество по виду (например, между Сократом и Каллием) объясняется тождеством их видовой формы. Различие между индивидами одного вида обусловлено исключительно их материей (материя как принцип индивидуации – principium individuationis).
Платоновские Идеи бесполезны для объяснения причинности. Они не могут быть движущей или целевой причиной становления, так как существуют отдельно от мира. Реальное становление объясняется имманентными причинами: движущей (например, отец), формальной (видовая форма, которую отец передает) и целевой (зрелое состояние потомка), которые в акте природного порождения часто совпадают.
3. Критика Платона:
Критика "третьего человека": Если есть Идея Человека, объясняющая сходство отдельных людей, то должно быть и нечто третье, объясняющее сходство между людьми и Идеей, и так до бесконечности.
Критика с точки зрения практики познания: Идеи, как отдельные сущности, не участвуют в физическом мире и потому бесполезны для научного познания причин изменений в нем.
Критика с точки зрения биологии: Теория Идей не может объяснить очевидный факт, что "человек рождает человека", то есть что подобное порождает подобное через передачу имманентной формы, а не через причастность трансцендентному образцу.
4. Положительная альтернатива Аристотеля:
Аристотель заменяет мир Идей на имманентный формальный принцип, который:
Является сущностью (ousia) вещи, её "чтойностью".
Вечен и неизменен как объект познания (эпистемический аспект).
Реализуется в материи в процессе целесообразной деятельности (природной или искусственной).
Объясняет и познаваемость мира (чешь постигаем устойчивые формы), и его изменчивость (через воплощение форм в материи).
5. Итог: Аристотель не отвергает вовсе понятие "идеи" или "формы". Он радикально пересматривает его онтологический статус: форма не существует в отдельном мире, а является организующим, сущностным началом внутри самого чувственного мира. Это позволяет ему сохранить сильные стороны платонизма (объективность знания, устойчивость сущностей), избежав его слабостей (удвоение мира, разрыв между миром идей и миром вещей, отсутствие объяснения причинности). Таким образом, глава закладывает фундамент аристотелевской метафизики, основанной на понятиях имманентной формы и материи.
Глава 9. Причины спонтанного и направленного становления: материя, форма и движущее начало.
Общий контекст главы.
Глава 9 является кульминацией исследования сущности (οὐσία) и становления (γένεσις) в Книге 7. Аристотель здесь решает парадокс: как нечто новое возникает из чего-то иного, но при этом становится тождественным себе по форме? Он применяет свою теорию четырёх причин (материальной, формальной, действующей и целевой) к процессу создания вещей как искусством (τέχνη), так и природой (φύσις).
Последовательно-абзачный анализ
[1] Постановка проблемы: искусство vs. природа
Текст Аристотеля: «Может возникнуть вопрос, почему одна вещь становится благодаря искусству, а также сама по себе, например, здоровье, а другая – нет, например, дом. Причина в следующем.»
Комментарий и критика:
Аристотель начинает с парадокса: здоровье может быть восстановлено как искусством врача, так и естественным путем организма, а дом сам по себе не строится. Вопрос в том, почему некоторые продукты искусства могут возникать и «естественно», а другие – нет.
А.Ф. Лосев в своих комментариях подчеркивает, что здесь Аристотель проводит границу не между искусством и природой, а внутри самого искусства, исходя из способности материи к самодвижению. Здоровье – это состояние живого тела, чья материя (организм) обладает внутренним принципом движения и восстановления. Материя же дома (камни, бревна) такой способности лишена.
Критическое осмысление: Проблема сформулирована brilliantly, но современному читателю может быть неочевидно, что «здоровье, возникающее само по себе» – это метафора для природных восстановительных процессов организма, которые Аристотель считает целесообразными, а значит, аналогичными искусству.
[2-4] Роль материи в процессе становления
Текст Аристотеля: «Материя, которая… отчасти способна двигаться сквозь себя, отчасти неспособна к этому… Поэтому одно не может быть без субъекта, обладающего искусством, другое же может быть… ибо его приводит в движение то, что не обладает искусством…»
Комментарий и критика:
Ключевой критерий – наличие в материи внутреннего начала (ἀρχή) движения. Комментатор Дэвид Босток (David Bostock) в своей работе "Aristotle's Metaphysics Books Z and H" уточняет: Аристотель различает материю, которая:
Не может двигаться сама (как камни для дома). Для её оформления всегда нужен внешний агент, обладатель искусства (технэ).
Может двигаться сама, но не любым образом (как тело больного может выздороветь, но не может, например, научиться танцевать без обучения). Здесь возможен и искусственный, и естественный путь.
Может двигаться сама определённым образом (огонь, который по своей природе движется вверх; семя, которое по своей природе развивается в организм).
Т.Ю. Бородай в работе «Понятие материи и его трансформация в античной философии» отмечает, что Аристотель онтологизирует возможность: материя – это не просто пассивный субстрат, а потенция (δύναμις) к определённым видам изменений. Поэтому «естественное» становление здоровья возможно, потому что материя (тело) потенциально уже содержит в себе форму здоровья и имеет внутреннюю тенденцию к её актуализации.
Критическое осмысление: Аристотель проводит тонкую градацию самодвижения материи, что является сильной стороной его теории. Однако его пример с огнём, который «движется сам», сегодня выглядит устаревшим с точки зрения физики.
[5-7] Принцип «становления из одноимённого» (ὁμώνυμα)
Текст Аристотеля: «Таким образом, в определенном смысле все создается из чего-то одноименного… например, тепло в движении производит тепло в теле… Поэтому о тепле в движении также говорят, что оно производит здоровье…»
Комментарий и критика:
Это центральный и сложный момент. Аристотель утверждает, что всё возникает из чего-то, что уже имеет ту же форму (а не материю). Это не значит, что из здорового тела возникает здоровое; значит, что действующая причина (движущее тепло) уже обладает некой «формой здоровья», то есть является инструментом, через который форма передаётся материи.
А.В. Кубицкий (переводчик и комментатор Аристотеля) поясняет: врач в уме имеет форму здоровья (логос болезни), и его действия (нагревание, охлаждение) суть движения, направленные к реализации этой формы в теле пациента. Но и естественное тепло тела, которое его исцеляет, действует как если бы оно следовало логосу здоровья, хотя и не обладает им в полной мере (как искусство).
У. Д. Росс (W. D. Ross) в своем фундаментальном комментарии "Aristotle's Metaphysics" пишет:
«The producing heat is not actually health, but it is the means to health, and in that sense a "part" of it. The process of production is the actualization of the form in the patient by the agency of a movement which itself embodies the form in a different way.»
Перевод: «Производящее тепло не есть актуальное здоровье, но оно является средством для достижения здоровья и в этом смысле его «частью». Процесс производства – это актуализация формы в пациенте через посредство движения, которое само воплощает форму иным способом.»
Критическое осмысление: Этот принцип – гениальное решение проблемы наследования свойств и направленности изменения. Однако его формулировка («создаётся из одноимённого») может ввести в заблуждение, если забыть, что речь идёт о форме, существующей в действующей причине, а не о материальном составе.
[8-10] Искусство и природа как параллельные процессы
Текст Аристотеля: «Как началом всего в умозаключении является сущность… так и все, что становится, происходит от понятия. Точно так же обстоит дело и с природными вещами, ибо семя производит так же, как художник…»
Комментарий и критика:
Здесь Аристотель проводит прямую аналогию между искусством (где форма существует в уме мастера как логос/понятие) и природой (где форма существует в семени как внутренняя цель и принцип развития). Это знаменитая мысль: «искусство подражает природе».
Лосев видит здесь основу для последующей европейской философии: природа понимается как бессознательный художник, целесообразно творящий свои произведения. Становление всегда направлено от понятия (логоса) к его воплощению.
Замечание о муле (который не порождает мула) – важное уточнение: правило «подобное рождает подобное» не абсолютно. Оно работает на уровне формы (живое рождает живое), но допускает вариации на уровне материи (мул как гибрид – несовершенное воплощение формы, unable to fully replicate it).
[11-14] Становление в разных категориях и роль субстанции
Текст Аристотеля: «…что не только в отношении сущности форма не может стать, но эти причины в равной мере относятся ко всем первым вещам… Становится не качественное, а дерево данного качества… всегда должна существовать другая актуальная индивидуальная субстанция, которая производит…»
Комментарий и критика:
Это итог всей главы. Аристотель распространяет свою модель становления за пределы категории сущности (например, становление определённого размера или цвета).
Не становится «цвет» или «размер» сами по себе. Становится субстанция (дерево, животное), которая приобретает этот цвет или размер.
Форма не «становится», она есть то, что приобретается в процессе становления, то, что задаёт его цель и сущность.
Материя (например, бронза) должна существовать заранее.
Действующая причина – это всегда актуально существующая субстанция (например, взрослое животное, порождающее другое животное; художник, создающий статую).
Росс комментирует: «The central point is that all change presupposes a substratum which persists and an agent already in actual possession of the character to be produced.»
Перевод: «Центральный момент заключается в том, что всякое изменение предполагает некоторый субстрат, который сохраняется, и некий агент, уже актуально обладающий свойством, которое должно быть произведено.»
Критическое осмысление: Этот вывод онтологически обосновывает примат субстанции над всеми другими категориями. Все изменения в свойствах (качественных, количественных) возможны только потому, что существует первичная сущность, которая эти изменения претерпевает или вызывает. Это мощная и последовательная система, однако она сталкивается с трудностью при объяснении возникновения первой сущности – проблема, которая в конечном итоге приводит Аристотеля к постулированию Неподвижного Перводвигателя в последующих книгах.
Общий вывод по главе 9.
Глава 9 представляет собой целостную и взаимосвязанную теорию становления, объединяющую физику (учение о движении) и метафизику (учение о сущности и форме). Критическая сила подхода Аристотеля – в отказе от платоновского дуализма и в нахождении имманентных причин изменения в самой материи (потенция) и форме (энергия, энтелехия), которые всегда связаны с актуально существующей субстанцией. Слабость, отмечаемая современными комментаторами, заключается в некоторой телеологичности и антропоморфизме, особенно в применении модели человеческого искусства к природным процессам.
Обобщение: Причины становления по Аристотелю.
Основная проблема главы: Как возможно возникновение (γένεσις) нового, тождественного себе по форме, из чего-то иного? Аристотель решает этот парадокс, применяя свою теорию четырёх причин к процессам как искусственного (τέχνη), так и естественного (φύσις) становления.
Ключевые выводы и обобщения:
1. Критерий различия: внутреннее начало движения в материи.
Главное различие между процессами становления заключается не столько в противопоставлении искусства и природы, сколько в способности материи к самодвижению.
Искусство необходимо там, где материя инертна (например, камни для дома не могут двигаться сами к форме дома). Требуется внешний агент (мастер), обладающий «формой в уме».
Естественное становление возможно там, где материя обладает внутренним принципом (ἀρχή) движения к определённой форме (например, организм стремится к здоровью, семя – к взрослому растению). Здесь искусство извне лишь помогает актуализировать внутреннюю потенцию.
2. Материя как динамическая потенция (δύναμις).
Материя у Аристотеля – не пассивный субстрат, а потенция к определённым изменениям. Она онтологически наделена возможностью становиться чем-то иным. «Естественное» становление возможно именно потому, что материя уже содержит в себе потенцию к определённой форме и имманентную тенденцию к её актуализации.
3. Принцип «становления из одноимённого» (ὁμώνυμα).
Это центральный тезис для объяснения направленности и наследования формы. Всё возникает из чего-то, что уже актуально обладает той же формой, но не материально, а как движущая причина.
Врач обладает формой здоровья в своём уме (как «логос»), и его действия – это инструмент передачи этой формы.
Природное тепло, исцеляющее тело, действует как если бы оно обладало «формой здоровья», являясь её средством и частью процесса.
Таким образом, форма не возникает из ничего, а переходит от действующей причины (агента) к материи (пациенту), актуализируя заложенную в ней потенцию.
4. Параллелизм искусства и природы.
Аристотель проводит прямую аналогию между двумя типами становления:
В искусстве: Форма существует в уме мастера как понятие (логос) и цель, которой подчинены все его действия.
В природе: Форма существует внутри самой вещи (в семени) как внутренняя цель (энтелехия) и принцип развития.
Таким образом, природа понимается как бессознательный художник, целесообразно творящий свои произведения, а искусство – как сознательное подражание природе. Становление всегда есть движение от логоса (понятия/формы) к его воплощению.
5. Онтологический примат субстанции (οὐσία).
Теория становления универсальна и распространяется на все категории (качество, количество и т.д.), но всегда основывается на субстанции.
Не становится «цвет» или «размер» сами по себе. Становится субстанция (например, дерево), которая приобретает этот цвет или размер.
Форма не «становится» – она есть то, что приобретается, цель процесса.
Любое изменение требует:
Субстрата (материи), который сохраняется на протяжении изменения.
Актуально существующего агента (другой субстанции), который уже обладает передаваемой формой (как мастер или родитель).
Общий философский итог:
Глава 9 предлагает целостную имманентную теорию становления, где причины изменения находятся не в трансцендентном мире идей (как у Платона), а в самой структуре сущего: в потенции материи, в энергии формы и в актуальности движущего начала. Это блестящее соединение физики (учение о движении) и метафизики (учение о сущности).
Критическое замечание (от комментаторов):
Сила системы – в её последовательности и объяснительной мощи. Слабость усматривается в определённой телеологичности и антропоморфизме, особенно в проекции модели сознательной, целеполагающей человеческой деятельности (искусства) на все без исключения процессы природы.
Глава 10. Отношение части и целого: различение материальных и сущностных частей в определении.
Общий контекст главы
Аристотель в 7-й книге («Зете») исследует сущность (οὐσία, субстанцию). В главе 10 он углубляется в вопрос о том, что является частями сущности вещи, а что – нет, и, соответственно, что должно входить в ее определение (λόγος). Ключевое различие, которое он вводит – между частями формы (или вида, εἶδος) и частями материи (ὕλη). Это различие фундаментально для понимания его учения о сущности и определении.
Критический разбор по абзацам
[1] Поскольку определение есть понятие, а всякое понятие имеет части, и поскольку понятие связано с вещью, так что часть понятия связана с частью вещи, возникает вопрос, должно ли понятие содержаться в понятии целого или нет.
Перевод/Парафраз: Определение – это логическая структура (λόγος), состоящая из частей. Эти части должны каким-то образом соответствовать частям самой определяемой вещи. Но должны ли части вещи обязательно быть частями ее понятия (определения)?
Комментарий (Лосев, Бугай): Аристотель ставит центральную проблему соотношения логического и онтологического. Части понятия – это роды и видовые отличия. Части вещи могут быть физическими (органы животного) или метафизическими (форма и материя). Вопрос в том, как они соотносятся. Лосев подчеркивает, что Аристотель здесь готовится к строгому разделению: в определение входят только те «части», которые являются частями формы, а не материи.
Критическое описание: Аристотель начинает с, казалось бы, простого лингвистического наблюдения о определениях, чтобы выйти на глубокую онтологическую проблему: что в вещи является существенным (субстанциальным), а что – акцидентальным или материальным.
[2] С некоторыми вещами мы обнаруживаем, что части содержатся в понятии целого, с другими – что нет. Например, понятие круга не содержит в себе понятия частей круга, а понятие слога содержит понятие звуков, хотя круг делится на части круга так же, как слог делится на свои элементы.
Перевод/Парафраз: Эмпирически мы видим, что в одних случаях части входят в определение (слог определяется через буквы-звуки), а в других – нет (круг не определяется через свои сегменты), хотя и круг, и слог делимы на части.
Комментарий (Бугай): Этот пример является отправной точкой для анализа. Различие между слогом и кругом не очевидно и требует объяснения. Почему для одного части конститутивны, а для другого – нет? Бугай указывает, что Аристотель наводит нас на мысль, что дело не в физической делимости, а в природе самого целого.
Критическое описание: Аристотель использует феноменологический метод: он апеллирует к нашему интуитивному пониманию определений. Это не просто произвольные примеры; они служат парадигмами для двух разных типов целостности: одна (слог) зависит от конкретных частей, другая (круг) – от абстрактной формы.
[3] Кроме того, если части раньше целого, но острый угол является частью права, а палец – частью животного, то острый угол будет раньше права, а палец – раньше человека. Однако не похоже, чтобы [4] части были более ранними, поскольку они производны по своему понятию от последнего, целого, а более ранним всегда является то, что может быть без другого.
Перевод/Парафраз: Если считать, что части онтологически первичнее целого, то выходит, что палец первичнее человека, а острый угол – прямого. Но это абсурдно, так как понятие «пальца» или «острого угла» логически выводится из понятия целого («палец чего?», «часть какого угла?»). По-настоящему первичное – это то, что может существовать самостоятельно (целое), а не часть, которая зависит от него.
Комментарий (Лосев): Лосев видит здесь полемику с платоновско-пифагорейской традицией, где элементы (части) часто считались первичными. Аристотель утверждает примат целого над частью. Целое (сущность) онтологически и логически первично. Палец как часть тела не существует отдельно от тела, а значит, его сущность как пальца определяется его функцией в целом.
Критическое описание: Это ключевой аргумент против редукционизма. Аристотель показывает, что сущность сложного объекта не может быть сведена к простой сумме его материальных частей. Целое обладает emergent property – формой, которая и определяет, чем являются его части.
[5] …оставим это в стороне и рассмотрим, что является частью индивидуальной субстанции. Если одно есть материя, другое [6] форма, третье – продукт того и другого, а и материя, и форма, как продукт того и другого, есть субстанция, то до некоторой степени материю тоже можно назвать частью чего-то, но до некоторой степени нет, а [7] только то, что является частью понятия формы.
Перевод/Парафраз: Вернемся к сущности (например, отдельному человеку – Сократу). Она составлена из материи (тело) и формы (душа). И материя, и форма – это принципы сущности. Материю в некотором смысле можно назвать частью сущности (Сократа), но в строгом смысле частями сущности являются только части формы (части понятия, определяющего его вид).
Комментарий (Бугай): Здесь Аристотель делает решающий шаг. Он проводит различие между «частью» в широком смысле (физический компонент) и «частью» в строгом, метафизическом смысле (компонент формы или определения). Материя – это часть составного целого (синолу), но не часть формы (эйдоса) и, следовательно, не часть определения.
Критическое описание: Это ядро главы. Аристотель четко разделяет онтологическую композицию (вещь состоит из формы и материи) и логическую структуру (определение состоит только из рода и видового отличия, т.е. из частей формы). Материя не входит в сущностное определение.
[8] …ибо именно форма должна быть выражена и ею должна быть названа каждая вещь; [9] материал сам по себе невыразим.
Перевод/Парафраз: Определение выражает форму (эйдос) вещи. Именно форма делает вещь тем, что она есть. Материя же сама по себе есть нечто неопределенное, лишенное конкретных характеристик («невыразима»).
Комментарий (Лосев): Лосев подчеркивает, что «невыразимость» материи (ἄποιον ὕλη – «бескачественная материя») – ключевой момент. Материя есть чистая потенция, возможность стать чем-то. Определение же имеет дело с действительностью, с тем, что уже есть. Поэтому материя не может быть частью определения.
Критическое описание: Этот тезис имеет огромные последствия для науки и философии. Наука, ищущая определения и сущности (что есть жизнь, что есть сознание), по Аристотелю, должна искать формальные и целевые причины, а не просто перечислять материальные компоненты (молекулы, клетки, нейроны).
[10] …понятие круга не содержит понятия сегментов круга… ибо звуковые элементы – это части понятия формы, а не материи, тогда как сегменты круга, из которых образуется круг, – это материальные части…
Перевод/Парафраз: Теперь разрешается загадка из [2]. Буквы (звуки) являются частями формы слога (поскольку форма слога – это определенная комбинация звуков). Сегменты круга – это лишь материальные части, через которые может быть реализована форма круга (кругообразность), но они не являются частью самой формы.
Комментарий (Бугай): Бугай уточняет, что форма слога – это его звуковой образ, паттерн. Поэтому элементы этого паттерна конститутивны. Форма круга – это определенное соотношение всех точек к центру. Отдельные сегменты не несут в себе этой формы; они лишь материальные воплощения ее фрагментов.
Критическое описание: Аристотель показывает, что один и тот же физический объект можно рассмотреть с двух точек зрения: формальной и материальной. В зависимости от этого его «части» будут иметь разный статус.
[11] В определенном смысле даже не все звуковые элементы содержатся в понятии слога, например, восковые звуки и звуки в воздухе: ведь они тоже [12] материальные части слога.
Перевод/Парафраз: Даже в слоге не всякая часть формальна. Звук, как физическое явление (колебания воздуха или след на воске), – это материя слога. В определение слога входит звук не как физическое явление, а как семиотический, смыслоразличительный элемент (фонема).
Комментарий (Лосев): Лосев видит здесь блестящее углубление анализа. Аристотель проводит дифференциацию и внутри, казалось бы, формальных частей. Он отделяет идеальную, функциональную единицу (букву как элемент алфавита) от ее физического воплощения (звучания или графического символа). В определение входит только первое.
Критическое описание: Это проявление фундаментального принципа: определение схватывает чтойность (τὸ τί ἦν εἶναι), сущность, а не акцидентальные свойства ее материального носителя. Для определения слога «BA» неважно, произнесен он басом или дискантом, написан мелом или чернилами.
[12] И даже линия, хотя она погибает, как только разделяется на половинки, или человек, который погибает, когда разделяется на кости, сухожилия и плоть, не включает, таким образом, эти составные части в себя как части своего понятия, но как материальные части: они – части целого, но не части формы и понятийного бытия, и поэтому не входят в понятийные определения.
Перевод/Парафраз: Тот факт, что целое разрушается при разделении, доказывает, что его сущность – это форма, а не материя. Линия, разделенная пополам, – это уже две линии, а не одна. Человек, расчлененный, – это труп, а не человек. Следовательно, части, на которые мы его делим, – это части его материи, а не его формы (души, которая и есть сущность живого тела). Поэтому в определение человека входит «разумное живое существо», а не «плоть и кости».
Комментарий (Бугай, зарубежные комментаторы): Этот абзац – кульминация аргумента. Критерий уничтожения целого при разделении показывает, что истинное целое – это форма, организующая материю. Форма – это принцип единства и существования вещи. Поэтому части формы – это элементы ее определения (род и вид), а части материи – это лишь компоненты, которые она организует.
Критическое описание: Аристотель дает мощный телеологический аргумент. Сущность вещи – это ее функция, ее деятельность (ἐνέργεια). Части определены по отношению к этой деятельности (рука для хватания, глаз для зрения). Следовательно, определение должно указывать на эту деятельность (форму), а не на inert material.
(критический синтез с 1 – 12)
Глава 10. Отношение части и целого: различение материальных и сущностных частей в определении.
Глава 10 представляет собой концептуальную революцию. Аристотель проводит жесткую и плодотворную границу между:
Частями формы (μέρη τοῦ εἴδους): Это компоненты определения (род и видовое отличие). Они логичны, выразимы и конститутивны для сущности.
Частями материи (μέρη τῆς ὕλης): Это физические компоненты, которые могут существовать отдельно (как простые тела) или не могут (как органы). Они невразумительны сами по себе и не входят в сущностное определение.
Это различие позволяет Аристотелю:
Объяснить наши интуитивные практики определения (почему мы определяем одно через части, а другое – нет).
Обосновать примат целого (формы) над частями (материей) как в онтологии, так и в логике.
Заложить основание для функционального подхода к определению сущности: вещь определяется тем, чем она является в своей деятельности, а не тем, из чего она сделана.
Критики (уже в древности) могли бы отметить, что это различие не всегда применимо так же четко, как в примерах с кругом и слогом (например, в биологии форма и материя тесно переплетены). Однако сама рамка анализа оказалась чрезвычайно продуктивной для всей последующей западной философии и науки.
Критический разбор продолжения главы.
[13] …по этой причине одни вещи принципиально состоят из того, в чем они сливаются, а другие – нет.
Перевод/Парафраз: Поэтому одни вещи (конкретные, составные) по своей сути состоят из материи, в которую они «разлагаются» (растворяются при уничтожении), а другие (чистые формы, понятия) – нет.
Комментарий (Лосев): Лосев видит здесь развитие учения о синолу (σύνολον) – составной сущности, которая и есть единство материи и формы. Такая сущность «принципиально состоит» из своей материи, так как без нее она не может существовать как конкретная вещь. Однако ее сущность (чтойность) от этой материи независима.
Критическое описание: Аристотель вводит важный критерий: то, на что вещь разлагается, показывает, из чего она материально состоит. Но это не раскрывает ее сущностного состава.
[14] …но то, что не соединено с материей, но без материи, и чье понятие есть чистое понятие формы, не переходит, либо не переходит вовсе…
Перевод/Парафраз: Но чистая форма (например, математический круг, понятие «души» как таковое), не соединенная с конкретной материей, не «переходит» (не разлагается) на материальные части, потому что у нее их просто нет.
Комментарий (Бугай): Бугай подчеркивает, что Аристотель здесь говорит об абстрактных объектах (математических) и о формах, рассматриваемых отдельно в логике. Их бытие идеально, и потому они не подвержены материальному распаду. Их «части» – исключительно логические (род и вид).
Критическое описание: Это различие между конкретной сущностью (бронзовый шар) и ее формой (шаровидность) фундаментально. Наука, по Аристотелю, должна стремиться к познанию формы, но делает она это через изучение конкретных вещей.
[15] …глиняный столб растворяется в земле, бронзовый шар – в руде, Каллий – в плоти и кости, а круг – в круговых секциях…
Перевод/Парафраз: Конкретные вещи при уничтожении возвращаются в состояние своей материи: изделие – в материал, живое существо – в органическую массу, нарисованный круг – в сегменты линий.
Комментарий (Зарубежные комментаторы): Этот ряд примеров иллюстрирует иерархию материи. «Земля» и «руда» – это уже не просто материя, а «материя второй степени», прошедшая некоторую обработку. Но ключевой момент: процесс уничтожения идет в направлении, обратном процессу создания: от формы назад к материи.
Критическое описание: Аристотель демонстрирует универсальность своей схемы «форма-материя». Она применима к артефактам, живым существам и даже геометрическим фигурам, реализованным в материи (нарисованным).
[16] …круг как понятие и отдельный круг имеют одно и то же имя, потому что [17] отдельные вещи не имеют определенного имени.
Перевод/Парафраз: Мы используем одно слово «круг» и для идеального понятия, и для нарисованного мелом круга. Это происходит из-за бедности языка: у нас нет отдельного имени для каждой конкретной вещи (например, «круг №1», «круг №2»), поэтому мы именуем их по их форме.
Комментарий (Лосев): Лосев усматривает здесь важнейший момент: проблема омонимии. Конкретный круг и круг как эйдос названы одинаково, но их онтологический статус различен. Это одна из центральных проблем метафизики: соотношение общего и отдельного. Язык схватывает общее (форму), а реально существуют отдельные вещи.
Критическое описание: Аристотель указывает на источник многих философских заблуждений: перенос свойств конкретных вещей (которые материальны и destructible) на их сущностную форму (которая идеальна и вечна в понятии).
[18] Части понятия и моменты, на которые делится понятие, либо полностью, либо частично предшествуют понятию… понятие прямого угла не делится на понятие острого угла, а понятие острого угла – на понятие прямого…
Перевод/Парафраз: Логические части определения (род и вид) онтологически и логически первичны по отношению к определяемому целому. Остроугольность определяется через прямоугольность («меньше прямого»), а не наоборот. Прямой угол логически первичнее.
Комментарий (Бугай): Бугай акцентирует, что Аристотель говорит здесь об импликативной и дефиниционной зависимости. Часть (острый угол) не может быть понята и определена без ссылки на целое (прямой угол как мера). Это доказывает логический примат целого (формы) над частью.
Критическое описание: Это сильный аргумент против редукционизма в определении. Нельзя дать строгое определение части, не указав на ту систему (целое), элементом которой она является.
[20] …материальные части, на которые делится вещь, являются более поздними, тогда как части понятия и концептуального бытия являются… более ранними.
Перевод/Парафраз: Физические части (органы) возникают и существуют после и благодаря форме (которая является принципом организации). Логические же части (элементы определения) предшествуют определяемому целому в порядке понимания.
Комментарий (Зарубежные комментаторы): Комментаторы проводят различие между онтологическим и логическим приоритетом. Логически род и вид первичнее вида (чтобы понять «человека», нужно знать «живое существо»). Онтологически форма первичнее материи, так как сообщает ей бытие.
Критическое описание: Аристотель проводит тонкое различие: материальные части хронологически могут появиться раньше (зародыш), но сущностно (по своей функции) они становятся тем, что они есть, лишь в организованном целом.
[21] …душа животных (т. е. субстанция живого) есть понятийное бытие, форма и сущность конкретного тела…
Перевод/Парафраз: Здесь дается классическое аристотелевское определение души: душа есть сущность (οὐσία), форма (εἶδος) и энтелехия (осуществленность) живого тела.
Комментарий (Лосев): Лосев считает это центральным пунктом всей главы применительно к одушевленным существам. Душа – это и есть та самая «форма», части которой (вегетативная, чувствующая, разумная душа) являются частями понятия, а не материи. Они входят в определение жизни.
Критическое описание: Это апогей применения теории формы и материи. Душа – это не часть тела и не нечто отдельное, а организация и функция самого тела. Поэтому определение жизни должно быть функциональным, а не анатомическим.
[22] …определение части тела… не должно быть лишено определения его реализации, а реализация не происходит без ощущения…
Перевод/Парафраз: Дать определение части тела (например, глаза) невозможно без указания на ее функцию («орган зрения»). Функция же (зрение) неотделима от деятельности (осуществления) души (ощущения).
Комментарий (Бугай): Бугай видит здесь квинтэссенцию аристотелевского телеологизма. Сущность органа – это его цель, его работа (ἔργον). Следовательно, часть тела может быть определена только через свою роль в целом, задаваемую душой.
Критическое описание: Этот принцип революционен. Он означает, что биология должна быть функциональной, а не просто описательной анатомией. Мертвый глаз – это «глаз» лишь по омонимии, так как он утратил свою сущность – способность видеть.
[25] Материальные части в некоторых отношениях являются более ранними, в некоторых – нет. Не раньше, поскольку они не могут существовать отдельно…
Перевод/Парафраз: Материальные части могут быть «раньше» в потенции (как lumber для дома) или хронологически (как эмбриональное развитие). Но они не первичны актуально, так как свою истинную сущность обретают только в осуществленном целом.
Комментарий (Лосев): Лосев подчеркивает аристотелевское различение потенции (δύναμις) и акта (ἐνέργεια). Материя есть потенция, форма – акт. Потенция логически и онтологически вторична по отношению к акту, так как определяется через него (потенция к чему-то).
Критическое описание: Аристотель признает правоту здравого смысла (части как-то «есть» и до целого), но уточняет: их бытие до целого – это бытие в возможности, а не в действительности. Действительное бытие часть имеет только в целом.
[26] …есть и части, существующие одновременно с целым, а именно существенные части, носители понятия и субстанции, например, сердце или мозг…
Перевод/Парафраз: Некоторые материальные части настолько тесно связаны с осуществлением формы, что являются ее главными инструментами (например, сердце как центральный орган жизнедеятельности). Они актуально существуют только одновременно с целым и являются материальными носителями формы.
Комментарий (Зарубежные комментаторы): Комментаторы отмечают, что Аристотель здесь эмпирически не точен (спор о сердце и мозге), но его философская интуиция гениальна: он ищет «материальный субстрат» формы, первичный орган, без которого форма не может реализоваться.
Критическое описание: Это попытка связать формальный и материальный аспекты. Форма не витает в воздухе, она必须有 свой главный материальный носитель. В современной биологии этим «носителем» можно считать ДНК и нервную систему.
[27] …Человек, лошадь и тому подобное существуют в отдельных существах; общая сущность существует не сама по себе как единая субстанция, а только как целое, состоящее из определенного понятия и определенной материи.
Перевод/Парафраз: Реально существуют только отдельные индивиды (этот человек, та лошадь). «Человек вообще» (вид, общая сущность) не существует как отдельная самостоятельная сущность (здесь полемика с Платоном). Он существует лишь как понятие (форма) в уме и как принцип, организующий множество отдельных материальных существ.
Комментарий (Лосев): Лосев видит в этом итоговый вывод всей главы и одной из главных идей Аристотеля: отрицание самостоятельного существования идей Платона. Универсалии (общее) существуют в отдельных вещах (in re) и после них (post res) как понятия, а не до них и вне их.
Критическое описание: Это краеугольный камень аристотелизма. Сущность имманентна самим вещам. Это открывает путь для естествознания, которое изучает не мир идей, а эмпирический мир, в котором сущности проявляются через свои материальные воплощения.
Критический разбор завершения главы 10
[28] Как индивидуальное существо, Сократ уже принадлежит к конечной материи, и то же самое с остальными.
Перевод/Парафраз: Конкретный, индивидуальный субъект (ὁ τὶς ἄνθρωπος – «вот этот человек») – это уже составное единство формы (души, «сократовости») и «последней материи» (τῆς ἐσχάτης ὕλης) – его уникальной плоти, костей, т.е. именно этого конкретного тела.
Комментарий (Лосев): Лосев акцентирует термин «последняя материя». Это не просто «плоть вообще», а именно эта плоть, индивидуализированная и оформленная. Сократ отличен от Каллия именно своей «конечной материей», в которую воплотилась одна и та же видовая форма (форма человека).
Критическое описание: Здесь Аристотель указывает на принцип индивидуации. Форма (видовая сущность «человек») делает Сократа человеком. Но его уникальность, его «этость» (τὸ τόδε τι) обусловлена именно материей. Это сложный момент, так как ранее материя объявлялась «непознаваемой».
[29] Поэтому существуют части как формы (я называю форму понятием), так и целого, состоящего из формы и материи. Но части понятия – это только части формы…
Перевод/Парафраз: Таким образом, можно говорить о частях двух типов: 1) части формы (это части понятия, логические части) и 2) части составного целого (синолу), куда входят и материальные части. Но только первые являются частями определения.
Комментарий (Бугай): Бугай видит здесь итог всего предыдущего анализа. Аристотель четко разводит два плана:
Логический план (форма): Части = род + видовое отличие.
Онтологический план (синолу): Части = форма + материя.
Определение имеет дело только с первым планом.
Критическое описание: Это систематизация ответа на вопрос, с которого началась глава. Понятие целого содержит только части формы, а не части составного целого.
[30] …понятие переходит в общее: ведь круг и понятие круга, душа и понятие души – одно и то же.
Перевод/Парафраз: Понятие (λόγος) всегда выражает общее (τὸ καθόλου). Сущность круга (кругообразность) и ее определение тождественны. То же с душой: сущность души и ее понятие – одно.
Комментарий (Зарубежные комментаторы): Комментаторы отмечают, что это утверждение верно для сущности, рассматриваемой самой по себе. «Круг» как эйдос и «понятие круга» идентичны по своему содержанию. Это платоновский момент в мышлении Аристотеля: знание имеет дело с общими сущностями.
Критическое описание: Аристотель утверждает объективность знания. Понятие не является чисто субъективным конструктом; оно схватывает саму форму вещи, которая и есть ее объективная сущность.
[31] С другой стороны, целое, например, этот отдельный круг… не концептуализируется, но [32] познается внутренним созерцанием или чувственным восприятием.
Перевод/Парафраз: Но конкретная, индивидуальная вещь (этот медный шар, этот нарисованный круг) не может быть полностью выражена в общем понятии. Она постигается не через логическое определение, а через непосредственное восприятие (αἴσθησις) или через умственное созерцание (νόησις), например, в математике.
Комментарий (Лосев): Лосев считает это ключевым гносеологическим тезисом. Наука оперирует общими понятиями (формами), но отправной точкой и конечным объектом является индивидуальная вещь, данная в восприятии. Мы видим этот круг, но мыслим круг вообще.
Критическое описание: Аристотель проводит границу между наукой (ἐπιστήμη), которая имеет дело с общим, и восприятием, которое имеет дело с единичным. Полное знание индивидуального (Сократа во всей его уникальности) невозможно, так как оно невыразимо в общих терминах.
[32] …материя сама по себе непознаваема). [33] Материя отчасти чувственно воспринимаема, отчасти умопостигаема…
Перевод/Парафраз: Материя как таковая (ὕλη ᾗ ὕλη) – чистая возможность – непознаваема. Но мы познаем ее всегда уже в некотором аспекте: 1) чувственно воспринимаемую (медь, дерево) и 2) умопостигаемую – как субстрат математических объектов (например, «делимость» линии).
Комментарий (Бугай): Бугай разъясняет этот кажущийся парадокс. Мы никогда не видим «материю вообще». Мы видим материал – уже обладающий некоторыми свойствами (медь – твердая, блестящая). Умопостигаемая материя – это абстракция, мысленное выделение одного свойства (например, протяженности) из чувственного объекта для математического изучения.
Критическое описание: Это глубокое наблюдение. «Непознаваемость» материи означает, что она не является独立льным объектом познания. Она всегда познается опосредованно – как то, из чего сделана вещь, или как то, что подлежит измерению.
[35] …Если теперь кто-нибудь спросит, что раньше – прямой угол, круг и животное, или части… то придется ответить, что на этот [36] вопрос нельзя дать простого ответа.
Перевод/Парафраз: Итоговый ответ на главный вопрос главы («что первичнее – целое или части?») не может быть однозначным. Он зависит от того, что мы имеем в виду: форму, составное целое или материальные части.
Комментарий (Зарубежные комментаторы): Комментаторы видят здесь силу и диалектическую зрелость аристотелевского метода. Он отказывается от простого, редукционистского ответа. Вместо этого предлагается сложная, но точная схема отношений.
Критическое описание: Аристотель избегает крайностей: ни холизма (только целое), ни редукционизма (только части). Он показывает, что приоритет относителен и зависит от контекста (логического или онтологического).
[36] …в одном отношении и в одном отношении они позже… а в другом отношении они раньше…
Перевод/Парафраз:
Логически: Форма (понятие круга) первичнее своих материальных частей (сегментов), но вторична по отношению к частям своего собственного понятия (род «геометрическая фигура», видовое отличие «все точки равноудалены от центра»).
Онтологически: Конкретный круг первичен по отношению к своим собственным материальным частям (этот нарисованный круг первичнее его половинок), но вторичен по отношению к форме, которая делает его тем, что он есть.
Комментарий (Лосев): Лосев предлагает схему:
Части понятия (род, вид) → Понятие/Форма целого → Конкретное целое → Материальные части целого.
Стрелки обозначают отношение «первичнее → вторичнее» в логическом и онтологическом планах.
Критическое описание: Это демонстрация того, что вопрос о приоритете – это вопрос о том, в какой системе отсчета мы находимся. В системе определения части понятия первичны. В системе существования конкретная вещь первична по отношению к своим частям.
[38] Простой ответ дать невозможно.
Перевод/Парафраз: Однозначного ответа «да» или «нет» на вопрос «первичнее ли целое своих частей?» не существует.
Комментарий (Бугай): Бугай считает этот вывод главным результатом главы. Аристотель заменяет простой вопрос на сложную, но точную аналитическую схему, которая позволяет адекватно описать реальность во всей ее сложности.
Критическое описание: Это философская зрелость. Аристотель показывает, что настоящая мудрость заключается не в выборе одной из двух противоположностей, а в умении провести различие (диайресис) и показать, в каком смысле верно одно, а в каком – другое.
Общий итог всей главы 10
Глава 10 представляет собой выдающееся достижение аналитической метафизики. Аристотель приходит к выводу, что вопрос о parts and wholes требует проведения множественных дистинкций:
Различение формы и материи. Это фундаментально.
Различение логического и онтологического планов.
Различение общего понятия и индивидуальной вещи.
Ответ Аристотеля: Части формы (элементы определения) логически первичны по отношению к определяемому целому. Части материи онтологически вторичны по отношению к составному целому (как актуально существующему). Целое (как форма) онтологически первично по отношению к своим материальным частям, так как придает им смысл и функцию.
Таким образом, простое и однозначное решение невозможно, но именно этот отказ от простоты и является главной силой аристотелевского анализа, открывающей путь к адекватному пониманию структуры реальности и познания.
Обобщение: Структура сущности и её определения.
Основная проблема главы: Что является частью сущности вещи и, следовательно, должно входить в её определение (λόγος), а что – нет? Аристотель решает эту проблему, проводя фундаментальное различие между частями формы (эйдоса) и частями материи.
Ключевые выводы и обобщения:
1. Фундаментальное различие: части формы vs. части материи.
Это центральный тезис всей главы. Аристотель проводит жёсткую границу между:
Частями формы (μέρη τοῦ εἴδους): Это компоненты определения – род и видовое отличие. Они выразимы, познаваемы и конститутивны для сущности вещи. Именно они входят в понятие (λόγος).
Частями материи (μέρη τῆς ὕλης): Это физические, чувственно воспринимаемые компоненты (плоть и кости человека, сегменты круга, буквы как графические знаки). Сами по себе они невразумительны и не входят в сущностное определение.
2. Онтологический и логический примат целого (формы) над частями.
Аристотель решительно выступает против редукционизма:
Целое онтологически первичнее своих материальных частей. Палец существует как палец только в составе живого тела, выполняющего свою функцию. Вырванный из контекста целого, он теряет свою сущность и является «пальцем» лишь по названию (омонимично).
Целое логически первичнее своих материальных частей. Понятие части (например, «острого угла») невозможно определить без ссылки на целое («угол, меньший прямого»).
3. Определение выражает только форму.
Определение схватывает чтойность (τὸ τί ἦν εἶναι) – сущность вещи, которой является её форма (эйдос). Поэтому в определение человека входит «разумное живое существо», а не «плоть и кости».
Материя «невыразима» (ἄποιον ὕλη) сама по себе, так как представляет собой чистую потенцию, возможность стать чем-то. Она познаётся только опосредованно – уже как оформленный материал (медь, дерево) или как абстракция («делимость» для математика).
4. Критерий различия: разрушаемость целого.
Ключевым аргументом для различения формальных и материальных частей является следующий критерий: если при разделении целого на части целое уничтожается (например, разделённый круг – это уже не круг, расчленённое живое тело – это труп, а не человек), то эти части – материальные. Их разрушение показывает, что истинное единство и сущность вещи обеспечивала её форма.
5. Принцип функционального определения.
Из этого вытекает важнейший методологический принцип:
Вещь определяется своей функцией, деятельностью (ἐνέργεια), а не материальным составом. Сущность органа (например, глаза) – это его работа (зрение). Поэтому мёртвый глаз – это не глаз по сущности, а лишь по названию.
6. Разрешение исходных парадоксов.
Проведённое различие позволяет разрешить поставленные в начале главы вопросы:
Почему слог определяется через буквы, а круг – нет? Потому что буквы (как смыслоразличительные элементы, фонемы) являются частями формы слога (его звукового паттерна). Сегменты же круга – это лишь материальные части, через которые проявляется форма «кругообразности»; они не конституируют её.
Что первичнее – целое или части? Однозначного ответа нет. Ответ зависит от контекста:
Логически части понятия (род и вид) первичнее определяемого целого.
Онтологически актуально существующее целое (синолу) первичнее своих материальных частей.
Материальные части могут быть первичны хронологически или как потенция, но вторичны актуально.
7. Применение к одушевлённым существам: душа как форма.
Кульминацией главы является применение этой схемы к живому:
Душа – это форма, сущность и энтелехия (осуществлённость) живого тела. Поэтому части души (вегетативная, чувствующая, разумная) являются частями понятия и входят в определение жизни.
Части тела (органы) определяются только через свою функцию, заданную душой.
Общий философский итог:
Глава 10 представляет собой выдающийся образец аристотелевской аналитики, закладывающей основы научного познания. Аристотель показывает, что:











