Читать онлайн Религия и антирелигия: столкновение мировоззрений в эпоху технологий
- Автор: Ашимов И.А.
- Жанр: Публицистика, Религиоведение, История религий
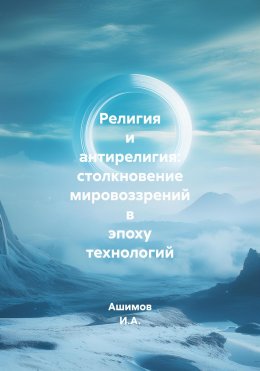
Предисловие
Введение в этот труд – это приглашение к честному диалогу о месте веры и разума в XXI веке. Он не предназначен для того, чтобы дать простые ответы или занять одну из сторон в вечном споре между религией и атеизмом. Задача книги состоит в том, чтобы показать, что это противостояние не является простой дихотомией, а представляет собой сложный и многогранный процесс, в котором задействованы социальные, психологические и технологические факторы.
Труд основан на убеждении, что для адекватного понимания современного религиозного ландшафта необходимо слияние публицистического стиля с философским анализом. Публицистика позволяет уловить пульс времени, зафиксировать актуальные вызовы и проанализировать их, тогда как философия дает инструментарий для глубокого осмысления, помогая выявить скрытые причины и закономерности.
Эта книга – попытка объяснить, как в мире, где наука достигла беспрецедентных высот, религия продолжает оставаться мощной силой. Она показывает, как религиозное сознание трансформируется и адаптируется, используя современные технологии для своего распространения. В то же время, она не уходит от критического взгляда на религиозный догматизм и его влияние на общественное сознание. Это исследование для всех, кто ищет понимания, а не окончательных истин. В чем заключается положительная сторона данной книги?
Во-первых, проведен комплексный анализ, так как мы не ограничивались простым описанием религиозного возрождения, а провели достаточно глубокий философский и публицистический анализ, рассматривая это явление в контексте глобализации, культурных изменений и психологических потребностей человека.
Во-вторых, применен междисциплинарный подход, умело сочетая философские рассуждения с публицистическим стилем, делая сложные темы доступными для широкой аудитории. Этот подход позволяет не только осмыслить теоретические аспекты, но и применить их к реальным событиям.
В-третьих, выполнено критическое осмысление ситуации и материала, ибо, мы не принимали религиозные или атеистические догмы как должное, а подвергли их критическому анализу. Мы говорим, что истинная борьба идет не между «наукой» и «религией», а между догматизмом и критическим мышлением, независимо от того, в какой мировоззренческой системе он проявляется.
В-четвертых, использованы исторические и современные примеры. Мы приводим примеры из истории философии (Ибн Сина, Спиноза, Ньютон) и современности (Ахмад М. Хемайе), что делает анализ более конкретным и убедительным. Она демонстрирует, как старые философские проблемы находят свое отражение в современных дебатах.
Естественно, книга содержит и отрицательные стороны.
Во-первых, речь, прежде всего, может идти о склонность к односторонности. Несмотря на заявленный нами философский подход, в некоторых частях книги прослеживается явный уклон в сторону атеистического мировоззрения. Текст называет некоторые части «пропагандистскими» и критикует отсутствие «рациональности» у отдельных авторов, что может говорить о предвзятом взгляде.
Во-вторых, есть, к сожалению, и негативная коннотация. Мы вольно или невольно применяли такие термины, как «борьба за господство», «религиозный реванш» и «исламская экспансия», что, возможно, создает атмосферу противостояния и может быть воспринято как предвзятое отношение к религии, в частности к исламу.
В-третьих, не смогли мы исключить и некоторую субъективность в оценке. Признаемся в том, что допускали оценочные суждения, например, о «неутешительном выводе» о дефиците «научно-атеистического миропонимания», что может снизить ее объективность в глазах читателя, ищущего нейтральное изложение.
Глава
I
.
От секуляризации к «цифровой религиозности»: парадоксы веры в XXI веке
Мы живем в XXI веке – в веке высоких технологий, космоса, квантового мышления, искусственного интеллекта, а между тем, являемся свидетелями того, что повсеместно, в том числе и в нашем обществе, отмечается парадоксальный всплеск и небывалый темп смены парадигмы религиозного сознания. В чем заключаются истоки такого явления?
Допускаем, что рост религиозности в современном обществе, который можно назвать парадоксальным на фоне продолжающейся секуляризации (отделения религии от государства и общественной жизни), является сложным и многогранным явлением. Его нельзя объяснить одной причиной, но можно выделить несколько ключевых факторов, которые, как правило, действуют в совокупности.
Исследователи считают, что религия – это, прежде всего, механизм совладания со стрессом и кризисом. В современном, стрессовом мире религия выступает как эффективный механизм совладания с жизненными трудностями. Этот процесс можно описать в три этапа: в первой фазе человек переживает кризис, который становится катализатором обращения к вере; во второй – происходит своего рода «озарение», в результате которого человек чувствует, что обрел духовный путь; и в третьей фазе – эмоциональный всплеск утихает, оставляя состояние спокойствия и умиротворения, основанное на вере.
Психологи выделяют «позитивное» и «негативное» религиозное совладание. Позитивное совладание, связанное с поиском смысла и духовной поддержкой, коррелирует с меньшим уровнем тревожности, депрессии и повышением оптимизма. Напротив, негативное совладание, выражающееся в сомнениях и конфликте с верой, может приводить к усилению дистресса. Наличие этого механизма – от поиска смысла в жизни до обретения мира и гармонии – обеспечивает религии практическую ценность, которая выходит за рамки абстрактных убеждений.
Итак, можно выделить ряд функций религии:
1) Компенсаторная функция религии. Во-первых, речь идет о поиске смысла жизни и ответов на экзистенциальные вопросы. В условиях стремительных перемен, утраты традиционных ценностей и ориентиров, люди часто обращаются к религии в поисках смысла, цели и твердой духовной основы. Религия дает ответы на вечные вопросы о жизни, смерти, страдании, справедливости, которые не могут дать наука или светское мировоззрение. Во-вторых, речь идет о снятии психологического и социального напряжения, ведь религия все же помогает справиться со стрессом, чувством одиночества, страхом перед неопределенностью и смертью. Она предоставляет утешение, надежду и чувство защищенности в трудные времена. Особенно это проявляется в периоды социальных кризисов, экономических потрясений или личных трагедий. В-третьих, речь идет о стремлении к справедливости, так как для многих людей, сталкивающихся с несправедливостью в реальном мире, вера в божественное воздаяние или карму становится важной опорой.
2) Глобализация и культурные изменения. Во-первых, речь идет об ответе на глобализацию, ибо, она, приносящая с собой унификацию и стирание культурных границ, может вызывать у людей чувство потери идентичности. Религия в этом контексте часто воспринимается как способ сохранить свою культурную самобытность, национальные традиции и противостоять внешнему влиянию. Во-вторых, речь идет о реакции на секуляризацию, ведь очевидно, в некоторых обществах, где секуляризация привела к ослаблению моральных норм и социальных связей, религия воспринимается как инструмент для восстановления порядка и традиционных ценностей. Это может быть связано с опасением за моральное состояние общества. В-третьих, речь идет о миграции и культурном обмене, ибо, массовая миграция приводит к столкновению разных культур и религий. В этих условиях религия может стать важным элементом групповой идентичности и социальной поддержки для мигрантов.
3) Индивидуальные и социальные потребности. Во-первых, укажем на формирование идентичности. Для многих людей религиозная принадлежность является важной частью их личной и гражданской идентичности. Она помогает определить, кто «свой», а кто «чужой». В некоторых странах, например, в России, православие для многих является элементом «цивилизационного кода», а не только верой в Бога. Во-вторых, можно отметить важность общины и социальной поддержки. Это связано с тем, что религиозные организации предоставляют своим последователям не только духовную, но и социальную поддержку. Они создают общины, где люди могут найти общение, помощь и чувство принадлежности, что особенно важно в условиях атомизированного современного общества. В-третьих, возможность использования религии как социального и политического инструмента. Ведь очевидно, что в рост религиозности в странах со слабо развитой экономикой обусловлен политическими или социальными процессами. Религиозные лидеры и институты могут использовать религию для мобилизации населения, укрепления власти или отстаивания определенных интересов.
4) Изменения в самой религии. Во-первых, адаптация к современности (модернизм). Религии не остаются неизменными. Многие религиозные течения и лидеры адаптируются к запросам современного человека, предлагая более гибкие и индивидуализированные формы веры, что делает религию более привлекательной для новых поколений. Во-вторых, новые религиозные движения. В современном мире появляются и активно развиваются новые религиозные движения, которые часто отвечают на запросы ищущих людей, предлагая им новые духовные практики и мировоззрение.
Мы также понимаем, что «парадоксальный всплеск» не означает повсеместный возврат к строгой религиозной практике. Часто наблюдается феномен так называемой номинальной религиозности, когда человек называет себя верующим, но не соблюдает все религиозные предписания. В этом случае религия выполняет скорее культурную и идентификационную, а не строго духовную функцию. Таких людей в нашей стране становится все больше. Однако, полагаться на таких людей в активной антирелигиозной пропаганде не реально.
Итак, религия как социальный институт, религия выполняет ключевые функции, востребованные в современном обществе. Компенсаторная функция позволяет людям находить утешение, трансформировать негативные эмоции и справляться с чувством отчуждения. Это особенно важно в условиях социальной фрагментации и индивидуализации, когда традиционные социальные связи ослабевают.
В нашей стране имеет место небывалый темп смены парадигмы религиозного сознания. Представители старого поколения, «наученные» советсвком атеизму ожидали совсем другое – упадок и исчезновение религии, но только не ее ренесанс. В современной социологии и культурологии долгое время доминировала теория секуляризации, предсказывающая неуклонный упадок религии в процессе модернизации общества. Согласно взглядам классических мыслителей, таких как Макс Вебер, рост рационализации и науки должен был привести к «расколдовыванию мира» и вытеснению религиозных объяснений. Этот подход предполагает, что религия, лишенная своей монополии на социальное и духовное пространство, постепенно утратит свою актуальность.
Однако, несмотря на эти прогнозы, современный мир демонстрирует явление, которое на первый взгляд кажется парадоксальным: в ряде регионов и социальных групп наблюдается сохранение, а в некоторых случаях даже всплеск религиозного сознания. В этой связи, мы задались целью проанализировать это явление, показав, что классические теории, хотя и остаются важными для понимания исторических тенденций, недостаточны для объяснения сложной, амбивалентной картины современной религиозной жизни. Вместо того чтобы говорить о простом упадке или возрождении, необходимо исследовать трансформацию религии как социального феномена.
Для обеспечения методологической точности необходимо определить ключевые понятия. В контексте данного анализа религиозность понимается не только как формальная принадлежность к той или иной конфессии, но и как «качество индивида или группы, проявляющееся в вере и поклонении священному и/или сверхъестественному на уровне сознания, поведения и отношений как в религиозных, так и в нерелигиозных сферах».
На наш взгляд, такой подход позволяет выйти за рамки простой статистики и включить в анализ экзистенциальные, психологические и поведенческие аспекты веры. Глобальный религиозный ландшафт характеризуется сложной динамикой. Христианство остается крупнейшей религиозной группой в мире, составляя 28,8% мирового населения в 2020 г. В некоторых регионах наблюдается сокращение числа верующих: так, с 2020 по 2024 гг. число христиан в мире уменьшилось на 28 миллионов человек, с заметным снижением в Мексике и США. Количество буддистов также снизилось на 19 миллионов человек, уменьшив их долю в мировом населении до 4,1%.
Что касается ислама, то в период 2010-2020 гг. он был самой быстрорастущей религией в мире. Этот рост объясняется прежде всего демографическими факторами, когда значительная часть наблюдаемого "всплеска" религиозного сознания – это не столько новое явление, сколько прямое следствие демографического импульса, заложенного в структуре населения.
Помимо демографии, еще одной мощной силой, формирующей современный религиозный ландшафт, является феномен «религиозного перехода» – смена религиозной принадлежности в течение жизни. В США на каждого американца, ставшего христианином, шестеро покидают христианство, что объясняет отстающий рост этой религии. Аналогичная тенденция наблюдается и в католицизме: на каждого нового католика приходится 8,4 человека, которые покинули веру, в которой были воспитаны.
Наибольшую выгоду от этого процесса получают люди, не имеющие религиозной принадлежности. Число таких людей выросло на 270 миллионов в период 2010-2020 гг., и они были единственной группой, кроме мусульман, которая увеличилась как процент мирового населения. Этот рост представляет собой еще один уровень парадокса: как эта группа может так быстро расти, если она находится в «демографически невыгодном» положении Это означает, что «всплеск» религиозного сознания – это не просто рост числа верующих, а сложная реорганизация, где одни группы растут за счет естественной рождаемости, а другие – за счет сознательного выбора и смены идентичности.
Итак, ключевой аспект высокого темпа смены парадигмы религиозного сознания – это результат интегративной функции религии. Эмиль Дюркгейм рассматривал религию как важнейший источник социальной сплоченности и братства. Религия формирует уважение к законам и традициям, а также предоставляет людям чувство принадлежности к общности. В мире, где традиционные институты (такие как семья, местное сообщество) теряют свое влияние, религиозные общины эффективно заполняют этот вакуум, предлагая своим членам чувство единства и общую идентичность. Таким образом, «парадоксальный всплеск» является, отчасти, реакцией на те самые силы, которые, как предполагалось, должны были сделать религию устаревшей. Поиск смысла и общности в нестабильном и индивидуализированном мире делает религию не архаичным пережитком, а необходимым социальным ресурсом.
Так называемая «цифровая религиозность» является новым горизонтом веры. В последние десятилетия наметился еще один мощный фактор, влияющий на религиозную жизнь – распространение информационных технологий и развитие «цифровой религиозности». Этот процесс значительно ускорился на фоне пандемии COVID-19, когда многие религиозные практики переместились в онлайн-пространство. «Цифровая религиозность» обозначает новые формы веры и практики, которые возникают в онлайн-среде, включая социальные сети, вебинары и подкасты.
Возникли множество виртуальных культовых практик и онлайн-сообществ. Цифровые технологии создают новые, гибкие формы религиозной жизни. Цели «цифрового миссионерства» заключаются как в привлечении новых последователей, так и в укреплении существующих сообществ. В качестве методов используются создание онлайн-контента, вебинары, подкасты и использование социальных медиа. Примерами таких сообществ служат виртуальные церкви, как, например, «христианская церковь «Благая весть онлайн»», которая проводит богослужения, предоставляет доступ к проповедям и оказывает молитвенную поддержку русскоязычной аудитории по всему миру. Другие примеры включают VR-церкви, онлайн-медитации и цифровые ресурсы, помогающие в изучении священных текстов.
Такая цифровая трансформация веры разрешает ключевой конфликт между географически ограниченной природой традиционных религий и мобильностью современного населения. Интернет позволяет преодолевать физические барьеры и вести «цифровое миссионерство». Кроме того, цифровые платформы способствуют персонализации религиозных практик, позволяя людям формировать свой собственный, уникальный опыт веры. Это является прямым отражением культуры, ориентированной на индивидуализм и потребительский выбор.
Таким образом, технологическая адаптация становится мощной силой, способной не только противостоять секуляризационным тенденциям, но и активно способствовать возрождению религиозного сознания.
Прежде всего, для нашей страны важно отметить взаимосвязь религии и вопросов национальной идентичности. Религия остается одним из ключевых ресурсов, формирующих национальную идентичность и общественное единство. В то же время, она может быть использована как инструмент дестабилизации и управляемого конфликта, что особенно заметно в постсоветском контексте.
В странах Центральной Азии, несмотря на наследие политики воинствующего атеизма, религия (в частности, ислам) вновь играет важную роль в формировании морали и укреплении социальных связей, заполняя идеологический вакуум, оставшийся после распада СССР. Это демонстрирует, как в условиях трансформации религия может становиться основой для нового общественного согласия и возрождения национальной культуры.
Нужно подчеркнуть и роль религиозных общин в интеграции мигрантов. Связь между религией и обществом также проявляется в роли религиозных общин в интеграции мигрантов. Посещение мечетей, например, может служить важным ресурсом для интеграции мусульманских мигрантов в российское общество.
Религиозные общины предоставляют социальные сети, которые помогают мигрантам адаптироваться. Кроме того, религия выполняет важные психологические функции, повышая способность противостоять чувству отчуждения и формируя чувство принадлежности к сплоченному сообществу. Этот аспект напрямую связывает демографические тренды (глобальную миграцию) с социальной функцией религии. По мере роста миграции религиозные общины становятся жизненно важными центрами для сохранения культурной и социальной идентичности, что, в свою очередь, способствует «всплеску» религиозного сознания в принимающих странах.
Взаимоотношения между государством и религией также претерпевают изменения. В Европе существуют разные модели: от жесткого секуляризма, характерного для Франции и основанного на вытеснении религии из публичного пространства, до более гибкой модели в Германии, где церковь выступает партнером государства в социальной сфере и образовании. Пример России, где Федеральный закон от 26 сентября 1997 года «О свободе совести и о религиозных объединениях» регулирует правоотношения в этой области, показывает, как государство признает «особую роль Православия», при этом уважая другие традиционные религии, такие как ислам, буддизм и иудаизм.
По мнению экспертов, такой сдвиг от политики подавления или жесткого разделения к более кооперативной модели является мощным внешним фактором, способствующим росту влияния религиозных организаций. Предоставляя правовую и социальную базу для их деятельности, государство, по сути, способствует публичному выражению веры, что помогает объяснить ее сохраняющуюся актуальность.
Каковы же прогнозы на будущее? Наблюдаемый «парадоксальный всплеск» религиозного сознания не является простым явлением, а представляет собой сложную, многоуровневую трансформацию. Классическая теория секуляризации, хотя и предсказала ослабление влияния традиционных религиозных институтов в развитых странах, не смогла учесть ряд динамических факторов, которые эффективно поддерживают и трансформируют религиозную жизнь в глобальном масштабе.
Проведенный анализ позволяет заключить, что причины этого явления обусловлены четырьмя ключевыми взаимосвязанными силами:
1) Демографический импульс, когда з
начительный рост мирового мусульманского населения обусловлен молодым возрастом и высоким коэффициентом рождаемости, что обеспечивает естественный прирост верующих.
2) Психологическая устойчивость, когда р
елигия остается востребованной, так как предоставляет мощные механизмы совладания со стрессом, кризисами и экзистенциальными вопросами в условиях современного, фрагментированного мира.
3) Технологические инновации, когда ц
ифровые платформы преодолевают географические барьеры и способствуют «персонализации» веры, позволяя людям формировать свой религиозный опыт в соответствии с личными потребностями. Этот процесс делает религию более доступной и гибкой.
4) Социополитическая перестройка, когда р
елигия возрождается как важный ресурс для формирования национальной идентичности и интеграции мигрантов. Кроме того, эволюция отношений между государством и религиозными объединениями от конфронтации к партнерству создает благоприятные условия для их публичной деятельности.
Таким образом, «парадокс» разрешается признанием того, что религиозное сознание не исчезает, а трансформируется, адаптируясь к новым вызовам и возможностям, предоставляемым глобализацией, миграцией и технологиями.
Анализ также показывает, что до сих пор остается неизученным долгосрочные последствия «цифровой религиозности», вносящий серьезный раскол между интегративной и дезинтегративной функциями религии, особенно в контексте межэтнических и межконфессиональных конфликтов, которые могут возникать в условиях глобальной миграции и социополитических трансформаций, что, конечно же, позволили получить еще более полное и детальное понимание роли религии в XXI в.
Глава
II
.
Наука и вера: философский диалог сквозь века
Исследование динамического взаимодействия науки, философии и духовного сознания показывает, что взаимоотношения между научной и философской мыслью и религиозными убеждениями никогда не сводились к простой дихотомии. Эта связь представляет собой динамичный, развивающийся и часто глубоко личный диалог, который на протяжении веков оказывал значительное влияние на формирование человеческого общества.
В данной главе мы исследуем это взаимодействие через призму деятельности ключевых мыслителей, каждый из которых по-своему способствовал развитию «религиозного сознания» (понимаемого как продвижение духовных убеждений и практик) или, наоборот, «антипропаганде» (критике или контрнарративу по отношению к устоявшимся религиозным доктринам). Анализ покажет, что эти процессы не являются простыми актами, а представляют собой сложные социальные явления, обусловленные историческим контекстом, интеллектуальными системами и технологическим прогрессом.
Для целей настоящего доклада определим ключевые термины: Теизм – вера в существование трансцендентного, личного Бога, который создал вселенную и взаимодействует с ней. Пантеизм – философская позиция, согласно которой Бог и природа, или вселенная, являются одним и тем же. Атеизм – отсутствие веры в существование божеств. «Религиозное сознание» – это процесс формирования, укрепления и распространения религиозных идей, убеждений и практик в обществе. «Антипропаганда» – это критика, деконструкция или предложение альтернативы традиционным религиозным доктринам и институтам.
Изучение влияния мыслителей, исповедующих теизм, пантеизм и атеизм, демонстрирует, как их индивидуальные интеллектуальные проекты становились катализаторами для более широких социальных изменений. Великий Ибн Сина (980–1037) во многом придерживался позиции атеизма, но в истории все же остается объединителем теистом-философом. Его роль в истории мысли заключалась не в конфронтации, а в создании всеобъемлющей, самосогласованной системы, которая успешно объединила философские и научные идеи поздней античности, в частности, аристотелевские и неоплатонические концепции, с исламской теологией.
Нами был издан двухтомник «Время и пространство Ибн Сино» (Ашимов И.А., 2016) в серии «Перекличка веков и тысячелетий». Книги изложены результаты исследования научного наследия Ибн Сины. Прослеживаются идейные истоки формирования его антропологических и медицинских воззрений. Показано коренное отличие медицинских воззрений Ибн Сины от современного утилитарного понимания предназначения медицины. В книге раскрывается философский аспект идеи Ибн Сины о психофизиологической и социальной сущности человека, а также выявляются особенности его этико-мистической доктрины сквозь призму идеи «совершенного человека».
В этой серии говорится о том, что в истории науки есть личности, которые меняют стратегию познания, стоят у истоков развития новых научных направлений, задают вектор формирования наук. Чтобы понять, что он успел сделать, каковы его достижения, наследия и вклад в научную сокровищницу цивилизации, нужно расстояние, пожалуй, в сотни, а в нашем случае даже тысячи лет. Исследуя его философские, антропологические и медицинские воззрения мы приходим к выводу о том, что он все же был атеистом, нежели теистом. Об этом мы писали в монографии «Религия / АнтиРелигия» (Ашимов И.А., 2022), вошедшую в серию «Сциентизм / АнтиСциентизм».
Философия Ибн Сино была кульминацией эллинистической традиции, которая возродилась на арабском языке в IX в. Он представил свою работу как рационально строгую систему, объясняющую всю реальность, включая принципы религии откровения. Центральное место в его космологии занимал Бог, понимаемый как «Первопричина» и «необходимое Существо». От этого необходимого Существа, по его учению, произошли десять интеллектов, которые, в свою очередь, передавали божественный свет людям через Активный Интеллект. Эта интеллектуальная структура служила основой для его обширных научных и медицинских трудов, включая энциклопедию «Китаб аш-шифа» («Книга исцеления») и «Аль-Канун фи-т-тибб» («Канон врачебной науки»).
Ибн Сина рассматривал науку как мудрость, и его работы были, по сути, единой классификацией знаний. Его наследие имело глубокое научное и социологическое значение, оказывая огромное влияние на интеллектуальную жизнь в исламском мире и, благодаря латинским переводам, на средневековую европейскую схоластику, особенно на работы Альберта Великого и Фомы Аквинского. Его «Канон врачебной науки» служил основным учебником в европейских университетах до XVII в.
Для Ибн Сины продвижение религиозного сознания не было отдельным актом от научного познания. Его работы представляют собой форму пропаганды про-религиозной идеи, демонстрируя интеллектуальную силу и всеобъемлющий характер теоцентрического мировоззрения. Его подход кардинально отличался от современной специализации, где наука и теология рассматриваются как отдельные области. Он стремился не критиковать, а создавать целостную, интегрированную систему, что позволило его идеям успешно преодолевать культурные и религиозные границы.
Безусловно, для науки важным является революционный пантеизм Бенедикта Спинозы (1632–1677). Этот философ занимает уникальное место в истории мысли, предлагая радикальный подход к вопросам веры и бытия. Его философия основывалась на абсолютном монизме, главным принципом которого было утверждение «Бог, или Природа». Для Спинозы весь мир был проявлением единой, бесконечной и вечной субстанции, которую он называл Богом или Природой. Он уточнял, что его позиция не является примитивным материализмом, поскольку он возвышал Природу до статуса метафизической субстанции, а не просто физической материи. Этот Бог-Природа лишен воли, эмоций или моральных качеств, присущих традиционному, личностному божеству.
Авторская концепция привела к прямому конфликту с ортодоксальной верой. В 1656 г. Спиноза был отлучен от еврейской общины Амстердама за его выпады против религии и за его противоречия традиционному представлению о провиденциальном Боге. Позиция Спинозы о том, что Бог не создает, не имеет целей и не дает указаний, была несовместима с догматами авраамических религий. Несмотря на это или даже благодаря этому радикализму, идеи Спинозы оказали колоссальное влияние на интеллектуальную историю, став одним из краеугольных камней Просвещения.
Творчество Б.Спинозы вдохновлял таких мыслителей, как Лессинг, Гегель, Гёте и Ницше, а ныне, даже спустя пять столетий продолжает вдохновлять ученых, философов и своих последователей. Его часто называли «культурным героем» и «первым светским евреем», что подчеркивает, как его «антипропаганда», направленная против традиционной веры, парадоксальным образом способствовала новому, секулярному пониманию духовности и этики. Пантеизм Спинозы можно рассматривать как форму «антипропаганды», которая одновременно является разрушительной и созидательной.
Нужно отметить, что Б.Спиноза в своем труде «Великая ложь религии» деконструировал традиционное религиозное мировоззрение, но использовал язык религии для построения новой этической и духовной системы. Он не ставил целью уничтожить духовный импульс человека, но стремился перенаправить его от трансцендентного, сверхъестественного божества к имманентным, познаваемым законам Природы. Его критика была направлена на институциональную религию и её недостатки, а не на фундаментальную потребность человека в смысле.
В истории известен как неортодоксальный теист Великий Исаак Ньютон (1643–1727) – фигура, которая, подобно Ибн Сине и Б.Спинозе, размывала границы между научным и теологическим поиском. В отличие от Спинозы, Ньютон был теистом, но его религиозные убеждения были настолько неортодоксальными, что делали его еретиком в глазах Англиканской церкви. Он посвятил теологии гораздо больше времени, чем науке, и в его бумагах содержатся тысячи страниц библейских спекуляций и критических замечаний в адрес отцов ранней Церкви.
Почти пять столетий тому назад Ньютон высказывал свою антирелигиозную ересь, суть которой заключалась в его убеждении, что доктрина Троицы была «дьявольским обманом», а христианское богословие было искажено в ходе религиозных споров в IV в. Он считал, что ему суждено восстановить «истинную религию», которая была изначально «рациональной» и включала в себя поклонение Богу как Творцу. Для Ньютона эмпирическое и рациональное изучение естественного мира, кульминацией которого стала его работа «Начала», было не просто наукой, а формой поклонения и средством раскрытия «первозданного знания» о Боге.
И.Ньютон в своих исследованиях сути религии применял научные методы – эмпирические наблюдения и рациональный анализ – к своим теологическим изысканиям. Этот подход показывает, что для него «антипропаганда» не была отказом от религии, а, напротив, представляла собой глубоко личную, еретическую критику её искаженной формы. Его гений был направлен на очищение, а не на уничтожение веры. Подобный подход демонстрирует, что религиозное убеждение может быть мощным двигателем как для конформизма, так и для радикальной индивидуалистической критики.
До сих пор дихотомия во взглядах на религию сохраняется у многих исследователей. Есть колебания между научным атеизмом и агностицизм. К примеру, в философии Ричарда Докинза, который является центральной фигурой в современной антирелигиозной «пропаганде». В своей книге «Бог как иллюзия» он доказывает, что существование сверхъестественного творца крайне маловероятно, а религиозная вера – это иллюзия.
Р.Докинз утверждает, что религия несправедливо защищена от критики, препятствует науке, способствует фанатизму и оказывает пагубное влияние на общество. Он рассматривает религиозное воспитание детей как форму жестокого обращения, полагая, что термины «католический ребенок» или «мусульманский ребенок» не должны использоваться, так как у маленького ребенка не может быть четкого, независимого понимания мира.
Важно отметить, что его позиция подверглась критике, которая также отражена в предоставленных материалах. Критики утверждают, что подход Р.Докинза идеологически предвзят: он сравнивает религию как несовершенную «практическую деятельность» с атеизмом как теоретически «добродетельной» системой. Они указывают, что автор игнорирует «светское зло» XX в., такое как действия Сталина и Мао, которые были не менее жестокими, чем религиозные конфликты, и коренились в институциональном атеизме.
Утверждается, что Р.Докинз отказываясь видеть связь между этими преступлениями и атеизмом, демонстрирует «пылкую преданность определенному кредо». Его позиция представляет собой прямую, моральную и идеологическую атаку, которая кардинально отличается от домодернистских подходов. Она направлена на полное отторжение религии, а не на её переосмысление, и сама по себе уязвима для обвинений в идеологической предвзятости. В современном контексте дебаты сводятся не к примирению науки и веры, а к фундаментальному столкновению мировоззрений.
Нужно отметить, что в свое время Карл Саган (1934–1996) выстроил агностический мост между теизмом и атеизмом, будучи убежденным в том, что «наука не только совместима с духовностью; она является глубоким источником духовности». По его мнению, «то парящее чувство, это ощущение восторга и смирения, когда мы осознаем наше место в необъятности световых лет и в череде веков, когда мы постигаем сложность, красоту и тонкость жизни, – это, безусловно, духовное чувство».
К.Саган критиковал суеверия и «мифических демонов», но предлагал конструктивную альтернативу традиционным религиям. Он видел путь к созданию «космической религии» (или духовной идеологии, направляемой наукой), которая могла бы служить основой для универсальной морали и общей экзистенциальной цели. Такая система, по его мнению, могла бы вывести человечество за пределы мышления по принципу «мы против них» к коллективному «мы».
Критика К.Сагана, в отличие от Р.Докинза, не была направлена на уничтожение духовного импульса. Напротив, он стремился перенаправить этот импульс. Он утверждал, что наука способна вызвать такое же благоговение и трепет, которые традиционные религии пытались использовать в своих целях. Это свидетельствует о другом типе современной секулярной критики: вместо того, чтобы просто отвергать религию, она стремится построить новую, научно обоснованную духовную структуру. Такой подход может быть более эффективным в долгосрочной перспективе, поскольку он предлагает полноценную светскую альтернативу для удовлетворения фундаментальных потребностей человека в смысле и цели.
Взгляды рассмотренных фигур на взаимоотношения между наукой, философией и религией демонстрируют поразительную эволюцию. От всеобъемлющего синтеза и поиска «чистой религии» до явного атеизма и попыток построить новую «космическую» духовность, каждый из них отражает свой исторический и интеллектуальный контекст.
Мы и ранее на страницах газет и журналов печатали свои атеистические статьи, теперь же в силу актуализации проблемы повышения уровня антирелигиозного мировоззрения населения страны решили издать книгу, в котором изложен цикл тематических философских исследований. Побудительным мотивом для создания специального издания было «религиозная эйфория, охватившая гражданское общество после развала Советского Союза, получения независимости страны с полным распадом атеистической системы воспитания. Более того, когда религия стала вплетаться в государственную политику и становилась все более опасной для будущего нашего общества.
В 2012 г. на русском языке огромным тиражом была издана (немецкое издание!) и распространена, главным образом, в постсоветских странах, хорошо иллюстрированная книга египетского исламиста Ахмада М.Хемайя «Ислам: Почему? Отчего? Зачем?», которая представляет собой глубокий обзор структуры ислама и методов аргументирования в нем. «Данное произведение является результатом углубленного обзора ислама, основывающегося на изучении мною исламских наук у более чем 72 ученых в течение 17 лет», – пишет автор.
Вот-так, спустя более тысячи лет после Ибн Сино, спустя свыше пяти столетий со времен Б.Спинозы, И.Ньютона, на арену религиозной пропаганды выходит современный ученый-исламист Ахмад М. Хемайе, который представляет собой яркий пример архаично-традиционной религиозной пропаганды, с попыткой объяснять суть Ислама через призму современных достижений науки и технологий. Он использует свой обширный академический опыт для продвижения исламского учения, несмотря на то, что во дворе ядерно-кватово-космический век.
Книгу «Ислам: глубокое прозрение» одобряет не только инспекционные органы Университета Аль-Азхар (Египет), представляя его исследования как «аутентичное, всеобъемлющее и более глубокое понимание ислама», но и Мичиганского университета (США). Стало известно, что пропагандист-миссионер Ислама Ахмад М.Хемайе занимается активной гуманитарной деятельностью в Африке, Японии, Восточной Азии, что является современной формой религиозного служения. Его работа по просветительству в вопросах Ислама воспринимают чуть-ли не как классику, перепечатывая и распространяя их уже в других странах мира, в том числе и в странах Центральной Азии.
В отличие от Ибн Сины, который действовал под покровительством государства, и Б.Спинозы, который вел интеллектуальную борьбу с истеблишментом, Хемайе при поддержки Запада и Востока функционирует в рамках глобальной сети, используя сочетание традиционных и современных инструментов. Его деятельность отражает переход религиозных организаций на «религиозный рынок», где они конкурируют за последователей не только богословскими аргументами, но и сочетанием интеллектуального авторитета, социального служения и массовой коммуникации. На наш взгляд, опасность заключается именно в этом, то есть в его современной модели пропаганды Ислама.
Имам излагает позицию ислама по отношению к другим религиям, пытается прояснить многие важные стороны ислама, как государственной системы, его свободы и цивилизованности. Согласен, там много интересного, даже поучительного, но в целом, с первой страницы до последней наивность, абсурдность, субъективность. Так или иначе для атеистов и более менее ортодоксальных религиоведов контент этой книги служит той самой «красной тряпкой» тореадора. Мы решили провести философский анализ утверждений автора в историческом ракурсе религиозных воззрений Ибн Сино, сложенной за тысячу лет (!) до нас, Б.Спинозы, И.Ньютона, сложенной за пять столетий до нас.
Итак, читателю предоставлено право рассудить мысленные параллели. К примеру воззрения Ибн Сино – величайшего гения своего времени и рассуждения Ахмада М.Хемайя – ныне здравствующего ученого-исламиста. В нашей книге впервые делается попытка комплексного подхода к оценке отдельных антропологических и медицинских воззрений Ибн Сины, а в отношении книги «Ислам. Почем? Отчего? Зачем?» делается попытка изложить аргументированную критику.
Вообще, следует это подчеркнуть, зарубежные охотники за «душами» уже давно во все страны, включая Кыргызстан, присылают малоформатные, но хорошо иллюстрированные издания (на русском языке), выходящими по 5 млн. экземпляров («Спаситель мира», «Книга жизни», «Открытое сердце», «Истинный разум» и пр.), которые адресованы широкому кругу читателей. Между тем, это надо расценивать, как настоящую идеологическую диверсия против наших обществ. По прочтении книги Ахмада М.Хемайя у нас сложилось впечатление, что она, по сути, выполняет ту же подрывную пропагандистскую цель в аспекте пресловутой теории заговора.
В данной книге мы также задаемся вопросами: почему атеизм в XXI в. должен стать персоной нон-грата и, образно говоря, сесть на «скамью подсудимых»? А судьи кто? Почему в качестве «следователей» и «прокуроров» выступают имамы, «захватившие» большинство республиканских телевидений и радио, а в роли «судей» выступают государственные органы? Почему в своем «приговоре» они осуждают атеизм и фактически прекращают его существование, перекрыв все каналы его распространения. Почему из учебных планов вузов исключен курс «атеизма», а также прекращена внеаудиторная работа по атеистическому воспитанию в школах и вузах? В чем причина всплеска религиозного сознания людей в пользу религиозности? Почему люди не могут мыслить категориями Ибн Сины, жившего тысячу лет тому назад? Почему люди не прислушиваются мудрыми и аналитическим размышлениям Б.Спинозы о Великой лжи религии, высказанных пять столетий тому назад?
Итак, мы начали с анализа книги ученого-исламиста Ахмада М.Хемайя, написанного в лучших традициях мусульманского даавата (агитация, пропаганда). При этом мы ссылались на концепции в философских трудах Ибн Сино, написанных тысячу лет тому назад, а так же на положениях Трактата о великой лжи религии, написанной выдающимся философом XVII в. Б.Спинозой. Нам не приходится ссылаться на недостаточность знаний в те времена, их устаревание, несостоятельности. Наоборот, Ибн Сино в сравнении с Ахмад М.Хемайя, проживающий сейчас, в XXI в., выглядит безусловным прогрессистом, нежели они. Однако, создается впечатление, что автора просто недоучили логике еще в школе.
Есть и другая проблема. Попытка объединить в обществе религию с наукой – это величайшее заблуждение, такая попытка контпродуктивна, глупа, по сути. В этом аспекте, несмотря на религиозный ренессанс, навязанный обществу в условиях острого кризиса научно-мировоззренческой культуры, в настоящее время есть необходимость мобилизации всех истинных ученых для защиты науки, системы научных знаний и научной деятельности от агрессии со стороны религии, ее адептов, фанатиков и властных защитников. Именно эти соображения заставило автора в свое время «сформировать» группу ученых под общим названием «Антирелигион-групп», которые посвятили не мало своего времени и сил для антирелигиозной пропаганды в лучших традициях научного атеизма.
«Не бог создал человека, а человек создал бога по своему образу и подобию», – писал в свое время Л.Фейербах. На наш взгляд, людям важно осознать эту истину, осмыслить свою онтологическую недостаточность, принять эффективные культурно-научно-образовательные меры по системному эволюционному повышению своего самосознания.
Некогда наша газетная атеистическая статья «Фейс-контроль на мракобесие» вызвала волну споров и дискуссий. В один из дней заявилась группа дааватчы (проповедники) из местного медресе с угрозами. Такие выпады против атеистических мыслей лишь ожесточил на в желаниях довести до широкого круга читателей свои убеждения о том, что научному, атеистическому, нерелигиозному, мирскому, гражданскому, светскому направлению развития человеческой цивилизации, в том числе в нашей стране, не должно быть альтернативы. Таков мотив написания настоящей книги.
На наш взгляд, человек должен понять одну истину – религия, игравшая большую роль на заре цивилизации, когда еще отсутствовали развитые научные знания о мире и самом человеке, в нынешних условиях уровня развития знаний, науки, культуры, постепенно должна ограничить свою активную идеологическую деятельность, а в будущем и свою историческую миссию и уйдет с мировой арены «на тот свет – к Богу», то есть в небытие. Надеемся, что в будущем цивилизация не допустит в своей жизни такого концептуального заблуждения.
Итак, в нашей книге, где идет сравнительный анализ теизма Ахмада М.Хемайя, атеизма Ибн Сино и пантеизма Б.Спинозы. Будучи медиком (хирург, физиолог) по основной профессии и философом (онтология и теория познания) свои атеистические мысли направляю, прежде всего, на медиков. Это и понятно, ведь медицина сейчас погрязла в бездуховности, медики начали терять не только свою сакральность, но и элементарное доверие и уважение в обществе. Самый предвзятый человек может убедится в том, что весь мир заполонили экстрасенсы различных мастей, костоправы, шаманы, знахари. Между тем, это верный показатель падения престижа официальной медицины и его людей.
Медицина, как известно, всегда была и должна остаться самым последовательным и самым грамотным оппонентом любой религии, так как медики, как никто понимают суть человека как психо-био-социо-эссенцильное существо. Между тем, горько и обидно, когда сами медики вдруг начинают долдонить всякую религиозную чушь, вопреки всем канонам медицины. В этом аспекте, буду надеется, что читатель через наши исследования и размышления получит возможность обогатить свое мышление, мировоззрение и внутренний мир, а также повысить свою психологическую устойчивость к агрессивным действиям различных невежд, лжецов, лицемеров, мошенников, манипуляторов и других злонамеренных лиц, количество которых в обществе на сегодня увеличивается.
Нужно отметить, что главные принципы работы нашей Антирелигион-группы – системность, логичность, историчность, разносторонность, объективность суждений. Группа придерживается концепции «позитивного атеизма» Ф.Энгельса: «Атеизм, как голое отрицание религии, ссылающийся постоянно на религию, сам по себе без нее ничего не представляет и поэтому сам еще является религией». Из данной концепции следует, что атеизм ― это не только критика религиозной идеологии, но и позитивная разработка актуальных социально-философских и методологических проблем – проблем самого человека, его социальных отношений, таких категорий, как смысл жизни, ценность, добро, счастье.
Фабула наших рассуждений заключается в том, что члены этой группы твердо и последовательно придерживаются довольно резких принципов, которые когда-то были высказаны К.Марксом: «Религиозное убожество есть в одно и то же время выражение действительного убожества и протест против этого действительного убожества. Религия – это вздох угнетенной твари, сердце бессердечного мира, подобно тому как она – дух бездушных порядков. Религия есть опиум народа. Упразднение религии, как иллюзорного счастья народа, есть требование его действительного счастья. Требование отказа от иллюзий о своем положении есть требование отказа от такого положения, которое нуждается в иллюзиях. Критика религии есть, следовательно, в зародыше критика той юдоли плача, священным ореолом которой является религия» [Карл Маркс, «К критике гегелевской философии права», 1843].
Наши вольные беседы и размышления предназначены для широкого круга читателей, для всех критически мыслящих людей, стремящихся самостоятельно разобраться в том сложном мире, который им удалось посетить в краткий миг своего бытия. Нужно отметить, что под маской членов этой группы вполне могут быть конкретные ученые-медики, которых нельзя отнести к категории малодушных или боязливых людей, которые не смогли преодолеть личные страхи и идеологические зависимости. Нет. Это могут быть вполне реальные, свободные, независимые, объективные и ответственные ученые из числа ныне здравствующих.
Хотелось бы отметить, что в наших монологах речь идет о далеко идущих и неоднозначных, а порою резких оценках и выводах. Ведь ситуация в Кыргызстане сейчас такова, что даже простое утверждение, что «бога нет», верующие вокруг могут трактовать как оскорбление, а экзальтированная толпа фанатично преданных подстрекателей могут запросто закидать камнями любого, кто осмелится так открыто выражать свои атеистические убеждения. А между тем, атеистов в нашей стране никто не собирается защищать от оскорбления со стороны верующих.
Следует отметит, в период существования СССР была попытка создать атеистическое государство, возведшее атеизм в сан государственной идеологии и противостоящее религии. Теперь же, наоборот, постепенно складывается противоположная попытка – создать религиозное государство, возвышающее религию на уровень ведущей духовной силы общества и противостоящее атеизму. Такая политика несостоятельна, по сути, а потому общество не должен ее допустить.
Думается, что государство должно быть нейтральным в борьбе религии и атеизма, не оказывать ни одному, ни другому каких-либо преимуществ и привилегий, равным образом применять к ним закон о свободе совести. Только при этом необходимом условии может быть преодоленной нездоровая духовная атмосфера вокруг атеизма и атеистов. Она чревата серьезными социальными и моральными последствиями, так как подрывает конституционные принципы государства, его демократические свободы, порождает недоверие между светскими и духовными организациями.
Мировоззренческие разногласия между ними, как свидетельствует опыт истории, не могут быть преодолены, в такой ситуации важно, чтобы взаимная критика носила толерантный характер, была свободна от грубых, оскорбительных выпадов. И особенно важно, чтобы мировоззренческие противоречия не превращались в политическую борьбу между сторонниками религии и атеизма.
Следует учесть, что между ними есть интересы, имеющие всеобщий характер, что обуславливает необходимость сотрудничества в решении многих актуальных проблем, в совместной борьбе против преступности и аморализма, против наркомании и алкоголизма, против псевдорелигиозных сект, против мистики во всех ее видах, против всего, что имеет антигуманистический характер.
Как нам кажется, в стране должен наступил тот самый критический период, когда гражданам надо смело и откровенно выражать свои антирелигиозные позиции, причем, чтобы их антирелигиозная деятельность была бы ответственной, объективной, когда они должны руководствоваться жёсткими законами формальной логики, не впадать в эмоцию, чтобы у них не было бы ярко выраженная сциентистская позиция, крепкая позиция диалектического материалиста и атеиста.
Известно, что распространение информационных технологий и ускорение цифровизации религии на фоне пандемии COVID-19 привели к появлению новых форм веры и религиозных практик. Это явление, получившее название «цифровая религиозность», фундаментально меняет социологические функции религии, превращая её из физически воплощенного, общинного опыта в персонализированный и часто дематериализованный.
Онлайн-среда предоставляет новые возможности для «цифрового миссионерства», которое использует веб-контент, вебинары и социальные сети для привлечения новых приверженцев и укрепления существующих сообществ. Примером является христианская церковь «Благая весть онлайн», которая обслуживает географически рассредоточенную аудиторию через онлайн-богослужения и «молитвенную стену». Существуют также виртуальные церкви, такие как VR-церковь американского пастора Ди-джей Сото, и онлайн-курсы по медитации.
Цифровая культура удовлетворяет потребность человека в общении и межличностных отношениях. Она позволяет индивидуализировать религиозные практики и создавать «киберидентичность», которая может отличаться от оффлайн-идентичности. Это явление вступает в противоречие с классическим представлением Эмиля Дюркгейма о религии как о «социальной скрепе», которая сплачивает физическое сообщество. Хотя онлайн-сообщества могут создавать чувство принадлежности для тех, кто чувствует себя отчужденным (например, русскоязычные христиане в разных странах), персонализация может также способствовать формированию идеологических эхо-камер, что потенциально ведет к радикализации.
Цифровой век создает новый «религиозный рынок», где институты и отдельные мыслители конкурируют за внимание и лояльность в виртуальном пространстве. Успех таких инициатив доказывает, что потребность человека в общине и смысле сохраняется, даже когда формы её удовлетворения радикально меняются. Это мощная новая форма распространения религиозного сознания, которая обходит традиционных посредников и иерархии. Именно такой тактики придерживается и наш оппонент Ахмад М.Хемайе. В этой связи, есть необходимость параллельной борьбы за сознание людей в атеистическом плане на такой же платформе.
Интересны сами по себе социологические и психологические контексты веры и неверия. Для понимания роли отдельных личностей в формировании религиозного и антирелигиозного сознания необходимо рассмотреть их в контексте более широких социологических процессов. Классические теории религии, разработанные К.Марксом, М.Вебером и Э.Дюркгеймом, заложили основу для этого анализа. Э.Дюркгейм рассматривал религию как важнейший источник социальной сплоченности и единства. Вебер, в свою очередь, исследовал роль религии в процессе рационализации, анализируя влияние протестантской этики на развитие капитализма.
В современной социологии продолжается спор между теорией секуляризации (идея о том, что религия теряет свое общественное влияние) и теорией рационального выбора, которая рассматривает религию как рынок, где различные «фирмы» (религиозные организации) конкурируют за «потребителей» (верующих), предлагая «сверхъестественные компенсаторы».
Применение этих теорий позволяет увидеть в фигурах, рассмотренных в докладе, не просто отдельных мыслителей, а агентов, действующих и формирующих эти масштабные социальные процессы. Например, синтез Ибн Сины соответствует интегративной функции Э.Дюркгейма. Критика Б.Спинозы и И.Ньютона может быть проанализирована через призму веберовской рационализации. А рост цифровой религиозности и деятельность Ахмада М. Хемайе идеально вписываются в модель «религиозного рынка» Родни Старка. Подобный анализ показывает, что отлучение Спинозы и еретические взгляды И.Ньютона были не только личными конфликтами, но и проявлениями напряженности между стремлением религиозных институтов к монополии и стремлением индивида к интеллектуальной свободе.
Нужно признать, что религия остается актуальной в обществе и необходимой для человека благодаря выполняемым ею социальным функциям, которые видоизменяются с течением времени. К ним относятся: интегративная, которая способствует чувству принадлежности и сплоченности; компенсаторная, которая помогает найти утешение и смысл; и регулятивная, которая формирует этические нормы. Например, в России посещение мечети служит важным ресурсом для интеграции мусульманских мигрантов, помогая им противостоять отчуждению и формируя чувство общности.
С психологической точки зрения, религия служит механизмом совладания. Религиозное совладание определяется как «использование религиозных убеждений или практик для решения проблем и смягчения негативных эмоциональных последствий стрессовых ситуаций». Процесс обращения к религии в кризисной ситуации можно описать в три фазы: Первая фаза – кризис, который выступает катализатором для обращения к вере. Вторая фаза – человек переживает озарение и обретает чувство осознания своего духовного пути. Третья фаза – эмоциональный всплеск утихает, и человек обретает спокойствие, основанное на вере.
Феномен «религиозного переключения», когда люди меняют свою религиозную принадлежность в течение жизни, показывает, что эти функции остаются востребованными. Данные показывают, что многие «переключатели» уходят от традиционного христианства, но не обязательно становятся атеистами. Это не означает, что потребность в социальных и психологических функциях религии исчезла; скорее, люди находят альтернативные способы их удовлетворения, например, в секулярных сообществах, группах самопомощи или через «духовность», не связанную с институциональной религией. Пример К.Сагана, предлагавшего «научную духовность», демонстрирует попытку создать светский путь для поиска смысла.
В конечном счете, будущее веры и неверия – это не линейный прогресс к окончательной победе одной из сторон, а постоянно меняющийся ландшафт, где люди ищут новые «компенсаторы» и формы общности в рамках «религиозного рынка», что подтверждается как макро-, так и микроуровневыми тенденциями. Анализ индивидуального влияния мыслителей становится более полным, если рассматривать его в контексте глобальных социологических тенденций.
Согласно данным Pew Research Center, с 2010 по 2020 г. мусульмане стали самой быстрорастущей религиозной группой, а христиане, хотя и остались самой крупной, сократились в процентном отношении. Основными факторами, способствующими этим изменениям, являются демографические и поведенческие. Рост числа «неаффилированных» в первую очередь объясняется «религиозным переключением», особенно отказом от христианства, которое потеряло значительно больше последователей, чем приобрело. Этот переход особенно заметен в США, где 21,9% взрослого населения являются бывшими христианами.
Взаимодействие между религией и обществом в постсоветском контексте носит особый характер. Наследие советского секуляризма, основанного на воинствующем атеизме, до сих пор ощущается в умах целых поколений. Это создает внутреннее напряжение: одни опасаются возвращения религии в общественную жизнь, другие ощущают нехватку свободы в ее исповедании. Роль государства является критическим фактором, который может как сдерживать, так и формировать религиозное сознание. Правовая база и геополитический контекст определяют, какие формы религии могут распространяться и как. Это создает напряжение между государственной консолидацией (например, в пользу традиционных религий) и динамичными, часто непредсказуемыми тенденциями индивидуального «религиозного переключения» и цифрового распространения.
Деятельность Ибн Сины (процветавшего под покровительством) и Б.Спинозы (отлученного в относительно толерантном городе) можно рассматривать как ранние примеры трения между интеллектуальной свободой и институциональной властью, которое продолжает проявляться в различных формах по сей день.
Итак, проведенный анализ демонстрирует, что роль отдельных ученых и мыслителей в развитии религиозного и антирелигиозного сознания не может быть сведена к простому противостоянию. Эта роль неразрывно связана с уникальным историческим, социальным и технологическим контекстом. «Пропаганда» и «антипропаганда» – это не просто действия, а сложные социальные процессы, которые проявляются по-разному: от всеобъемлющего синтеза Ибн Сины до прямой атаки Р.Докинза, от радикального переопределения Б.Спинозы до конструктивной духовной альтернативы К.Сагана.
Эти индивидуальные роли не существуют в вакууме. Они отражают и формируют более масштабные социологические, психологические и демографические тенденции. Потребность человека в смысле, общине и цели сохраняется, даже когда источники удовлетворения этих потребностей смещаются от традиционных институтов к новым формам, включая цифровые сообщества и секулярные идеологии. Современный «религиозный рынок» становится всё более диверсифицированным, управляемым технологиями, глобализацией и продолжающимися демографическими сдвигами.
В заключение можно утверждать, что в гиперсвязанном и постсекулярном мире будущее веры и неверия будет определяться не окончательной победой одной из сторон, а постоянным поиском новых форм для удовлетворения глубоких человеческих потребностей.
Деятельность Ахмада М. Хемайе, которая сочетает традиционную ученость с современными медиа и гуманитарной помощью, а также распространение цифровой религиозности, являются свидетельством того, что религиозное сознание адаптируется к новым условиям. Этот процесс требует дальнейшего изучения, чтобы понять, как будет выглядеть религиозный и духовный ландшафт в ближайшие десятилетия.
Глава
III
.
Диалог веры и разума: Ахмад Хемайе и философские традиции
Сейчас во всем мире наблюдается смена парадигмы сознания людей в сторону религиозности. Согласны? В особенности, это проявляется в обществах постсоветских государств. Некогда, поколения людей Советского Союза находилось в состоянии настоящего атеистического угара, а сейчас все переживают время внезапного всплеска религиозного сознания людей. Парадокс в том, что за три-четыре десятилетия атеизм стал «подсудимым», духовенство, с которым он вел нещадную борьбу, стал позиционировать себя в роли «прокурора», а власть – в роли «судьи» В чем дело? Почему случилось такое? Надо ли мирится с этим явлением? Как мне кажется вся проблема заключается в том, что в нашей стране исламская идеология постепенно становится государственной идеологией.
По сути, как утверждал еще Ибн Сино тысячу лет тому назад «религия – это проводник общегосударственных задач, у него два лица: одно обращено к государству, другое – к народу. Государство разговаривает с ней – проводником своих идей, посредством софистического вида суждений, чтобы добиваясь своего, скрывать при этом истинное положение вещей: пусть пропагандируют то, что ей велят, а не то, она считает нужным вводить в массы. С народом же власть предлагает религии говорить посредством диалектического суждения, основа которого – общераспространенное мнение». Зацените, какова все же проницательность этого великого мыслителя, жившего тысячу лет тому назад.
Действительно, вопросов роста религиозности нашего общества много. Однако, ошибочно было думать, что в свое время и наши сомнения в отношении ислама, мечети, медресе, их миссии, а также религии в целом, носили лишь интеллектуальный характер. Между тем, ситуация сейчас такова, что наше общество просто обязано поднять уровень своего научно-мировоззренческой культуры, соответствующему нашему веку, характерной чертой которого является научно-технологический прогресс. В этом аспекте, казалось бы пришло время доказательного суждения о месте религии в современном обществе.
Как вам известно, в 2012 г. огромным тиражом издана на русском языке и распространена, главным образом, в постсоветских странах, хорошо иллюстрированная книга доктора Ахмада М.Хемайя «Ислам: Почему? Отчего? Зачем?», которая представляет собой глубокий обзор структуры ислама и методов аргументирования в нем. Он излагает позицию ислама по отношению к другим религиям, пытается прояснить многие важные стороны ислама, как государственной системы, его свободы и цивилизованности. Бесспорно, там много интересного, даже поучительного, но в целом, с первой страницы до последней наивность, абсурдность, субъективность.
Названная книга носит ярко выраженный просветительский и откровенно пропагандистский характер. Действительно, там много иллюзорного, наносного, абсурдного, а поверхностные рассуждения автора, совершенно не отвечают требованиям формальной логики, содержит много противоречивых и абстрактных умозаключений. Люди, которые в силу малого своего кругозора, а потому заблуждающиеся и обманывающие себя, думая, что их сомнения и снисходительность к вере только лишь интеллектуально-познавательны, могут подпасть под чары витиеватых, красиво изложенных текстов автора.
Мы, сделав вышеуказанную книгу и его автора объектом критики, не пускаемся в огульгую критику, а попытались провести анализ его утверждений и сравнивая с основными положениями религиозных воззрений Ибн Сино, Б.Спинозы, И.Ньютноа и др. Как говорил Ибн Сино религия всегда создавала общественное мнение. А ведь его, как, впрочем, и наше отношение к Богу вначале всегда бывает экзистенциально драматическим и в него входят борения инстинкта, интуиции, здравого смысла, абстракции и интеллекта в целом. Однако, символично то, что даже тысячу лет спустя категория мышления Ибн Сино, продолжает поражать наше воображение.
Нас не покидает чувство, что Ибн Сино, будучи религиозным, все же в своих теориях и концепциях допускал искры материализма и атеизма. Ему удалось вывести в мусульманскую философию самое ценное – мысль о вечности материи и мира, о том, что мир не создан богом, существует вечно и развивается по своим, не зависящим от бога законам. С другой стороны, не может не поражать то, что спустя тысячу лет, ученые-исламисты, подобные Ахмаду М.Хемайя продолжают «толкать» в народ исламские догмы о несотворимости мира, о том, что Аллах искусный «планировщик» всего и вся.
Безусловно, такие книги, как «Ислам. Почему? Отчего? Зачем?» запросто могут перетянуть колеблющихся людей на строну религии. В этой связи, предлагаю взять содержание книги всерьез за отсылочный материал для наших рассуждений по вопросам ислама и религии в целом. Ведь под нашей рукой нет других капитальных изданий по исламу. Помнится, в свое время, озабоченный и, по своему «озлобленный» на тенденцию постепенного погружения нашего общества якобы в религиозное мракобесие, писал и обстоятельные труды, касающихся парадигмы сознания человека.
Одной из главных задач моей книги «Концептуальное заблуждение. Атеистический диалог ученых» (Ашимов И.А., 2024) было переложить главные догматы богоутверждения на законы диалектики природы, думая о том, что именно эти законы во взаимосвязи и последовательно раскроют скрытые смыслы, источники, механизмы и направления развития религии, раскроют сущность их законов запрета на противоречия, тождества, допустимости или исключение третьего. При этом были у меня моменты глубокого сомнения, как я выразился выше – борение духа и интуиции.
Помню, осмысливая тезис Эпикура «Очевидно, что сейчас существует Нечто, а Нечто не могло возникнуть из Ничего», я задумался всерьез о постижимости этого Нечто. Не скрою, именно это послужило мотивацией для моего серьезного занятия над проблемами формирования и развития научно-мировоззренческой культуры. Пустившись в исследования, понимая субъективность мышления человека и, даже доказывая который раз тот факт, что само развитие мира – это символ возможности иного, нежели формально-логическое.
А если в серьез, что мы хотели бы доказать своими мысленными экспериментами? В чем заключалась сущность наших исследований? И что в итоге? Хотя, следует признать, что природа религии предельно многоаспектная, историчная и в пылу исследования или обсуждения тех или иных ее сторон, мы часто этот факт не учитываем, а зря. Надо отдать должное автору вышеуказанной книги. Он изобретателен и прозорлив. Ахмад М.Хемайя в самом начале своей книге ставит кардинальный вопрос – «откуда взялась Вселенная?», как-бы задаваясь великим сомнением «Мог ли взрыв создать все эти прекрасные планеты и сложные галактики и солнечные системы?». Вот такой вот кардинальный вопрос на засыпку.
Действительно, до сих пор на кардинальный вопрос «что было до Большого взрыва?» никто еще не нашел ответа. Сутью и конечным итогом моих же работ был анализ якобы несостоятельности основных идейных основ главных религий мира, каковыми являются христианство и ислам. В процессе работы над научными трудами мне пришлось пообщаться с представителями всех религиозных конфессий, с исследовательской целью (!) побывать даже на хадже в Мекке. Скажу так, человек, посетивший Мекку и Медину в дни хаджа по-настоящему встрепенется, навсегда запомнив многомиллионную толпу внешне экзальтированной толпы паломников.
В Мекке-Мадине все подстроено так, что до конца пребывания в хадже паломник продолжает находиться в религиозном экстазе, прислушиваясь не столько внешнему, сколько уже внутреннему звучанию «ля-байка». По сути, паломничество в Мекку и Медину – это громадная, самая мощная и самая результативная пропагандистская машины. Человека, прошедшего через ее жернова, как правило, риторически можно считать почти потерянным для атеистического мировоззрения.
Посещение Мекки с ее Аль-харамом и многомиллионной толпой паломников представляет то еще зрелище. Я видел во многократно малую, но также впечатляющую толпу верующих на центральной площади нашей столицы в айт-намазе. Мне вспоминается, некогда, философ Ж.Урманбетова (2008) рассуждала о проблемах нового и в сознании людей Кыргызстана. – «Невольно содрогаешься, когда видишь переполненную центральную площадь поклоняющихся людей во время праздничных намазов, сосредоточенных на отправлении своих внутренних посылов. Причем не надо быть социологом, чтобы заметить неуклонный рост числа молодых людей с особенной преданностью «уходящих» в это зыбкое духовное пространство».
По сути, хадж – это величайшая площадка для верующих мусульман, он является одним из главных столпов ислама. В какой-то мере я солидарен с Ахмадом М.Хемайя о том, что «во время паломничества человек сбрасывает с себя всю мирскую несущественность и сосредотачивается на своих корнях в качестве человека и как утверждает ислам – существа Аллаха». Что меня поразило, то это взаимное радушие всех людей, посетивших Мекку и Медину, независимо, от расы, цвета кожи, статуса. Там, везде и всюду, в толпе, на дорогах, в магазинах и рынках за самую малость доставленного неудобства человеку можно услышать слово «хадия» с обеих сторон, что означает великодушно прощаю. Это по настоящему впечатляет.
Создается впечатление, что Мекка, Медина представляют собой большую благостную мечеть, а главным дело паломников является всепоглощающее богослужение. Признаться, такое восхищение я слышал от уст многих людей, побывавших на хадже. По возвращении сюда вас, безусловно, поразил тот контраст между увиденным и услышанным там и у нас на нашей грешней земле. Ведь так? Здесь же у нас впечатляет совсем другие видения.
Действительно, когда видишь на улице в толпе молодых людей, с жидкой бородкой, внешне неряшливых, одетых (по арабским канонам) в широкие штаны и длинные халаты, а также обычные шлепанцы на босу ноги, грубых, неотесанных в поведениях и поступках, становится не по себе. Нам кажется, что в голове у них пусто, вместо мозгов – клубки непонятной арабской вязи. Какое заблуждение! Я часто ловлю себя на мысли о том, надо же таким людям упиваться своим несовершенством, с упорством, достойным лучшего применения, уходить от ответов на главные вопросы бытия, а вместо этого, долдонить под нос молитву.
Создается впечатление, что жизнь для таких вот верующих – это также большая мечеть, а повседневная деятельность – также лишь служение Аллаху, как это написано в книге Ахмада М.Хемайя. Кажется, что у них нет ни понимания, ни стремление чего-либо осознать в реальности. Думается, что природа таких людей такова, что они под разными предлогами уклоняются от обсуждения любой реальности, принимая ответы, далекие от Истины. Хотя, есть, конечно же, среди молодых верующих, люди которых волнуют «вечные» вопросы – о смысле жизни, о добре и зле, о смирении и сострадании, но, в большинстве своем, у многих из них сквозит, сознательный отказ от каких бы то ни было поисков ответов. Почему же так происходит? Чем руководствуется такой человек?
Вопросы не простые. По мнению психологов, во-первых, наверное, здесь сказывается опасение, что в случае принятия того или иного определенного мнения человеку веры придется переоценивать самого себя, свою жизнь и свои устремления, а это всегда неприятно и болезненно, во-вторых, вероятно, оказывает влияние и боязнь, что кто-то будет навязывать нам свою волю, лишив, таким образом, свободы в определении своего пути. Многие верующие люди убеждены в том, что высшая оценка их поступков будет дана в обществе только после смерти, то есть в загробной их жизни, которая представляется им не только красивой, беззаботной, сытной, но и справедливой.
Достойны уважения те верующие, кто вопрошает главными вопросами бытия: кто мы? Откуда мы? Куда мы идем? Но таких совершенно мало. А потому, возникает вопрос: удерживает ли ислам в равновесии этот и иной мир в равновесии? Я не разделяю мнение и оптимизм Ахмада М.Хемайя, который полагает, что именно «ислам как единый стиль указывает на гармонию в творениях Аллаха». Между тем, еще В.И.Ленин писал: «В религии ищут утешение». В наше время, в эпоху кризиса и хаоса народ слишком несчастен, чтобы не быть религиозным. Когда впереди ничего не светит, крах надежд, страх. Так, наверное. Есть древнеримское изречение «Страх создал богов». В этом заключается правда.
Есть такие – ищущие себя натуры, которые вопрошают главными вопросами бытия: кто мы? Откуда мы? Куда мы идем? Однако, дорастут ли эти люди до такого уровня осмысления своей природы? Или же они посчитают, что «смиренное поведение перед Аллахом», как пишет Ахмад М.Хемайя, – это вполне достаточно? Однако, в жизни можно встретить и много зрелых людей, неординарных личностей, настоящих мудрецов или же вдумчивых и умных людей, которые искренне верят во Всемогущего Аллаха и посвящают много сил, энергий, таланта и даже всю свою жизнь проповедям религии.
В Кыргызстана таких людей целая плеяда. Широкое и быстрое распространение исламской идеологии у нас в стране во многом благодаря именно таким духовникам. Многие из них котируются в статусе шейхов. Причем, шейхами признает, прежде всего, верующий народ. Этих интеллектуалов народ хорошо знает, почитает, восхищается. Эх! Направить бы интеллектуальный потенциал, талант и энергию «шейхов» на науку, культуру, образование! Конечно же, искренне жаль неразборчивости этих неординарных личностей, которые могли бы составить костяк настоящей интеллектуальной элиты нашего народа. Жалко, что у народа иногда нет альтернативы, к которой можно было бы прислушаться и сверять свои помыслы и поступки.
Согласитесь, на наших глазах рушится целый мир, в котором мы росли, развивались и проживаем. Этот мир был светским, в меру атеистическим, но светским. Если бы все обстояло, как писалось в «Кодексе строителя коммунизма» или как пишется в книге «Ислам» Ахмада М.Хемайя – Ислам – это верный путь к истине, к гармонии, к светлому. Горько осознавать, что в обществе все больше становится людей, у которых зачастую самым главным объявляется не добро, не устремление к Богу, а внешние, как построение мечетей или второстепенные, в виде религиозных обрядов действия – намаз, чтение Корана и пр. Такие люди без каких-либо мыслей и осознаний, без каких-либо откровений и познаний слепо выполняют обрядную и ритуальную часть, а между тем религия – это мировоззрение и особая форма мироощущения. При этом сами ревнители точности обрядов обычно не могут сколько-нибудь связно объяснить их смысл, порой не знают даже истории их возникновения и развития.
Получается, что вера в Бога подменяется верой в безусловную, ни с чем не связанную магическую силу обряда. Это касается и возведения в абсолютную ценность коранических текстов, когда люди пытаются найти прямые и исчерпывающие ответы на все вопросы в аятах (статьях) Корана, слепо следуют урокам даавата (пропаганды). Однако, ни одна книга, а тем более во многом непонятная для абсолютного большинства людей Коран, не может заменить личного развития человека в процессе земной жизни. Тем более если учесть тот факт, что в последнее время появилось множество грамотеев и толкователей священных текстов, которые не чураются того, что ведут свою проповедь среди ведущих ученых, не испытывают неловкость от того, что, имея в лучшем случае среднее образование, пытаются вести пропаганду в среде высокообразованных людей и специалистов. Мы же это видим практически на каждом тое, обрядах, поминках.
Такие духовники, обильно цитируя арабский текст Корана, тем самым, показывая свою религиозную ученость, они без стеснения, бессовестно манипулируют сознанием, вниманием и временем публики, которую не надо учить и наставлять. Неужели им не понятно, что злоупотребляют нашей снисходительностью и терпением. Надо ли с этим мириться? Конечно же, нет. Вспоминается Станислав Ежи Лец, который остроумно заметил, что «В правилах хорошего тона предусмотрено все, даже как должен вести себя неверующий по отношению к Богу». Вероятно, нужно прямо и открыто высказывать им свои замечания. Однако, многие проявляют снисходительность к заблуждениям и невольным недостаткам верующих людей.
«В исламе, наука и вера образуют симбиоз», – гласит в книге Ахмада М.Хемайя. Абсурдность такого утверждения не вызывает сомнения в просвещенном обществе. Наверняка, именно от такого понимания пошла традиция именовать имамов учеными, что не приемлемо по простой причине, что для них приемлем лишь созерцательно-иррациональное мышление. Куда им до настоящих ученых, орудием которых является строго рациональное научное мышление.
Однако, наука, как таковая и так называемая духовная наука рознь друг другу. Будем надеяться на то, что пройдет не так много времени, когда число искренне верующих заметно поубавится, так как глобализация в мире сделает свое дело – рационализирует восприятие мира во всем. То, что мы называем осознаванием, является многомерным процессом, постоянно изменяющим саму реальность. В нашем понимании наука и богословие – принципиально разные, практически несовместимые вещи. Потому речь идет о подмене понятий. Между тем, это самый опасный рокировочный хода в идеологии. В этом у нас в стране преуспевают одиозные трибуны религиоведов, манасоведов, тенгриановедов и прочих сообществ. А что получается у нас? Что Ислам, Манас, Тенгри – стали средствами от головы? Жаль, что на таком фоне все остальное ушло в тень – наука, образование, культура.
Надо признать, что в деятельности муфтиата и мечетей происходят небывалый размах религиозной пропаганды среди людей, в средствах массовой информации, в многочисленных светских и религиозных изданиях и в литературе, в культурных организациях. А пресловутые дааватчы – своеобразные эмиссары исламской идеологии? Между тем, такое явление, как даават в исламе, есть ничто иное как игнорирование прозелетизма – запрета на насильственное, назойливое привлечение людей к религии. Иначе говоря, настойчивое и насильственное привлечение в ислам – это харам (грех).
Не может не привлечь внимание тотальный характер не только религиозного влияния, но и религиозного принуждения в школах, вузах, в медицинских учреждениях, в армии, в местах заключения. Вот-так постепенно возвеличение религии и, наоборот, дискриминация атеизма стало политикой государства. Кстати, это хорошо видно и из демонстративного перехода первых лиц государства и высшего чиновничества на религиозные позиции, хотя в искренность этого перехода мало кто верит.
На наш взгляд, именно политическая и мировоззренческая солидарность духовенства и государства обусловила и постепенное превращение ислама в государственную религию. Это своеобразный парадокс времени. Парадокс и в том, что на рубеже XX-XXI вв. после распада СССР, когда кануло в лету марксизм-ленинизм, социализм-коммунизм, а также научный атеизм, многие люди, в числе которых и ученые-специалисты, позиционировавшие себя материалистами очень скоро сменили свой курс на капитализм, идеализм и теологию.
Ну, никогда не бывало предела ни государственному, ни человеческому приспособленчеству, изворотливости, двуличию, лживости и лицемерию. В этом аспекте, нам искренне жаль, что в свое время идеологи марксизма-ленинизма, как оказалось, наивно пытались идеализировать и переделывать человеческую натуру. Они хотели сделать человека по настоящему человеком. Не получилось! Даже такой упадок и демонтаж политической системы социализма исламисты объясняют тем, что она якобы противоречила исламу, а потому социализм-коммунизм не состоялся. Об этом написано в той самой книге Ахмада М.Хемайя. А ведь идеология, заложенная в «Кодекс строителя коммунизма» в определенной мере соответствуют принципам ислама с его добродетелями.
Помнится, в те переломные 90-е годы прошлого столетия годы по примеру России и в Кыргызстане начали вводить в школах вместо диамата и истмата, а также научного атеизма религиозный образовательный предмет «теология» (учение о Боге), а в университетах стали создавать курсы, кафедры и факультеты теологии. В итоге, теология, как специальность приобрела академический статус, став такой же признанной «наукой», как и все другие естественные, технические или гуманитарные науки.
На наш взгляд, именно отсутствие должной государственной идеологии привело к тому, что Кыргызстан лишь внешне и на бумаге оставался светским, а фактически все больше и больше становился религиозным, теократическим государством. Посмотрите вокруг, все больше становится мечетей, медресе, духовных вузов, людей с бородами, одетых по арабскому стилю, женщин, укутанных платками. А увеличение количества пресловутых халал-магазинов, халал-бутиков, халал-бань и саун, халал-кафе и ресторанов и даже халал-такси, халал-пляжи, халал-гостиницы, халал-клиники. А ведь это запрет для иноверцев.
Было время, когда учебники по марксизму-ленинизму, истмату и диамату, научному атеизму начали прятать в дальний архив. Новая власть и новоявленные идеологи страны, наверняка подумали, зачем учить людей правильному, логическому, критическому, объективному мышлению и пичкать его научными знаниями, коль они станут препятствием для распространения религиозного сознания, догм и мракобесия с тем, чтобы сформировать свой покладистый электорат. Только задумайтесь, у нас в Кыргызстане за последние три десятилетия были построены тысячи мечетей, открыты сотни медресе и духовных учебных заведений, а в школах и вузах, начиная чуть-ли ни с первых шагов обучающихся, введены пропагандистские религиозные предметы и курсы.
Заслуживает отдельного внимание факты открытия намазкана (молельная комната) в самом Белом доме, в Жогорку Кенеше, Верховном суде, министерствах и ведомствах вузах, заводах и фабриках. Они в шаговой доступности на каждой улице, квартале, жилмассиве, микрорайоне. В дни священного орозо-майрама, айта, нооруза прямо на лужайках перед Белым домом, перед зданиями вузов, предприятий и заведений режут жертвенных баранов, тут же их и варят и проводят коллективные трапезы. Внешне это выглядит просто омерзительно.
Полуграмотные имамы всех мастей стали, подобно госслужащим, обязательными участниками различных светских государственных мероприятий. Сейчас им государство выделяет стипендии. А ведь по Конститутции страны религия отделена от Государства. Обязательным стало благословление духовников на любых мероприятиях, они всегда во главе любых торжественных церемоний, праздников любого значения и уровня. Причем, с жертвоприношениями, трапезами, коллективными молениями. Если честно сказать, много и других постыдных и безумных, антинаучных, религиозно ориентированных деяний лежит на совести власть имущих в стране.
Естественным результатом массового зомбирования людей и кыргызского общества стал небывалый рост среди населения религиозных заблуждений, суеверий и предрассудков, усилилась повседневная приверженность людей магии, астрологии, нумерологии, хиромантии и колдовству, расширилась вовлеченность молодых людей в различные течения и секты, включая агрессивного толка, усилилась в гражданском обществе экспансия религиозного страха, безумия, фанатизма, радикализма и экстремизма.
Любой не предвзятый наблюдатель замечает, что экономически, политически и мировоззренчески дезориентированное население бросилось, как и ожидалось, в поисках психологического, душевного, эмоционального успокоения в мечети и церкви, которые в шаговой доступности, стали расти по всей стране как грибы после дождя медресе и духовные исламские вузы, а повсеместно в учреждениях, включая Белый дом, вместо красного уголка и агитзалов, появились молельные комнаты. Создается впечатление, что в государстве принята политика приближения людей к Богу.
Очевидно, побочным результатом практического, в противоречие с Конституцией страны, расширения в государстве религиозной идеологии стала утрата населением интереса к науке, научным знаниям и научной деятельности, а также массовая эмиграция образованной молодежи и ученых в другие страны, что, несомненно, способствовало и способствует научно-техническим отставанием Кыргызстана. А ведь наука, теоретическая и прикладная, сегодня является основой развития человеческой цивилизации, причем, не только в материальном, но, прежде всего, духовном, мировоззренческом, мыслительном отношениях.
В этом отношении примечательно то, что Ибн Сино в вопросах соотношения философии (науки) и религии говорил: в совершенном государстве, религия подчиняется философии целиком и должна нести на себя только воспитательную функцию, полностью контролируемую государством. В несовершенном государстве философы должны создавать видимость согласия философии и религии. Именно для этого науке приходится темно излагать.
Нас всегда коробило подчеркнутое равнодушие кыргызской интеллигенции на проблему радикальной исламизации страны, на нарастающий процесс религиозного одурманивания населения, на абсурдную интерпретацию достижений науки и новых технологий. Иначе не состоялись бы такие одиозные программы, как «Аалам сырлары», «Бардыгыны коюп манасты айт», «Дин жана илим». Представьте себе, что некто, возомнивший себя ученым-мудрецом, ведет телеурок и во всеуслышание рассказывает, что «черные дыры» описаны в Коране. Будто бы Аллах назвал это явление как «тазалооуч», то есть «очиститель». По его интерпретации природа и миссия «черных дыр» – это поглощение греховного и создание безгреховного миров.
Нам всем нужно понять, что мы вновь сами себя вводим в очередное, глобальное, по сути, заблуждение. Сейчас по целому ряду телеканалов идет массирование религиозное одурманивание жителей нашей страны. Где здравый смысл? Где инстинкт и чутье? Ни здравого смысла, ни интуиции. Безусловно, наше общество завралось больше некуда. Вместо того чтобы вести открытую борьбу с религиозной идеологией, наши правители, наш народ, его ученая элита, продолжают нагло, беспринципно заигрывать с ними. Даже выдающейся ученый-исламист аль-Газзали, в свое время убрал учение о двойственной истине, отдав религии религию, а философии – философию. Это он предупреждал исламистов, «залезть в логику Ибн Сино все равно, что залезть в пасть дьявола». В наш век лишь логика и научная картина мира должна торжествовать.
Самое интересное то, что фактически, этим правители беззастенчиво поддерживают религиозную политику. Но самое страшное то, что народ заблуждается, когда снисходительно относятся к росту религиозности в обществе. Некоторые думают, что, мол, пройдёт пятнадцать-двадцать лет, всё образуется, повысится образовательный и культурный уровень людей, они сами рассудят, где и с кем быть. Но это бесплодные надежды. Как мне кажется, ислам уже набрал необходимый потенциал в нашей стране. Его сторонники в Парламенте среди законодателей, они в исполнительной власти, включая науку, образование и культуры. В итоге что-то произойти должно.
Мне кажется, что религия еще сыграет свою темную роль, когда она разделит народы. А это вражда, ненависть, упадок и гибель. В этом плане совершенно не согласен с Ахмад М.Хемайя, который утверждает, что «Ислам – это обитель гармонии, дружбы и взаимосогласия». Поразительна та легкость, с которой этот ярый защитник религиозной доктрины соглашается принимать во внимание результаты и прорывные достижения современной науки и технологий, в то время, как, встав на другую, не зависящую от современных предрассудков, точку зрения, нет ничего проще, чем показать полную бессмысленность, несостоятельность и негативность всех этих результатов.
Религиозные деятели как-то пытаются втянуть философов и ученых в дискуссию, в том числе на площадке «Дин жана илим», где режиссура принадлежит исламистам, главная задача которой является публичное принижение роли науки, унижение ее людей, и, наоборот, параллельное восхваление ислама и его служителей. Что за иллюзия? Дискуссия на этой площадке отнюдь не проясняет, а, наоборот, затемняет и запутывает обсуждаемый вопрос, и чаще всего, в результате дискуссии участники, стремясь переубедить своих оппонентов, как правило, лишь укрепляются в своих убеждениях и правоте.
Логика такова, что мракобесие нельзя победить без системного воспитания заблудших людей и это вызывает искреннее сожаление. Религиозное сознание считает себя вправе оценивать исключительно все, что происходит в мире, низшие судят о высшем, невежество оценивает мудрость, заблуждение господствует над истиной, человеческое вытесняется божественное. Так вот в свое время религия обвиняла Ибн Сину в том, что он замуровал свою душу в узкий гроб логического мышления и потому чужд народу, непонятен ему.
Религия боялась отточенной логики Ибн Сино: «Если суждения соответствуют друг другу, и ты знаешь, что А в соответствии со своей действительностью во всех случаях есть Б, то оно подтверждается без необходимого утверждения. Тогда В становится для всякого необходимого С или вещи, подразумеваемое под С, необходимым. Однако А, наоборот, противоположно этому, так как для всякого, что есть А, необходимо В. Характер С или вещи, подразумеваемой под ним, отличен от характера А. Одно из них никогда не входит в другое. Такое же положение некоторых С». Если бы эта логика была бы принята повсеместно в мире, то там место Богу просто не оказалось бы.
Исходя из такого умозаключения человек обязательно натолкнется на то, что между богом и миром, не связь творца и творения, а причинно-следственная связь. Вот-так Ибн Сино, как говорил аль-Газзали, лишил бога его божественного всемогущества, его божественного творчества. На мой взгляд, причина всплеска религиозного сознания может коренится только в невольной бессознательной затронутости современным духом, который превращает нынешних верующих в носителей внешней скорлупы традиции, и не подозревающих о ее внутреннем глубинном содержании. В этой ситуации мракобесие, хаос побеждают не по видимости и не на короткий период, а по существу и надолго.
Человек, в особенности современный и продвинутый, должен понять, что ни мистика, ни эзотерика, ни мифология, ни языческая, христианская, иудейская, мусульманская и прочие религии, принципиально не способны открывать истинные причины или законы развития реального мира и человеческого сознания, обеспечивать накопление точных и достоверных знаний о действительности в целях их использования для защиты, сохранения и эффективного развития цивилизации. Более того, она является тормозом для прогресса.
Самое кощунственное в книге Ахмада М.Хемайя – это то, что автор перечисляет современные достижения науки и техники, но в то же время, ставит наивный на первый взгляд вопрос: «Но все ли это правда?». В то же время, бесцеремонно утверждает, что «главным планировщиком» всего, что происходит или достигнуто является Аллах. На мой взгляд, человеку суждено понять, что религия, основанная на заблуждениях, предрассудках, суевериях, фантомах, химерах и иллюзиях человеческого сознания, развивая и умножая эти фикции, не может оставаться хранительницей общечеловеческих ценностей и морали в мире сверхновых технологий и квантового мира и мышления.
Нужно понимание того, что не может справедливость и мораль бесконечно базироваться на вымыслах, лжи и подлоге, которые присущи религиозному типу мышления, бессовестно похищающему естественные силы природы и нагло присваивающему их мифическим, вымышленным существам – духам, пророкам, богам. В этом аспекте, доктор Ахмаду М.Хемайя ничего не остается как ссылаться на тех, кто когда-то, где-то высказывался в пользу божественного творения и не ссылаться на тех, кто, как Ибн Сино утверждал о том, что мир создан не Богом, а саморазвивается по своим, независящим от бога законам.
Мне хотелось бы подчеркнуть, что человек должен осознать, что сегодняшняя религия ничем не отличается от сегодняшнего виртуальной, электронной, картиночной реальности, которая, развлекая, завлекая и отвлекая людей от решения действительно серьезных, насущных, жизненно важных проблем, блокирует здоровое, нормальное, творческое, гармоничное формирование и развитие их сознания, мышления и жизненных устремлений. Как и они, религия подсовывает людям ложные или мнимые ориентиры, уводит людские души от реальной земной жизни к несбыточному потустороннему жизни.
Вера верой, но лишь бы наши люди не заболели всеобщей дереализацией мира, когда окружающий мир станет для них неотчетливым, странным, тусклым, застывшим и безжизненным. На фоне Аллаха мирская суета покажется таким людям чем-то мелким и не нужным. Да и сама настоящая жизнь станет ложной, а истинная жизнь «переместится» почему-то в мир иной. Так и хочется крикнуть: Встрепенитесь! Опомнитесь! Для чего вы явились в этот мир? Вы же дитя природы, а не комок грязи!
Посмотрите вокруг. Сейчас улицы и мечети заполонили дааватчы – эмиссары Ислама, которые назойливо пытаются обратить людей в свою веру. Между тем, это никогда не делается ради спасения обращаемого, но только ради того, чтобы заставить человека так же мучится, чтобы, подвергаясь испытаниям, он томился таким же терпением, смирением перед неведомым спасителем. Однако, никогда никого он не спасает, ибо, спасти можно лишь себя, и это удается тем успешнее, чем более умело убеждениями маскирует то несчастье, которое хотят принести другим и щедро одарить. Ну, это разве не мракобесие?
Ахмад М.Хемайя приводит следующие слова: «В самом деле, инстинктивное ощущение существования иного мира после смерти является одним из самых весомых доказательств его существования. Бог же желает убедить людей в этом». Что мы бессмертны? Что нас ждет прекрасная загробная жизнь? Согласно воззрения автора «в день воскресения Аллах воздаст по справедливости тем, кто ушел от наказания на земле, и тем, чьи страдания не были отмщены». Естественно, примитивный ум готов воспринять такую божественную справедливость.
О таких заблудших людей, как дааватчы, словами из Евангелии, можно сказать – «слепые поводыри». Сегодня они назойливо призывают людей в свое слепое стадо. У многих верующих эти самые эмиссары ислама вкладывают в мозги людей тупое лобовое убеждение – «Есть Бог и надо ему уповать!». Совершенно очевидно, что эта процессия год от года становится все более широкой и могучей. Вот-так мы катимся к социальному и мировоззренческому хаосу. Настолько велико ослепление верующего человека, что он и представить не может, что можно выбрать путь каких-то других заблуждений, кроме того, который выбрал он.
Наверняка, мы не одни в своих устремлениях противодействовать мракобесию. Хочу сразу же четко определить свои человеческие, морально-этические, научные, социально-философские, мировоззренческие позиции, чтобы исключить всякие недоразумения. Я, как, впрочем, и вы, убежденный материалист, атеист, анти-клерикал. В свое время Ибн Сино говорил: «Бог – это абсолютное единство, точка, а у точки нет сторон – значит, бог может сотворить только что-то одно, ибо от единого не может быть ничего, кроме единого. Этим единым оказывается – всеобщий разум. «Что же получается, – рассуждает аль-Газзали, – «Власть бога распространяется на то, что он сам лично породил, то есть на Всеобщий разум, а далее он бессилен в смысле управления и влияние на развитие?». Если бы Бог создал лишь Разум и я боготворил бы его за это, но нет же. Природа создала Разум!
Следует ли из сказанного, что Ибн Сино все-таки верил в бога? Я думаю, что нет. До полного уничтожения бога – в философском плане – ему оставался один шаг – ввести в философию учение о самодвижении материи, в результате чего она перестала бы нуждаться в первотолчке. К сожалению, в рамках своего века он не мог к этому прийти из-за недостатка естественнонаучных знаний своей эпохи. Нам в какой-то степени понятно, когда религиозный образ мышления демонстрируют безграмотные и беспринципные люди, можно понять, когда такое мышление демонстрируют в дальних селах и поселениях.
Можно понять и людей гуманитарной сферы – артистов, художников, поэтов или злопыхателей социально-политической конъектуры. Но, совершенно не понять убеленных сединой образованных интеллигентов. Понятно, когда на склоне лет, в преддверии наступающей старости и смерти такую позицию принимают даже ученые-естественники или технари. Для нас лично такие престарелые метаморфозы многих бывших ученых мы списываем на страх смерти человека, желание оставить после себя духовный след, соответствующий текущей общественной ситуации или на обычное человеческое приспособленчество.
Конечно же старые или больные люди «покупаются» на идеи загробной жизни, о которых пишет Ахмад М.Хемайя «В день воскресения тело восстанавливается и объединяется с душой. Вечность для человека существует вне времени, поэтому в ней нет ни старения, болезней, смерти». Это, разумеется, иллюзия. Еще Ибн Сино говорил о том, что «бессмертие человека и рай – в его духовности, а ад – отсутствие ее в человеке».
Как мне известно, Ибн Сино вообще отрицал телесное воскрешение. А как же иначе. Он своими исследованиями знавал человеческое тело как никто другой в те далекие века. Но дело не в этом. Со стариками понятно. Однако, совершенно непонятно то, что в религию бросилась молодежь, а также немалая часть тех самых прогрессивных людей, в числе которых высококлассные специалисты, ученые, педагоги. Неужели наше общество начал деградировать, впадая в религиозную бредь.
В лице ученого-исламиста Ахмада М.Хемайе религия снова, как многоголовый дракон изрыгающий пламя, вновь пытается обжечь своим ядовитым дыханием науку, подмять ее под себя. Уже есть первые плоды такого абсурдного напора, когда религия уже не отрицая науку и научные достижения пытается внедрить в умы легковерных граждан мысль о том, что наука и религия, научное знание и религиозная вера не только совместимы, но дополняют друг друга и даже не могут существовать друг без друга. Однако, наука и религия – это прямые антиподы, а потому никогда и ни в коем случае не следует признавать во мировоззренческих взглядах людей симбиоза рационального и иррационального.
Если говорить о парадоксе нашего времени, который заключается в том, что несмотря на небывалый по масштабу технический и технологический прогресс, внезапно возник небывалый до селе всплеск религиозного сознания. В чем причина этого явления? Что это – кризис современной науки? Снижение авторитета науки и потеря доверия ей людей? А ведь достижения науки на сегодня ошеломляющие. В книге Ахмада М. Хемайя «Ислам: Почему? Отчего? Зачем?» привел интересные высказывания. В частности, лорда Кельвина «Я думаю, что чем глубже изучаем науку, чем дальше отделяемся от любого вида атеизма», в вот высказывание знаменитого физика В.Гейзенберга: «Первый глоток из чащи естествознания делает человека атеистом. Однако, на дне чащи его ожидает Бог». И это при том, что доктор Ахмад М.Хемайя, вроде бы как признает достижения науки и техники, однако, считая, что «главным планировщиком» всего этого был и останется Аллах.
Мы живем в эпоху квантового мышления, XXI в. – поистине век величайших технологических достижений. К примеру: искусственный интеллект, многопроцессорные стационарные суперЭВМ; настольные, переносные, карманные и наручные компьютеры, планшеты и смартфоны, электронные книги и навигаторы, «умные» часы; роботы-интеллектуалы и системы искусственного интеллекта. Все это продукт человеческого творчества, а прислушаешься доктору Ахмаду М.Хемайя, получается, что и эти технологии – предзнаменование и творение Бога.
Меня, прежде всего, как медика – хирурга и физиолога поразила логика автор о том, что это Всевышний изобрел изощренную систему защиту таких важнейших органов человека и животных, как мозг и сердце. А ведь все это продукт многомиллионной эволюции, а не изобретение Бога. Между тем, Человек – это лучшее создание Вселенной. Миллионы лет Природа взращивала его, переходя из низших творческих форм к высшим. Что было до Человека? Вначале космическая пыль, сила тяготения, огонь и вечное вращение. Затем Природа создала планеты, на одной из которых – Земле образовал минералы, мир растений, мир животных и, наконец, мир человека с его Разумом, продуктом которого и явились новые и сверхновые современные технологии.
А такие достижения, как магнитные, оптические и электронные накопители цифровой и аналоговой информации; миниатюрные цифровые фото-, видеокамеры и видеорегистраторы; матричные, струйные, лазерные и 3Dпринтеры; плазменные, светодиодные и жидкокристаллические дисплеи, мониторы и экраны; проводной и беспроводной интернет; оптоволоконная, мобильная и спутниковая связь; развитие сетллерики, хептотехнологий, пересадки сознания; роботохирургия и пр. В книге Ахмада М. Хемайя, и такие достижения науки и техники предопределены Аллахом. В ней говорится, что «Лишь Творец, который смог создать галактику, должен обладать всемогуществом и безграничными знаниями», «Ему подвластны все создание внутреннего единства всего». Между тем, еще в далекие века Ибн Сино заявлял о том, что Природа, создавшего человека разумного, достоин стоять рядом с богом.
Ранние философы еще до нашей эры говорили, что единение бога и человека осуществляется через разум, а поздние философы – не бог создал человека, а человек создал бога. Возвращаясь к вопросу о новых технологиях. Казалось бы такие достижения разбили бы камень на камень мракобесие религии. Ан нет. Наоборот, наблюдается настоящий всплеск религиозного мировоззрения, в том числе и среди величайших ученых рубежа XX-XXI вв. В качестве примера можно привести гениального ученого – академика А.Сахарова. – «Я не знаю, в глубине души, какова моя позиция на самом деле, я не верю ни в какие догматы, мне не нравятся официальные церкви. В то же самое время я не могу представить себе Вселенную и человеческую жизнь без какого-то осмысленного начала, без источника духовной «теплоты», лежащего вне материи и ее законов. Вероятно, такое чувство можно назвать религиозным», – пишет А.Сахаров.
Можно привести высказывание не менее гениального ученого – академика В.Гинзбурга: «Я согласен с папой Иоанном Павлом II, который в своей последней энциклике, опубликованной в 1998 году, написал: «Вера и разум подобны двум крылам, на которых дух человеческий возносится к созерцанию истины». Так что наука и религия вовсе не противостоят друг другу». И это в то время, когда человечество добилось впечатляющих достижений в области постижения микро- и макромира, в том числе исследованиями вышеуказанных ученых».
В одном из последних своих интервью нобелевский лауреат признается: «Я вовсе не верю в религиозность этих ученых, допуская, что в трудные минуты поиска действительных ответов на глобальные вопросы мироздания, их гениальная мысль лишь на время уперлась в незнание. Оттуда и их абстрактные сомнения. Представьте себе, что 7 веков тому назад философ Ибн Тафтазани писал: «С принятием учения об атомах в богословской трактовке можно устранить такие нелепости, как теория существования некоей первоматерии, как вера в извечность мира, телесного воскрешения, вечности движения материи, что тело есть не соединение атомов, а единство материи и формы».
Академики (Сахаров, Гинзбург) правы в том, что сейчас век квантовой физики, химии, биофизики, медицины; разработаны суперускорители и коллайдеры для получения элементарных частиц сверхвысоких энергий и новых, более тяжелых химических элементов; оптические, ионные, электронные и нейтронные микроскопы; наземные и космические оптические, радио-, рентгеновские, гамма- и нейтронные телескопы. А нейтринные детекторы; ракеты-носители, пилотируемые и беспилотные космические корабли, орбитальные станции; автоматические космические аппараты для исследования тел Солнечной системы и космического пространства, космические посадочные зонды и планетоходы, включая луноходы и марсоходы, управляемые с Земли; человек уже 6-й раз посещает Луну и готовится теперь к высадке на Марсе и пр.
На таком фоне ислам же, словами того же Ахмада М.Хемайя, утверждает, что «все это проявление могущества Аллаха, что он единственный глава и единственный центр Вселенной – от атома до всего мироздания». Твердить такую догму в XXI векене отвечают требованиям формальной логики. А знаете в чем заключается подвиг Беруни? Публично он говорил о сотворенности мира богом и о связи его с Высшим Единым, как сотворенного с творцом, а в научных трудах твердо и ясно обосновывал объективный характер природы, развитие ее по связм, не зависящим от Бога законам. О нем и об Ибн Сино говорят, что именно они «подпалили дом теологии с двух сторон».
Безусловно, вышеуказанные величайшие достижения стали результатом применения научного метода познания мира и научно-технического творчества многих тысяч ученых и инженеров разных поколений и разных народов. Однако, весь парадокс состоит в том, что даже вышеприведенные достижения религия хочет обосновать величие замысла некоего мифического Аллаха и «божественного творения» им всей огромной Вселенной, включая человека и его обитель Землю. «Невозможно представить, что миллиарды атомов образуют столь сложную структуру, как тело человека или Галактики, если бы каждый атом двигался по собственному разумению», – аргументирует ученый-исламист Ахмад М.Хемайя. А что является причиной движения всего, включая атомов по Ибн Сино? Противоречие! Это он первым начал на основе последних достижений науки своей эпохи разработать проблему движения, как разрешение тех или иных противоречий. И это тысячу лет тому назад!
Кстати, именно этим открытием он, по сути, предопределил открытие законов диалектики. Человеку встрепенутся, причем, не от мысли научного предвидения Ибн Сино, сколько от мысли, что религия до сих пор кормит человека наивными сказками о божественном творении, что человека Аллах создал из комка земли, вдохнув якобы в него дух. Что вообще такое вера и Бог? На сей счет я скажу, что сейчас существуют два лагеря. Один лагерь состоит из всех религий, с которыми связана любая из существующих вер, все люди которые верят в Бога. Второй лагерь – это вроде нас – Ученые, Атеисты, Скептики, Материалисты, Сциентисты и так далее. Грубо говоря из тех, кто верит в науку. Все споры между этими группами сводятся к двум вопросам, первый вопрос звучит так: Почему ты веришь в Бога? Ты же его не видел, а второй – Откуда ты знаешь, что не Бог создал весь мир, что мы эволюционировали, что был «Большой Взрыв»?
Кстати, еще об одном открытии Ибн Сино. По автору, вне Вселенной в действительности нет никакого пространства. И пустоты нет. Значит, перемещаться в пространстве Вселенная не может. Звучит аксиоматично то, что вера в Бога решает все пробелы в сознании человека, отвечает на все вопросы. На самом деле это проблема, сколько миллионов человек погибло или прожило жизнь зря, просто потому что они верили в то чего может и не быть. Одним примером может быть человек который болеет и в решающий момент говорит: «На все вера Божья» и умирает перестав бороться.
Однако, только задайте себе вопрос как бы выглядел наш мир сейчас, если бы люди не погибали за счет фантазий. Вдруг один из тех кто умер просто так, через неделю сделал бы открытие которое бы объяснило нам многие загадки природы мира и человека. А.Сахарову и В.Гинзбургу можно возразить – мы достоверно знаем о том, что вне материи и ее законов Ничего нет. Тот же самый Ахмад М.Хемайя ставит вопрос: «Что возникло вначале: вселенная или законы, определяющие возникновение Вселенной?». Его единственный ответ – «Вначале был Бог».
Ответ наивен и даже смешен, как впрочем и ответы на вопрос, что собой представляет компьютер? Его ответ звучит так: «Компьютер не имеет ни эмоций, ни органов чувств, ни намерений, не обладает собственным разумом или индивидуальным характером. Поэтому психика и тело человека опять же указывает на Создателя, обладающего обширными знаниями». Вот-так заставляют человека остановить свою мысль, ограничить догмами ее горизонты. Получается уводящий и абсурдный, по сути, ответ. Его мысли – это личные фантазии?
На мой взгляд, пусть они его личными и индивидуальными останутся. А ведь теории таких докторов оказались для религии той самой сковородкой, где крутятся-жарятся религиозные идеологи, пытаясь найти выход из положения, в которое их уверенно загоняет наука. Так, что чем дальше мы постигаем мир с помощью науки, тем меньше места в нем остается для идеи бога.
Наше время ознаменовалась появлением мощных средств производства электрической и тепловой энергии. К ним относятся атомные, тепловые, гидравлические, волновые, приливные, прибойные, гидроаккумулирующие, геотермальные, солнечные, ветровые, биогазовые и другие электростанции и электроустановки; экспериментальные термоядерные реакторы. Однако, как понять гениального ученого С.Хокинга, который высказался: «То, что Вселенная возникла именно в таком виде, трудно объяснить иначе, чем вмешательством некоей высшей силы, намеревавшейся создать существа вроде нас». Гений, открывший законы функционирования черных дыр в своих мыслях опять таки на время уперся в незнание. В свое время и Ибн Сино упрекали в бескрылости его логического мышления. Сын Востока! И так не понимать предопределения!
Есть чему удивится, восхитится. В природе обнаруживается удивительная простота и согласованность. Появились современные транспортные средства, к которым относятся сверхзвуковые турбореактивные самолеты и многоцелевые вертолеты; скоростные океанские и морские многопалубные лайнеры; атомные подлодки и ледоколы, глубоководные батискафы; скоростные морские и речные суда; машины-амфибии; скоростные монорельсовые поезда на магнитной подвеске; электрокары и автомобили на различных видах топлива с использованием компьютерного управления и автопилотов и пр.
Кроме того, появились выдающиеся средства диагностики и лечения человеческого организма, к которым относятся пучковые, ультразвуковые и электромагнитные, включая рентгеновские, гамма и ядерно-магнитнорезонансные, томографы; медицинские лазеры, или «световые скальпеля»; ультразвуковые, инфракрасные и рентгеновские интроскопы; искусственные ткани и органы; визуализаторы биополя; анализаторы ДНК. Ученый-исламист Ахмад М.Хемайя опять же приписывает эти достижения творению Аллаха. «Создатель знает, у него бесконечные знания всего».
По убеждению автора, болезнь можно вылечить чтением Корана у изголовья больного человека, что божественное слово отвернет болезнь. Между тем, еще тысячу лет тому назад Ибн Сино убеждал людей в том, что каждая болезнь имеет свою причину, а для лечения нужно применять выверенную методику. А ведь в те времена его за эти слова считали дьяволом во плоти.
Действительно, кого считать дьяволом – Ибн Сино или Ахмад М.Хемайя? Вот-так просто. Бессовестное упование на Создателя и все. И не надо тешить себя тем, что теологи имеют ответ на многие вопросы мироздания. К примеру, достижения генной и клеточной инженерии, стало возможным клонирование человека, протезирование головного мозга человека, методы биосенсорики, сетллерики и пр.
Нужно полагать, что атеизм по-настоящему станет новым трендом двадцать первого века, люди постепенно становятся реалистами и это плод ментальной эволюции. Однако, я уверен в том, что через некоторое время, сильные страны наберут в себе смелость принять сторону науки и начать учить атеизму с детсадовского возраста. Этого не избежать. Когда это случится будут выделятся самые преданные верующие, за ними будет право оставаться при своем, но механизм перемен уже будет запущен.
Книга Ахмада М.Хемайя широко распространилась во всем мире. С первой страницы до последней, контент ее, несмотря на поражающую простоту задавания вопросов ничего путного в ответ не получены, если получены, то противоречивы и наивны, по сути. Мне кажется не стоит тратить мысленную энергию на то, чтобы поэтапно опровергать религиозных догм, умозаключений, догадки, оговорки этого автора.
Нужно отметить, история хорошо знает, что лучшие достижения человеческой мысли, воплощенные в научных трудах, клеймились господствовавшей в обществе религиозной идеологией как «ересь, заблуждение и безумие». Та же тактика прослеживается и в книге «Ислам: Почему? Отчего? Зачем?». Достаточно вспомнить пресловутый «Индекс запрещенных книг», созданный католической церковью (XVI в.), выпускавшийся до середины XX в. и содержавший до 20 тыс. книг передовых мыслителей и ученых, противоречащие «вечным библейским истинам» и поэтому достойные лишь сожжения на кострах вместе с их авторами. Таких трагедий было множество.
Нужно отметить, что государи и жрецы религии всегда отлично понимали, что наука может освободить человеческое сознание от религиозного подлога и обмана и стать могильщиком религии. История знает, что лишь сбросив с себя религиозные оковы, наука обрела, наконец, ту настоящую свободу и мощь, которые позволили ей за последние 3-4 века стать для человеческой цивилизации эффективной производительной силой, приведший к небывалому научно-техническому прогрессу и экономическому прорыву.
С той далекой поры наука начала справедливо рассматриваться не просто как орудие, средство или предмет облегчения и улучшения жизни человека, но как единственно надежный и правильный фундамент для нового и всеобщего человеческого знания и мировоззрения. В этом аспекте, наука, в отличие от религии, которая разъединяет, разделяет и противопоставляет человечество по вероисповеданиям, конфессиям, церквям и сектам, а их, как известно, сотни тысяч, создает единую основу миропонимания, мироощущения, мировоззрения для всех людей земного шара.
Много лет тому назад вышла книга «Жизнь после смерти», ставшая бестселлером. Однако, как медики утверждают, что жизнь после смерти есть только по той причине что нам очень-очень хочется в это верить. В ходе эволюции выживал тот, кто хотел жить – отчаянно хотел жить, кто этого не хотел – вымирал не дав потомства. Получается, в итоге мы являемся существами жутко желающими жить, но при этом осознающими что жизнь конечна. А потому вдруг становится известным, что после смерти жизнь то же есть, потому что нам этого очень хочется. По сути, это нелепое суждение о том, что вселенная существует лично для нас, это вроде думать, как младенец, думающий, что мир крутиться вокруг него. Коран, также как и Библия, уверяет, что невозможно грешному человеку проникнуть в небеса: «Эй, вы твари! – восклицает Аллах в Коране, обращаясь к людям. – Попробуйте отойти от земли, но нет, не можете отойти». Это же абсурд.
Человек не только оторвался от Земли, он уже годами живет в небесах на космических станциях. Да. Сегодняшняя наука, благодаря генетическим исследованиям ДНК разных народов и рас, установила общее природное родство всех ныне живущих людей, а также их отдаленное генетическое сходство с другими земными живыми существами, начиная с простейших и заканчивая гоминидами. Весь парадокс в том, что даже «Геном Человека» нынешние адепты религии начали беззастенчиво приписывать божеству.
Научные знания, законы, закономерности касаются ли они астрономии, физики, химии, геологии, биологии, палеонтологии, археологии, математики или других сфер знаний, одинаковы для всех разумных жителей не только Земли, но и для возможных цивилизаций в далеких уголках Вселенной, коих возможно будет еще открывать в будущем. В этом аспекте, задача науки – открыть и познать эти законы, сделав их доступными для человеческого сознания и понимания. Между тем, религия бессовестно извещает о том, что якобы в Коране ли, в Библии ли, в Талмуде ли, в буддийских притчах ли есть сведения о нанотехнологиях, о клонировании, о далеких межпланетных связях. Это же вранье!
Пожалуй, познав законы природы и отбросив те заблуждения и иллюзии, которыми человечество питало свой дух тысячелетиями, оно, наконец-то, должна была сделать первый и главный правильный шаг по пути преодоления своей идеологической и религиозной разобщенности, приблизившись тем самым, хоть немного, к подлинной сути цивилизации Человека Разумного. И это становится сверхактуальным позывом человечества, ибо современные угрозы самому существованию человечества приобретают ныне всеобщий, глобальный и критический характер.
По моему разумению эти угрозы исходят как из космического пространства, как возможности столкновения Земли с крупными астероидами и кометами, так и рождаются в земной биосфере – возникновение и распространение эпидемий, вызванных появлением новых и мутациями известных вирусов и болезнетворных бактерий, рост количества онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний, ожирения и диабета, рост количества аномальных родов и младенцев с врожденными патологиями, включая генетические заболевания, рост количества психических заболеваний и преступлений, совершаемых на почве психических, сексуальных и других отклонений, рост загрязнения биосферы и связанные с ним климатические катастрофы и пр.
Бесспорно, сюда можно отнести войны с их массовой гибелью населения стран и континентов. Между тем, Ахмад М.Хемайя пишет о том, что «человеку не надо боятся смерти, так как земная жизнь лишь преддверье в его настоящую жизнь в раю», что «после сорока лет тишины без жизни, человек по призыву гигантской трубы воскреснет по воле Бога». Будет «божий суд» над каждым, который продлится 50 тысяч лет. Вот-так, религия беззастенчиво призывает даже ускорения времени мирового светопредставления. Что остается делать человеку – ждать, что тот великий ум, который откроет всем глаза, заявив, что он Всемогущ? Нет. Нужно повышать уровень научно-мировоззренческой культуры каждого человека. Вот тогда будет ближе миг когда человек будет действовать по законам природы, будет управлять своим мозгом и сознанием на максимуме своих природных возможностей, а не по инерции своего религиозного сознания о всемогуществе Бога.
Казалось бы, что наша цивилизация должна была принять за аксиому то, что лишь наука может блокировать или хотя бы снизить риски подобных глобальных угроз, тогда как религия, которая уповает только на Всевышнего Аллаха и знает только одно: «Молись и надейся на Аллаха!» – это иллюзорное упование, абсолютная абстракция и беспомощность религии перед ликом всеобщей угрозы. Всем ясно, что эффективную защиту нашей цивилизации может обеспечить только наука и созданные на ее основе новые искусственные технологии и средства защиты, блокирующие реальные и потенциальные угрозы человечеству и самой жизни на Земле. Другой альтернативы просто нет и это человечество уже должно осознать вконец.
Наша цивилизация, все страны и народы, в условиях бурного научно-технического прогресса и понимания глобальной и безальтернативной роли науки, человечество должно было бы славить науку, а собственное мировоззрение и обыденное мышление постепенно, шаг за шагом, переводить на новый, научный уровень понимания реального мира, отрешаясь от прежних многовековых житейских и религиозных предрассудков, суеверий и заблуждений. Однако, на самом деле все происходит совершенно наоборот. Парадокс в том, что люди, ежедневно пользующиеся плодами науки и техники, даже не пытаются менять свои архаичные взгляды и сопутствующие им традиционные привычки на современные общедоступные научные знания, позволяющие сформировать человеку новый взгляд на себя и динамично изменяющийся окружающий мир, а также выбрать новые достойные цели и психологические установки, способные привести человека к улучшению своей собственной жизни.
Год тому назад наше человеческое общество облетела весть о том, что экологическое равновесие на нашей планете прошла свою точку невозврата (!). Реакция людей была совершенно неадекватной – люди покивали головой, немного взгрустнули, а затем забыли об этом факте и продолжили свою жизнь и деятельность, как будто бы речь шла об экологической глобальной проблеме не Земли, а какой-то чуждой и далекой планеты. Реальный мир, в том числе в пределах нашей страны, давно и сильно изменился, но устаревшие многовековые духовные традиции Ислама продолжают цепко держать в своих объятьях ограниченное человеческое мышление наших людей.
Как и столетия назад, сегодня, в XXI веке, в массовом сознании продолжают царствовать религиозные представления людей о себе и мире. Люди верят в чудеса, в скрытые мистические силы, в общемировой разум, в Аллаха, поклоняются и молятся им, совершают в их честь в мечетях и на городских площадях коллективные богослужения и жертвоприношения, гнут спины и бьют поклоны, организуют дааваты, совершают хадж в Мекку-Медину, там они побивают камнями невидимых шайтанов, а также совершают иные безумные действия, странные и удивительные для современных здравомыслящих, скептически относящихся к народным глупостям, предрассудкам и суевериям людей.
Следствием многотысячелетнего религиозного самопрограммирования человечества, в том числе и у нас в стране стало насыщение нашей обыденной речи массовой пустой фразеологией, за которой нет реальности, но скрываются лишь безликие «Ничто» и «Никто»: «С нами Аллах… Аллах с вами…Аллах с тобой…иди с Аллахом…слава Аллаху…ради Аллаха…Аллах в помощь…все от Аллаха… у Аллаха всего много…Аллах все видит…Аллах знает…Аллах милостив…помилуй Аллах…Аллах даст…Божий дар…дай Аллах…Аллах поможет…Аллах накажет…Аллах тебе судья… надейся на Аллаха…один Аллах без греха…с Аллахом не поспоришь…все под одним Аллахом ходим…». То есть везде и всюду Аллах-Акбар! (Хвала Аллаху).
Доктор Ахмад М.Хемайя рассуждает: «Если мы ясно понимаем, что некоторые галактики, и мельчайшие частицы природы нельзя увидеть, то нам представляется понятным и то, что невозможно увидеть и Созидателя всего этого». Из этого он делает вывод о том, что наука может исследовать и объяснить лишь то, что позволено Богом и то лишь в пределах существующей Вселенной. Абсурд конечно же. Действительно, вера в реальность существования Аллаха стала самой навязчивой иллюзией, химерой и фантомом массового общественного и индивидуального сознания. Она основана, прежде всего, на общечеловеческом невежестве и постоянных людских страхах перед несчастьями, болезнями, страданиями и неизбежной личной смертью.
Доказано, что научное просвещение, повышение уровня научно-мировоззренческой культуры населения может снизить степень массового и личного невежества. Хотя само по себе это еще не является достаточным условием, чтобы освободиться от религиозной веры, ибо, как свидетельствуют факты, даже многие современные ученые, являющиеся крупными специалистами в своих относительно узких областях, продолжают верить в Аллаха в силу тех или иных причин. То ли по своему, как ни странно, невежеству в мировоззренческой сфере, то ли по недостаточному знанию. Сюда можно отнести и недостаток атеистического воспитания, сложившейся архаичные семейно-родовых традиций, то ли под давлением своего ближайшего религиозно настроенного окружения.
Как нам кажется, научные подходы и знания должны объединить все человечество на основе разума, а не животных, звериных инстинктов, которые повсеместно господствуют среди людей и поныне. Мы надеемся, что читатели, не утратившие еще своего любопытства в познании того мира, в котором они живут и который оставят в наследство своим потомкам, задумаются о собственном типе мышления, о собственных предрассудках и суевериях и попытаются ограничить их действие в своей жизни, а также их влияние на свое потомство и ближайшее окружение. Напрашивается такая реплика: Поверьте, нет никаких оснований уповать только на Бога! Его нет и никогда не было! Не Бога создал человек, а сам человек создал Бога!











