Читать онлайн Архитектор Хаоса
- Автор: Моше Маковский
- Жанр: Криминальные боевики, Современные детективы, Триллеры
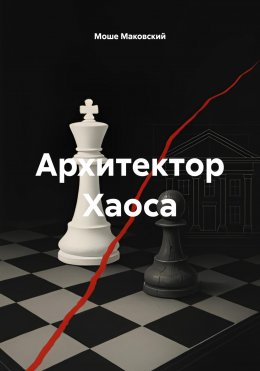
Нужно завести соперника в густой темный лес, где 2+2=5, а тропинка, ведущая наружу, известна только тебе одному.
– Михаил Таль, 8-й чемпион мира по шахматам.
Глава 1. Аплодисменты из серебра
Колокольчик над дверью издал тихий, дребезжащий стон и затих, словно испугавшись собственного звука. Пылинки, потревоженные сквозняком, закружились в косом луче августовского солнца, пробивавшемся сквозь мутное стекло. В антикварной лавке «Временная петля» пахло пылью, старым деревом и едва уловимой нотой воска – запах историй, давно закончившихся для всех, кроме предметов, которые их пережили.
За прилавком, делая вид, что увлеченно протирает бархоткой старый бинокль, стоял человек, известный в этом маленьком мире как Сергей Андреевич Тихонов. Невысокий, с аккуратной стрижкой, в очках с тонкой оправой и слегка потертом твидовом пиджаке, он был живым воплощением своего заведения: незаметный, покрытый патиной времени и кажущийся абсолютно безобидным.
На самом же деле его звали Артур Волков, и он ненавидел твид.
Вошедший был полной его противоположностью. Родион Павлович, владелец сети стоматологических клиник, был мужчиной крупным, громким и лоснящимся от самодовольства. Он считал себя знатоком антиквариата, полагая, что хороший вкус можно купить так же легко, как новую модель немецкого седана.
– Сергей Андреич, голубчик, не отвлекаю? – пробасил он, оглядывая заставленные полки с видом плантатора, инспектирующего свои владения.
– Родион Павлович, что вы, всегда вам рад, – мягко улыбнулся Артур, откладывая бинокль. Его голос был таким же непримечательным, как и его внешность. – Чем могу служить? Снова ищете что-то для вашей коллекции табакерок?
– Ищу, всегда ищу! – Родион Павлович щелкнул пальцами. – Но сегодня у меня другая цель. Один мой… кхм… конкурент, давеча хвастал портсигаром работы Фаберже. Хочу утереть ему нос. Нужно что-то с историей. С легендой!
Артур задумчиво потер подбородок. Это был тот самый момент, которого он ждал три недели. Три недели он изучал маршруты Родиона Павловича, его привычки, его профили в социальных сетях, где тот выставлял напоказ свои приобретения. Он знал о его «конкуренте» и о его тщеславии больше, чем лечащий врач знал о его давлении.
– Легенда… дело тонкое, – вздохнул Артур-Сергей. – Сейчас на рынке столько подделок, столько фальшивых историй… Я, знаете ли, предпочитаю вещи честные. Вот, например, этот бинокль…
Он снова взял в руки бинокль, и Родион Павлович нетерпеливо поморщился. Крючок был заброшен. Первый принцип Архитектора: никогда не предлагай то, что хочешь продать. Создай вакуум, и цель сама устремится в него.
– Бинокли меня не интересуют, – отрезал бизнесмен. – Покажите лучше что-нибудь… из серебра.
Артур с деланой неохотой отложил бинокль и, помедлив, достал из-под прилавка небольшую деревянную шкатулку. Он открыл ее без всякой театральности. Внутри, на выцветшем бархате, лежал серебряный портсигар. Простой, без вензелей и камней, но с изящной гравировкой – переплетенные буквы «П.А.» и маленькое изображение компаса. Поверхность была испещрена мелкими царапинами, а в одном углу виднелась крохотная вмятина.
Родион Павлович недоверчиво хмыкнул.
– И это все? Выглядит… просто.
– Так я и говорю, вещь честная, – пожал плечами Артур. – Серебро 84-й пробы, начало века. Мастер неизвестный. Я его взял в нагрузку к одному гарнитуру. Думал, отдать на переплавку, если никто не заберет.
Он начал закрывать шкатулку, но рука Родиона Павловича остановила его. Второй принцип: ценность вещи прямо пропорциональна твоему безразличию к ней.
– Постойте. Дайте-ка взглянуть.
Он взял портсигар в руки, его толстые пальцы неуклюже ощупывали гладкий металл. Артур молчал, давая тщеславию клиента сделать свою работу. Родион Павлович считал себя экспертом. Он заметит то, что «простак»-продавец упустил.
– «П.А.»… – задумчиво протянул он. – А компас к чему? Моряк какой-то?
Артур изобразил напряженную работу мысли.
– Да кто ж его знает… Ко мне с ним попала вот эта карточка, – он извлек из той же шкатулки старую, пожелтевшую фотографию мужчины в форме офицера императорского флота. – Сказали, будто бы его. Но вы же знаете, как эти торговцы любят сочинять…
На самом деле, фотографию он купил на блошином рынке за копейки. Офицера звали Петр Архипов, и он действительно служил на флоте, но к этому куску серебра не имел никакого отношения. Всю информацию Артур нашел в открытых архивах за один вечер.
Родион Павлович достал из кармана смартфон и, прищурившись, начал что-то искать в интернете. Артур внутренне усмехнулся. Он ждал этого. Две недели назад Алиса, его верная помощница, разместила на малоизвестном форуме любителей военно-морской истории длинный пост о «забытом герое», капитане Петре Архипове, который якобы участвовал в некой секретной картографической экспедиции в Арктике. Пост был написан так, чтобы поисковики находили его по ключевым словам «офицер флота П.А. компас».
– Так-так-так… – возбужденно пробормотал Родион Павлович, его лицо покраснело от азарта. – А ведь это, голубчик, может быть очень интересно! Капитан Петр Архипов! Участник экспедиции «Северная Корона»! Пропал без вести в 1912 году! Боже мой, да если это его портсигар…
Он смотрел на Артура так, словно уже выиграл миллион. Он был уверен, что этот недалекий антиквар понятия не имеет, какое сокровище держит в руках. Люди готовы поверить во что угодно, если это подтверждает их собственную гениальность.
– Да что вы говорите? – с искренним, как казалось, удивлением произнес Артур. – Экспедиция… Надо же. А я-то думал… Сколько же он тогда может стоить?
– Это мы сейчас обсудим, – потирая руки, сказал Родион Павлович. – Главное, чтобы вы его никому другому не…
Переговоры были короткими. Начав с символической суммы, которую Артур запросил «за серебро и работу», они закончили на цифре, в тридцать раз ее превышающей. Родион Павлович ушел, сияя, крепко сжимая в руке «легенду» и чувствуя себя гениальным кладоискателем, обведшим вокруг пальца наивного продавца.
Когда звон колокольчика затих во второй раз, Артур Волков снял очки и устало потер переносицу. Маска «Сергея Андреевича» сползла, и в зеркале на стене отразилось другое лицо: с холодными, анализирующими глазами и тенью презрительного удовлетворения в уголках губ.
Он достал из кассы пачку купюр. Это было неплохо. Но деньги никогда не были для него главной целью. Деньги – всего лишь аплодисменты за хорошо исполненную партию. Главным было ощущение власти, понимание того, что он может дергать за ниточки, о существовании которых его марионетки даже не подозревают.
Он подошел к окну. За пыльным стеклом шумела Москва – огромный, равнодушный механизм, чьи шестеренки можно и нужно смазывать в свою пользу. Эта маленькая афера с портсигаром была лишь разминкой, настройкой инструментов перед настоящей симфонией.
Артур вернулся за прилавок, достал из потайного отделения тонкий ноутбук и открыл его. На экране светилась единственная папка. Он навел на нее курсор и кликнул. Внутри были десятки файлов: сканы архивных документов, поддельные генеалогические древа, химические анализы пигментов, психологические профили искусствоведов и биржевые графики.
Название папки было лаконичным: «Проект "Пеплов"».
Архитектор был готов начинать строительство своего нового шедевра. И на этот раз аплодисменты должны были прозвучать на весь мир.
Глава 2. Шум и пыль
Главное управление МВД по городу Москве гудело, как растревоженный улей. Это был непрерывный, многослойный гул: стрекот принтеров, сливающиеся в какафонию телефонные звонки, стук клавиатур и бойкие голоса молодых оперов, обсуждавших задержания и цифровые следы. В этом мире преступления раскрывались не дедукцией, а алгоритмами, и в этой системе у души не было цифрового отпечатка.
Кабинет майора Ивана Соколова был островом тишины и аналогового порядка в этом цифровом океане.
Здесь время текло иначе. На стене висел бумажный отрывной календарь, упрямо показывающий вчерашнее число. На столе, рядом с остывшей чашкой чая, возвышались аккуратные стопки бумажных папок, а единственным современным устройством был старый компьютер, который Соколов включал лишь для написания отчетов, предпочитая думать с помощью тяжелой перьевой ручки и блокнота. Ему было пятьдесят восемь, и он чувствовал себя таким же устаревшим, как его методы.
Дверь приоткрылась, и в кабинет заглянула светлая голова лейтенанта Морозова, двадцатипятилетнего гения из «айтишного» отдела.
– Иван Сергеич, можно? – Морозов говорил быстро, словно боялся, что слова с истекающим сроком годности испортятся. – Вам тут «висяк» один подкинули. Из архива.
Соколов медленно поднял глаза. Взгляд у него был тяжелый, как у человека, который слишком много видел и слишком малому из увиденного радовался.
– «Висяк»? У вас, молодых, на всё свои термины, – проворчал он. – Раньше это называлось «безнадежное дело». Звучало честнее.
Морозов положил на стол тонкую папку.
– Да там и дела-то нет. Зотов Григорий Петрович, шестьдесят семь лет, архивариус. Упал с лестницы у себя в квартире, когда книги с антресолей доставал. Сердечный приступ. Участковый закрыл было, но в прокуратуре формалист нашелся, требуют полного заключения, мол, не было ли «постороннего воздействия». Начальство просило вас глянуть одним глазком, чтобы отписаться и сдать в архив. Формальность.
Соколов открыл папку. Фотография с места происшествия: маленькая, заставленная книгами квартира, тело пожилого мужчины в неестественной позе у стремянки. Все выглядело буднично и трагично. Смерть, как и плохой художник, редко бывает аккуратной. Но здесь все было… слишком аккуратно.
– Сердечный приступ до падения или после? – спросил он, не отрывая глаз от снимка.
– Экспертиза говорит – острая коронарная недостаточность. Мог испугаться, когда падал, мог упасть, потому что сердце прихватило. Какая разница? – пожал плечами Морозов. – Результат один.
– Разница есть всегда, – глухо ответил Соколов.
Он пролистал дело. Зотов. Одинокий, без родственников. Всю жизнь проработал в городском историческом архиве. Тихий книжный червь, чья смерть была такой же тихой, как и его жизнь. Ничего. Пустота. Но что-то на фотографии не давало ему покоя. Эта выверенная поза, ровно лежащие рядом книги… Словно натюрморт, а не место трагедии.
Через час, к явному неудовольствию дежурного, Соколов стоял перед дверью опечатанной квартиры Зотова. Внутри пахло так, как пахнет в домах, где жизнь внезапно остановилась – смесью пыли, лекарств и легкого запаха тления.
Майор не спешил. Он не искал улики в привычном смысле слова. Он искал ошибки в повествовании. Его учили, что любое преступление – это история, рассказанная преступником, и в ней всегда есть логические огрехи.
Квартира была царством педантичного порядка. Книги на полках стояли строго по алфавиту, на письменном столе – идеальная чистота, даже карандаши в стакане были заточены под одним углом. Этот человек не мог просто неаккуратно упасть. Он бы сначала убедился, что стремянка стоит под правильным углом к плоскости пола.
Соколов прошел в комнату. И тогда он почувствовал это. Едва уловимый, но чуждый этому месту запах. Не лекарства, не пыль. Что-то химическое, с нотками миндаля. Он присел на корточки у того места, где лежало тело. Паркет был старым, истертым. И на одной из досок, почти невидимое глазу, темнело крохотное пятнышко, словно от капли чернил особого состава.
Он встал и прошел к книжным полкам. На одной из них был пустой промежуток. Соколов провел пальцем по соседним томам. «Пелевин», потом «Перов». Буква «П». Какая-то книга отсутствовала. Вероятно, та самая, за которой полез Зотов. Но почему ее не было на полу, рядом с телом?
Вернувшись в свой кабинет поздно вечером, когда гул управления сменился мерным гудением серверов, Соколов снова открыл папку. Он перечитал заключение эксперта. Ничего о химикатах. Ничего о посторонних веществах. Они искали яд, а не запах типографской краски.
Он долго сидел в тишине, глядя в окно на огни ночного города. Там, за одним из этих окон, другой человек, Архитектор, тоже смотрел на город, видя в нем поле для игры. Они еще не знали друг о друге, но невидимая нить уже начала натягиваться между ними.
Соколов достал свой блокнот. Перьевая ручка заскрипела, оставляя на листе аккуратные строчки.
1. Слишком «правильное» падение.
2. Химический запах (проверить составы для искусственного старения бумаги).
3. Отсутствующая книга на букву «П».
4. Чернильное пятно.
Это было немного, почти ничего. Любой другой счел бы это паранойей старого сыщика, не желающего уходить на покой. Но для Соколова это был вызов. Маленькая, почти невидимая трещина в монолитной стене «несчастного случая».
Он снова взял опись документов, изъятых со стола архивариуса. Протоколы, выписки, рабочие заметки. И в самом конце, в журнале регистрации выданных дел, он увидел это. На полях, рядом с несколькими датами, аккуратным почерком Зотова было выведено одно и то же слово, словно пометка для себя.
«Пеплов».
Слово ничего ему не говорило. Оно было таким же бессмысленным и чужеродным, как химический запах в квартире мертвеца. Но Иван Соколов нутром чувствовал: история только начинается. И автор у этой истории был очень, очень хорош.
Глава 3. Рождение гения
В бывшем бомбоубежище под заброшенной типографией пахло скипидаром, льняным маслом и отчаянием. Единственная лампа под потолком выхватывала из густого мрака остров рабочего хаоса: мольберт, стол, заваленный кистями, банками с пигментами и пустыми бутылками, и седого, сутулого человека, склонившегося над холстом.
Лев Борисович был гением. Когда-то его реставрационные работы украшали лучшие музеи страны. Но гениальность часто идет рука об руку с демонами, и демоны Льва предпочитали сорокаградусный коньяк. Теперь его единственным заказчиком был Артур Волков, а мастерской – это бетонное подземелье.
Волков вошел бесшумно, его дорогие ботинки не издали ни звука на пыльном полу. Он поставил на стол увесистый пакет, в котором звякнули бутылки, и новый, туго свернутый холст.
– Вот, Лев Борисович. Нашел для вас «пациента», – сказал Артур. – Холст начала двадцатого века, масло, какой-то унылый пейзаж. Подмалевок должен быть качественный.
Лев Борисович, не поворачиваясь, прошамкал:
– Ты просишь меня не подделать, а родить. А роды, милый мой, требуют вдохновения и хорошего коньяка.
– В пакете и то, и другое, – невозмутимо ответил Волков. Он развернул на другом столе принесенные бумаги – репродукции картин малоизвестных авангардистов, выцветшие фотографии и несколько листов, исписанных его собственным каллиграфическим почерком. – Наш Тихон Пеплов. Ученик Коровина, разочаровавшийся в импрессионизме. Увлекся немецким экспрессионизмом, но добавил в него русскую тоску и элементы символизма. Стиль должен быть нервным, мазок – рваным, цвета – тревожными. Он писал не то, что видел, а то, что чувствовал. А чувствовал он, судя по его биографии, в основном боль и приближение катастрофы.
Биография была, разумеется, написана самим Волковым. Он провел недели в библиотеках, изучая язык и быт той эпохи, чтобы создать дневники Пеплова – записки мечущейся, непризнанной души. Он придумал ему несчастную любовь, дружбу с поэтами Серебряного века и смерть в безвестности. Он создавал не просто художника, он создавал миф.
Лев Борисович взял один из листков с наброском и поднес близко к глазам. Его пальцы, перепачканные краской, дрожали.
– «Расколотый рассвет»… Название претенциозное. Как и вся ваша затея.
– Искусство и есть претензия, Лев Борисович. Претензия на то, чтобы оставить след. Наш Пеплов просто немного запоздал. Ваша задача – помочь ему этот след прочертить.
Пока старый мастер, взяв скальпель, начинал священнодействие – кропотливое удаление верхнего слоя краски с унылого пейзажа, чтобы освободить состаренный холст, – в другом конце города, в стерильной чистоте современной квартиры-студии, работала Алиса Леман.
Ее царством был холодный свет трех мониторов. Если Лев Борисович был руками проекта, то Алиса была его голосом, нашептывающим в уши всему миру. Она не взламывала системы; она взламывала сознание. В двадцать первом веке не нужно воскрешать мертвых, достаточно создать им убедительный профиль в сети.
На одном экране она загружала оцифрованные страницы «дневника» Пеплова на сайт, замаскированный под некоммерческий архивный проект. На другом – вела переписку на закрытом форуме коллекционеров от имени пожилого эмигранта из Брюсселя, который «вспоминал», как его дед рассказывал о талантливом художнике, сгинувшем в вихре революции. Она не утверждала, она лишь задавала вопросы. Она сеяла сомнения в общепринятой истории искусств.
Ее пальцы летали над клавиатурой. Она находила в онлайн-архивах фотографии безымянных студентов художественных училищ начала века, и легким движением в фоторедакторе один из них обретал черты «молодого Тихона Пеплова». Она вплетала его имя в комментарии под статьями о выставках авангарда, создавая иллюзию, что это имя всегда было где-то на периферии, просто на него не обращали внимания. Она не создавала волну, она создавала подводное течение, которое в нужный момент поднимет эту волну.
Спустя неделю Артур снова спустился в подземелье. Работа была почти закончена. На мольберте стояла картина. Тревожное, багрово-синее небо нависало над ломаными линиями городских крыш. В картине чувствовался нерв, надрыв, предчувствие беды. Лев Борисович, осунувшийся и трезвый, как это бывало лишь в моменты истинного творчества, превзошел сам себя. Он не скопировал стиль – он его прожил.
– Теперь, – сказал Волков, внимательно осматривая холст, – самый важный этап. Состарим его.
Начался последний акт творения. Лев Борисович покрыл картину специальным лаком и на несколько часов поместил под ультрафиолетовые лампы. Затем последовала самая тонкая работа: с помощью иглы и скальпеля он нанес на поверхность сеть тончайших трещинок – кракелюр, имитирующий естественное растрескивание краски от времени. В конце он бережно втер в эти трещинки немного пыли, которую Артур специально привез из заброшенного дома под Клином, где, согласно легенде, Пеплов провел свои последние годы.
Когда все было кончено, картина выглядела так, будто пролежала на чердаке сто лет. Она была совершенна.
Вечером Артур сидел в своей антикварной лавке, глядя на цифровую фотографию «Расколотого рассвета» на экране ноутбука. Рядом, в окне мессенджера, пришло сообщение от Алисы: «Первая рыбка клюнула. Профессор из Сорбонны на форуме заинтересовался "брюссельским следом"».
Волков откинулся на спинку кресла. Все элементы были на своих местах: физический артефакт, заряженный талантом гения-неудачника, и цифровая легенда, разлетающаяся по сети. Это был не просто холст. Это был вирус, готовый к загрузке в операционную систему под названием «арт-рынок».
Хаос любит подготовку. И подготовка к этому хаосу была безупречной.
Глава 4. Первый камень
Аукционный дом «Dorotheum» в Вене – не «Sotheby's» в Лондоне. Здесь все было скромнее, тише и, как казалось, респектабельнее. Воздух пах паркетом и старыми деньгами, а не отчаянием и жадностью. Именно поэтому Артур Волков выбрал это место для дебюта своего гения. Громкий взрыв привлекает внимание, а ему был нужен тихий толчок, который вызовет лавину в другом месте.
Сам он, разумеется, в Вене не присутствовал. Архитектор никогда не появляется на строительной площадке. Он наблюдал за происходящим из своей московской «антикварной лавки» через защищенный видеопоток, который Алиса вывела ему на монитор. На другом экране светилась схема рассадки в зале и краткие досье на ключевых игроков.
Лот номер 34, «Расколотый рассвет», появился на экране без особой помпы. Ведущий представил его как «Работа неизвестного художника, русская школа, начало XX века». Начальная цена – три тысячи евро. Волков усмехнулся. Чтобы создать ценность из ничего, нужно было лишь убедить двух дураков поспорить о цене этого ничего. А если дураков под рукой не оказывалось, их всегда можно было нанять.
Первую ставку сделал невзрачный мужчина в третьем ряду – арт-дилер средней руки, которого Алиса несколько недель «обрабатывала» на форумах, подкидывая ему крупицы информации о «брюссельском следе» Пеплова. Он думал, что напал на золотую жилу.
– Три тысячи, – объявил аукционист.
– Пять тысяч! – раздался уверенный голос с телефона. Это был первый нанятый Волковым «дурак», изображавший таинственного коллекционера из Цюриха.
Арт-дилер напрягся и поднял ставку до шести. «Цюрих» тут же перебил до десяти. В зале прошел легкий шепоток. Неизвестный художник вызывал неожиданный интерес. В игру вступила дама в летах, владелица небольшой галереи, заинтригованная ажиотажем.
На пятнадцати тысячах дилер и дама отсеялись. Теперь пришло время для основного спектакля.
– Двадцать тысяч! – крикнул с галерки второй наемный игрок Волкова, молодой человек, игравший роль дерзкого представителя «нового русского» инвестора.
– Двадцать пять, – невозмутимо ответил голос по телефону.
– Тридцать!
– Тридцать пять.
Зал затих, наблюдая за схваткой. Волков откинулся в кресле. Все шло по нотам. Два его подставных игрока методично накручивали цену, создавая у наблюдателей абсолютную уверенность в том, что за этот холст борются серьезные, информированные люди. Наконец, когда цена достигла сорока восьми тысяч евро – суммы достаточно скромной, чтобы не привлекать внимание Интерпола, но достаточно внушительной, чтобы стать новостью – «молодой инвестор» картинно развел руками и сдался.
– Сорок восемь тысяч евро, продано! – молоточек аукциониста ударил по столу.
«Расколотый рассвет» был «продан» подставной компании Волкова в Лихтенштейне. Прецедент был создан. Камень был брошен в воду. Теперь оставалось ждать, когда пойдут круги.
В то же самое время майор Иван Соколов сидел в полной тишине Городского исторического архива. Здесь, в отличие от аукционного зала, пахло не деньгами, а вечностью – кисловатый запах старой бумаги и клея.
Слово «Пеплов» оказалось пустым звуком. Оно не фигурировало ни в одной полицейской базе данных. Ни один человек с такой фамилией не проходил по уголовным или административным делам за последние пятьдесят лет. Это был призрак.
Соколов пошел другим путем. Он начал изучать не имя, а его возможное окружение. Он сел за тот же стол, за которым последние месяцы работал покойный архивариус Зотов, и запросил те же дела. Часами он перелистывал пожелтевшие страницы: списки студентов художественных училищ, реестры членов творческих союзов, протоколы выставочных комитетов за 1905–1915 годы.
Он не знал, что ищет. Он просто погружался в мир Зотова, пытаясь увидеть то, что видел он. Информация, как и преступник, оставляет не только следы, но и тени. Иногда тень от того, чего нет, гораздо важнее следа того, что есть.
Именно тень он и обнаружил. В нескольких студенческих списках страницы были явно новее остальных, словно их аккуратно вшили взамен утерянных. В паре протоколов подписи секретарей были выполнены чернилами, химический состав которых, как Соколов знал по опыту, не совсем соответствовал эпохе. Это были филигранные подделки, заметные лишь глазу, который заранее ищет обман.
Зотов не искал информацию о Пеплове. Он ее создавал. Или, что более вероятно, ему приказали ее создать, используя его доступ и навыки. Его смерть переставала быть случайностью – архивариус стал слишком много знать или допустил ошибку, и его убрали как ненужную деталь механизма.
Вечером, в своем пустом кабинете, Соколов почувствовал знакомый азарт, который он считал давно похороненным под грузом лет и рутины. Он не гонялся за призраком. Он шел по следу кукловода, создающего этого призрака.
Впервые за все время расследования он решил отойти от своих аналоговых методов. Он открыл на компьютере поисковик и медленно, по одной букве, набрал фамилию, ставшую для него навязчивой идеей.
П-Е-П-Л-О-В.
Результатов было немного. Пара упоминаний на никому не известных форумах. Ссылка на какой-то архивный блог. И самая свежая новость, опубликованная час назад небольшим австрийским информационным агентством:
«Сенсация на венском аукционе. Картина неизвестного русского художника начала XX века продана за рекордные для дебютанта €48 000».
Под заметкой была фотография картины. Тревожное, багровое небо над ломаными крышами.
Соколов вгляделся в изображение на экране. Он ничего не понимал в живописи, но даже он почувствовал исходящую от холста энергию. Он снова перевел взгляд на заголовок. Имени художника в нем не было. Но в самом тексте статьи, в последнем абзаце, было сказано: «Некоторые эксперты предполагают, что работа может принадлежать кисти Тихона Пеплова – забытого гения русского авангарда, чье имя недавно начало всплывать в кругах коллекционеров».
Две сюжетные линии – смерть никому не нужного архивариуса в Москве и продажа никому не известной картины в Вене – пересеклись на его мониторе. Между ними лежала пропасть, но Соколов уже видел тонкую, едва заметную нить, соединяющую два этих события. И он знал, что будет тянуть за эту нить до самого конца.
Глава 5. Эхо прошлого
На шестидесятом этаже башни «Федерация» воздух был другим. Разреженным, стерильным и очень дорогим. В кабинете Константина Громова не было ничего лишнего: ни фотографий семьи, ни произведений искусства, ни даже дипломов. Лишь огромный стол из черного мрамора, два кресла и панорамное окно, в котором утопала Москва, кажущаяся отсюда игрушечным, незначительным городом. Громов презирал хаос, поэтому он поднялся над ним так высоко, как только мог.
Молодой аналитик, стоявший перед столом, нервно сжимал в руках планшет. Он знал, что олигарх не терпит суеты и плохих новостей, а сейчас он принес нечто неопределенное, что могло оказаться и тем, и другим.
– Константин Игоревич, утренняя сводка, – начал он. – Ничего существенного. Небольшая аномалия на европейском арт-рынке, аукцион в Вене. Картина неизвестного художника ушла за сорок восемь тысяч евро при стартовой цене в три. Покупатель – лихтенштейнский фонд «Vogel frei».
Громов не отреагировал, продолжая медленно вращать в пальцах ручку из цельного куска платины. Аналитик счел это знаком продолжать.
– Мы бы не обратили внимания, но фонд был зарегистрирован всего месяц назад, а его активность… нетипична. Похоже на классическую схему по созданию искусственной ценности актива. Мелочь, конечно, но…
– «Vogel frei», – тихо повторил Громов, и в его голосе прорезался металл. Он посмотрел на аналитика впервые, и тот поежился под этим холодным, ничего не выражающим взглядом. – «Птичка на воле». Так, кажется, это переводится с немецкого?
– Д-да, примерно так.
Громов медленно поднялся и подошел к окну, заложив руки за спину. Он не вор, он – вирус. Он не крадет ваши активы, он переписывает их код, пока они не станут принадлежать ему. Эта мысль о Волкове преследовала Громова уже десять лет, с тех пор как он, гениальный мальчишка-аналитик, обрушил акции его телеком-компании с помощью несуществующего азиатского инвестора, оставив после себя лишь насмешливое прощальное письмо со строчкой из немецкой поэзии.
Почерк был тот же. Создание призрака из ничего. Искусственный ажиотаж. Подставной покупатель. И эта издевательская деталь, эта маленькая подпись, понятная только им двоим – «Vogel frei». Артур Волков, птичка, которую он когда-то держал в золотой клетке своей корпорации, снова вылетела на свободу. И начала гадить ему на мраморный подоконник.
– Свободен, – бросил он аналитику, не поворачиваясь. Когда дверь за ним закрылась, Громов нажал кнопку на селекторе. – Вадим, ко мне.
Начальник его службы безопасности вошел так же бесшумно, как до этого вышел аналитик. Это был крупный мужчина с лицом, навсегда лишенным выражения.
– Слушаю.
– Он в Москве. Наш Архитектор. Начал какую-то игру с картинами. Мне нужна картина, мне нужны все, кто к ней прикасался. И самое главное – мне нужен он сам. Найди его. Живым.
Вадим молча кивнул и вышел. Для него это был просто приказ. Для Громова – начало долгожданной вендетты.
В это же самое время Артур Волков сидел в шумной кофейне на Патриарших прудах. Он ненавидел эти модные места, но они были идеальным прикрытием: среди сотен болтающих хипстеров и экспатов два человека с ноутбуками были абсолютно невидимы.
Напротив него сидела Алиса. Ее глаза горели.
– Это бомба, Артур! Ты видел? После заметки в австрийской прессе о нас написали два арт-блога. Профессор из Сорбонны, тот самый, что клюнул на форуме, готовит статью! Люди ищут, кто такой Пеплов! Они сами создают легенду, мы только подбрасываем дрова в огонь!
– Спокойнее, Алиса, – Артур сделал глоток эспрессо. – Эмоции – это слабость, которую используют против тебя. Мы не продаем им картину. Мы продаем им возможность почувствовать себя умнее других. Это самый дорогой товар на рынке.
Он смотрел на графики на своем экране. Не биржевые, а графики упоминаний, поисковых запросов, переходов по ссылкам. Все шло идеально. Слишком идеально.
Он открыл еще одно окно – программу, которая отслеживала любую активность, связанную с его подставными компаниями. Большинство запросов были стандартными – от финансовых регуляторов, налоговых служб, любопытных журналистов. Но один запрос, сделанный час назад, заставил его слегка напрячься. Он исходил из аналитического центра «Gromov Capital».
Громов заметил.
Волков специально назвал фонд «Vogel frei». Это была не просто насмешка. Это был маячок. Он знал, что если Громов еще помнит его и следит за рынком, он обязательно отреагирует на этот сигнал. Это был расчетливый риск. Необходимо было знать, вступит ли в игру этот предсказуемо-опасный ферзь.
И он вступил.
Алиса не заметила, как на долю секунды изменилось его лицо.
– Что дальше, босс? Готовим вторую картину?
Артур закрыл ноутбук. Улыбка вернулась на его лицо, но глаза стали холодными, как лед в его стакане с водой.
– Да, Алиса. Готовим. Но теперь придется немного изменить правила.
Он встал, оставив на столе несколько купюр.
– Свяжись с Левой. Скажи, чтобы ускорился.
Выйдя на залитую солнцем улицу, Артур впервые за долгое время почувствовал не только интеллектуальное удовлетворение, но и укол настоящего, живого азарта. Игра перестала быть простой. Полицейский – это противник, который действует по правилам. Громов правил не признавал.











