Читать онлайн Цифровое право. Учебник
- Автор: Коллектив авторов
- Жанр: Учебники и пособия для вузов
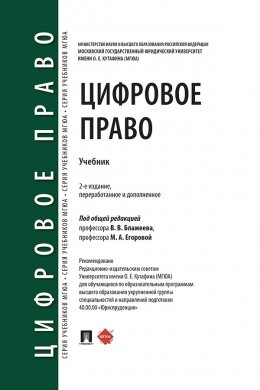
2-е издание, переработанное и дополненное
Рецензенты:
Толстопятенко Г. П., доктор юридических наук, профессор, заслуженный юрист Российской Федерации, первый проректор Московского государственного института международных отношений (университета) Министерства иностранных дел Российской Федерации;
Полякова Т. А., доктор юридических наук, профессор, заслуженный юрист Российской Федерации, заведующая сектором информационного права и международной информационной безопасности Института государства и права РАН;
Вавилин Е. В., доктор юридических наук, профессор, заведующий кафедрой гражданского права Университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА), член Совета при Президенте Российской Федерации по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства.
© Коллектив авторов, 2019
© Коллектив авторов, 2025, с изменениями
© ООО «Проспект», 2025
Авторский коллектив
Алимова Яна Олеговна, кандидат юридических наук, доцент кафедры международного частного права, заведующая кафедрой правового моделирования Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) (глава 12 § 8).
Андреева Любовь Васильевна, доктор юридических наук, профессор, профессор кафедры предпринимательского и корпоративного права, Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), почетный работник высшего образования Российской Федерации (глава 8 § 3, глава 10 § 1, глава 13 § 6).
Анисифорова Марьям Владимировна, кандидат юридических наук, доцент кафедры административного права и процесса Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), начальник отдела Всероссийского научно-исследовательского института МВД России, член Национальной ассоциации административистов, (глава 14 § 3, совместно с А.В. Сладковой и М.Б. Добробабой).
Белых Владимир Сергеевич, доктор юридических наук, профессор, заслуженный деятель науки Российской Федерации, заведующий кафедрой предпринимательского права Уральского государственного юридического университета университета им. В.Ф. Яковлева, (глава 1 § 2, совместно с М.А. Егоровой, глава 7 § 2.5.3, совместно с М.А. Егоровой и С.Б. Сегал), глава 7 § 2.6, совместно с М.О. Болобоновой).
Беляева Ольга Александровна, доктор юридических наук, профессор РАН, главный научный сотрудник, профессор кафедры частно-правовых дисциплин Института законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации (глава 10 § 2, § 3).
Блажеев Виктор Владимирович, ректор Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), сопредседатель Ассоциации юристов России, президент Ассоциации юридического образования, заслуженный юрист Российской Федерации (Введение).
Болобонова Мария Олеговна, преподаватель кафедры предпринимательского права и директор лаборатории цифрового права Уральского государственного юридического университета им. В.Ф. Яковлева, (глава 7 § 2.6, совместно с В.С. Белых).
Братцева Екатерина Алексеевна, кандидат юридических наук, старший преподаватель кафедры криминологии и уголовно-исполнительного права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) (глава 13 § 4, совместно с Е.Н. Клещиной).
Городов Олег Александрович, доктор юридических наук, профессор, профессор кафедры коммерческого права Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ), (глава 11).
Гринь Олег Сергеевич, кандидат юридических наук, доцент, директор Центра мониторинга законодательства и правоприменения Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) (глава 8 § 2).
Грищенко Галина Андреевна, кандидат юридических наук, доцент кафедры информационного права и цифровых технологий Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) (глава 4 § 5, глава 13 § 3).
Добробаба Марина Борисовна, доктор юридических наук, доцент, профессор, заместитель заведующего кафедрой информационного права и цифровых технологий Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), эксперт РАН (глава 14 § 3, совместно с М.В. Анисифоровой и А.В. Сладковой, глава 14 § 4).
Дюфло Ален (Alain Duflot), адвокат, основатель адвокатского бюро «Дюфло и Партнеры», преподаватель Университета Лион III имени Жана Мулена (г. Лион, Франция), почетный консул Гватемалы в г. Лионе (Франция) (глава 12 § 3).
Евсиков Кирилл Сергеевич, кандидат юридических наук, доцент кафедры информационного права и цифровых технологий Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) (глава 4 § 8, совместно с А.В. Минбалеевым).
Егорова Мария Александровна, доктор юридических наук, профессор, Почетный юрист г. Москвы, профессор кафедры конкурентного права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), директор Международного научно-образовательного центра сравнительного правоведения Московского регионального отделения Ассоциации юристов России, член Российского совета по международным делам (РСМД), член Генерального совета Ассамблеи народов Евразии и Африки, член Экспертного совета Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации по законодательному регулированию криптовалют (глава 1 § 2, совместно с В.С. Белых, глава 6 § 3, глава 7 § 2, совместно с С.Б. Сегал, глава 7 § 2.5.1, совместно с Л.Г. Ефимовой, глава 7 § 2.5.3, совместно с В.С. Белых и С.Б. Сегал, глава 9 § 2, § 4, совместно с Д.А. Петровым, Заключение, совместно с В.Н. Синюковым).
Ершова Инна Владимировна, доктор юридических наук, профессор, заслуженный юрист Российской Федерации, почетный работник высшего образования Российской Федерации, первый проректор Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), заведующая кафедрой предпринимательского и корпоративного права (глава 1 § 5, глава 7 § 2.2.1, глава 7 § 2.2.2).
Ефимова Людмила Георгиевна, доктор юридических наук, профессор, почетный работник высшего профессионального образования Российской Федерации, заведующая кафедрой банковского права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) (глава 7 § 2.5.1, совместно с М.А. Егоровой, глава 7 § 2.3, глава 7 § 2.5.2, глава 7 § 2.5.4, глава 7 § 2.7, глава 8 § 1).
Ефремов Алексей Александрович, доктор юридических наук, доцент, профессор кафедры информационного права и цифровых технологий Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) (глава 3 § 4).
Засемкова Олеся Федоровна, кандидат юридических наук, доцент кафедры международного частного права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), научный сотрудник НОЦ правового регулирования в сфере высоких технологий (глава 5 § 3).
Клещина Елена Николаевна, доктор юридических наук, профессор, профессор кафедры криминологии и уголовно-исполнительного права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) (глава 13 § 4, совместно с Е.А. Братцевой).
Козлова Елена Борисовна, доктор юридических наук, доцент, профессор кафедры гражданского права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) (глава 8 § 4, глава 14 § 1).
Мажорина Мария Викторовна, кандидат юридических наук, доцент, проректор по стратегическому и международному развитию, руководитель программы развития Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), доцент кафедры международного частного права (глава 7 § 2.1, глава 12 § 1, глава 12 § 6).
Мачехин Виктор Александрович, кандидат юридических наук, доцент, доцент кафедра налогового права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) (глава 12 § 7).
Минбалеев Алексей Владимирович, доктор юридических наук, профессор, заведующий кафедрой информационного права и цифровых технологий Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) (глава 1 § 3, глава 1 § 4, глава 1 § 6, глава 3 § 1, глава 3 § 2, глава 3 § 3, глава 3 § 5, глава 4 § 1, глава 4 § 8, совместно с К.С. Евсиковым, глава 6 § 1, глава 6 § 2, глава 6 § 4, глава 13 § 1).
Михеева Ирина Евгеньевна, кандидат юридических наук, доцент, заместитель заведующего кафедрой банковского права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) (глава 7 § 1, совместно с С.Б. Сегал, глава 7 § 2, совместно с М.А. Егоровой и С.Б. Сегал, глава 12 § 4).
Никишин Владимир Дмитриевич, кандидат юридических наук, директор Института информационной и медиабезопасности, доцент кафедры информационного права и цифровых технологий Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) (глава 13 § 5).
Петров Дмитрий Анатольевич, доктор юридических наук, профессор кафедры коммерческого права Санкт-Петербургского государственного университета, (глава 9 § 1, совместно с В.Ф. Попондопуло и Е.В. Силиной, глава 9 § 3, глава 9 § 4, совместно с М.А. Егоровой).
Попондопуло Владимир Федорович, доктор юридических наук, профессор, заслуженный деятель науки Российской Федерации, заведующий кафедрой коммерческого права Санкт-Петербургского государственного университета, (глава 9 § 1, совместно с Д.А. Петровым и Е.В. Силиной).
Русскевич Евгений Александрович, доктор юридических наук, доцент, профессор кафедры уголовного права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) (глава 14 § 2).
Самолысов Павел Валерьевич, кандидат педагогических наук, доцент, доцент кафедры организации финансово-экономического, материально-технического и медицинского обеспечения Академии управления МВД России, заместитель директора Международного научно-образовательного центра сравнительного правоведения Московского регионального отделения Ассоциации юристов России, член-корреспондент Академии информатизации образования, член Ассоциации юристов России, (глава 2 § 4, глава 9 § 5).
Сегал Стефания Борисовна, ведущий юрист юридической фирмы «Пепеляев Групп» (глава 7 § 1, совместно с И.Е. Михеевой, глава 7 § 2, совместно с М.А. Егоровой и И.Е. Михеевой, глава 7 § 2.5.3, совместно с В.С. Белых и М.А. Егоровой).
Силина Елена Владимировна, доктор юридических наук, доцент, профессор кафедры гражданского процесса Российского государственного университета правосудия (Северо-Западный филиал), (глава 9 § 1, совместно с В.Ф. Попондопуло и Д.А. Петровым).
Синюков Владимир Николаевич, доктор юридических наук, профессор, заслуженный деятель науки Российской Федерации, проректор по научно-исследовательской деятельности Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) (глава 1 § 1 совместно с С.В. Синюковым, Заключение, совместно с М.А. Егоровой).
Синюков Сергей Владимирович, кандидат юридических наук, главный консультант Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации, доцент кафедры теории государства и права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) (глава 1 § 1, совместно с В.Н. Синюковым).
Ситник Александр Александрович, доктор юридических наук, доцент, профессор кафедры финансового права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) (глава 7 § 2.4, глава 7 § 2.8, глава 12 § 2).
Сладкова Анастасия Вячеславовна, кандидат юридических наук, доцент, заместитель заведующего кафедрой административного права и процесса Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), член Правления Национальной ассоциации административистов (глава 14 § 3, совместно с М.В. Анисифоровой и М.Б. Добробаба).
Сушкова Ольга Викторовна, кандидат юридических наук, доцент, доцент кафедры информационного права и цифровых технологий Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) (глава 4 § 4).
Таран Кира Кирилловна, кандидат юридических наук, преподаватель кафедры информационного права и цифровых технологий Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) (глава 4 § 6).
Химченко Алексей Игоревич, кандидат юридических наук, доцент кафедры информационного права и цифровых технологий Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) (глава 4 § 3, глава 4 § 7).
Холодная Елена Викторовна, кандидат юридических наук, доцент, доцент кафедры информационного права и цифровых технологий Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) (глава 4 § 2, глава 13 § 2).
Хохлов Евгений Сергеевич, кандидат юридических наук, доцент кафедры конкурентного права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), (глава 5 § 1, глава 5 § 2).
Цинделиани Имеда Анатольевич, кандидат юридических наук, доцент, заведующий кафедрой финансового права Российского государственного университета правосудия (глава 2 § 1, глава 2 § 2, глава 2 § 3).
Шахназаров Бениамин Александрович, доктор юридических наук, профессор кафедры международного частного права и кафедры интеллектуальных прав Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) (глава 1 § 7).
Ючинсон Кристоф Самуэль (Christophe Samuel Hutchinson), старший преподаватель кафедры правового регулирования экономической деятельности Финансового университета при Правительстве Российской Федерации (глава 12 § 5).
Введение
Глобальные процессы цифровизации пронизывают сегодня большинство социальных и экономических отношений. Технологическая революция XXI в. коренным образом меняет традиционные подходы к решению даже бытовых задач, создает необходимость в разрешении новых, с которыми человечество никогда не сталкивалось.
В Российской Федерации термин «цифровая экономика» введен в правоприменительную практику Указом президента РФ от 09.05.2017 № 203 «О Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации на 2017–2030 годы»[1]. Под цифровой экономикой понимается хозяйственная деятельность, где ключевым фактором производства являются данные в цифровом виде, обработка больших объемов и использование результатов данной деятельности по сравнению с традиционными формами хозяйствования позволяют существенно повысить эффективность различных видов производства, технологий, оборудования, хранения, продажи, доставки товаров и услуг.
Информационное общество отличается значимой ролью технологий в глобальных и повседневных вопросах, возрастающей ценностью информации и скоростью ее изменения. Все это в совокупности с колоссальными скоростями развития технологий порождает новые вызовы праву, требуя сокращать дистанцию между текущим регулированием и уровнем развития технологий. Неурегулированность отдельных аспектов общественных отношений, недостаточность инструментов защиты прав и законных интересов участников информационных отношений осложняет экономические и юридические процессы, становится фактором, тормозящим развитие отдельных инициатив.
На новый уровень вышли отношения по сбору и использованию информации, которая уже превратилась в товар. Ощутимую ценность приобрели персональные данные и иная информация, касающаяся жизнедеятельности граждан. Как следствие, возросла потребность в разработке как технических, так и правовых механизмов защиты, изменении подходов и ужесточении ответственности за несанкционированный доступ к информации и допущении ее утечек.
Изменились процессы расчетов как в сегменте потребителей, так и между крупными представителями бизнеса, дополнительным стимулом чего выступают меняющиеся международные отношения. Возникли и вопросы определения субъектности феноменов, которые ранее воспринимались исключительно как объекты правоотношений.
Столь быстрые темпы развития технологий являются серьезным вызовом для развития прогностической функции государства, а также изменения подходов к нормотворческой и контрольно-надзорной деятельности, в том числе через создание экспериментальных правовых режимов. От государства требуется не только научиться прогнозировать дальнейшее развитие общественных отношений в цифровой сфере, в том числе используя современные цифровые технологии, и предвосхищать их появление через новые нормативные акты, но и искать баланс между сохранением status quo как монополиста в законотворческом процессе и предоставлением возможности создания инструментов для регулирования складывающихся общественных отношений.
Сущность и характер правовых отношений, возникающих между традиционными (физические лица, юридические лица {организации}, государство) субъектами правоотношений в цифровой среде, особенности и юридические свойства информации приводят к возникновению цифровых правоотношений, которые являются основным предметом цифрового права.
В современной юридической науке цифровое право оценивается неоднозначно. Но все ученые сходятся в одном: цифровое общество и экономика нуждаются в правовом регулировании.
Представляется, уже сейчас возникла объективная необходимость научно осмыслить феномен цифровизации экономики и создать механизмы правового регулирования этой сферы. Как в любой науке, цифровое право можно рассматривать с разных точек зрения. О цифровом праве можно говорить как о системе правового регулирования отношений в цифровой экономике, как об области знания, учебной дисциплине.
Данное издание является продолжением ранее выпущенного учебника «Цифровое право», увидевшего свет в 2019 г. Учебник разработан для подготовки юристов в области цифрового права и развивает сформулированные пять лет назад подходы к правовому регулированию отношений в сфере цифрового права.
Авторы учебника посчитали, что наиболее полно содержание цифрового права как развивающейся юридической науки и учебной дисциплины можно раскрыть в 14 главах.
В учебнике представлено определение цифрового права в современной цифровой системе, выделены его характерные особенности и сущностные черты. Авторами дается оценка цифровому праву как элементу системы права. Цифровое право рассматривается в качестве отдельной области исследований и учебной дисциплины, что особенно актуально в силу его интенсивного развития и популяризации.
Проведен анализ понятия субъекта цифрового правоотношения. Раскрываются статусы отдельных субъектов цифровых правоотношений, в том числе наиболее спорных – с элементами использования искусственного интеллекта. Затрагиваются дискуссионные вопросы правоспособности и ответственности таких субъектов.
В работе рассматривается система источников цифрового права на различных уровнях правового регулирования. Отдельно затронуты вопросы регламентации экспериментальных цифровых технологий.
Одна из частей учебника посвящена объектам цифровых правоотношений. Детально анализируется природа цифровых данных, особенности правового режима цифровых технологий и функционирования цифровых платформ. Рассматриваются вызовы правовому регулированию персональных данных, облачных технологий, Интернета вещей, в также возможные ответы на эти вызовы. Отдельно рассматриваются перспективные квантовые технологии и особенности их правового регулирования.
Авторами рассмотрены вопросы правового регулирования больших данных с учетом их природы и свойств. Дается определение больших данных, рассматривается их соотношение с персональными данными и информацией в целом. Выделяются разновидности больших данных, сферы их использования, анализируются основные возникающие здесь проблемы. Раскрываются основные модели правового регулирования больших данных, а также особенности их оборота.
Одна из глав учебника посвящена рассмотрению правового регулирования искусственного интеллекта, определены ключевые правовые понятия и особенности технологий искусственного интеллекта, в том числе как объекта правоотношений. Искусственный интеллект как правовой институт исследован также в качестве инструмента охраны конкуренции и обеспечения цифровой безопасности. Проанализированы зарубежные подходы к регулированию технологий искусственного интеллекта.
В учебнике рассматривается феномен блокчейн-технологии, дается определение таких технологий, анализируются их сущностные характеристики, назначение и функции. Рассматриваются принципы работы блокчейн-системы, основные сферы, в которых она потенциально может эффективно применяться, в связи с чем анализируются соответствующие модели правового регулирования и выявляются возможные проблемы правоприменения. Также в главе дается определение криптовалюте, выделяются ее характерные признаки и функции. Анализируются различные подходы к определению криптовалюты в системе гражданских прав, в том числе ее определение в качестве товара, средства платежа, иного объекта гражданских прав. Освещаются основные модели правового регулирования криптовалюты, сложившиеся в теории и зарубежной практике. Отдельно освещаются вопросы правового регулирования цифрового рубля.
Авторы обращаются и к вопросам договорного регулирования отношений в цифровой среде, в том числе к направлениям развития правового регулирования электронных сделок и использования смарт-контрактов для структурирования обеспечительных сделок. Анализируются новые модели договорного взаимодействия в связи с развитием платформенной экономики, уделяется внимание проблематике защиты прав потребителей при совершении сделок на маркетплейсах.
Часть труда посвящена антимонопольным особенностям регулирования цифровых рынков. Рассматривается актуальная проблема определения доминирующего положения на цифровых рынках. Исследован вопрос антиконкурентных соглашений, заключаемых при использовании модернизированных цифровых технологий, уделено внимание вопросам осуществления контроля за экономической концентрацией на цифровых рынках, которые обладают значительной спецификой и требуют особого подхода контролирующего органа.
Авторами учебника рассматриваются вопросы государственных и муниципальных закупок в цифровой экономике. Выделяются предпосылки цифровизации этой сферы, преимущества и недостатки перехода на цифровые государственные и муниципальные закупки, анализируется возможность применения отдельных цифровых технологий при таком переходе, а также делаются выводы о значении цифровизации государственных и муниципальных закупок для государства, общества и хозяйствующих субъектов. Уделяется внимание условиям и направлениям развития цифровых технологий в закупочной сфере, возможностям использования технологий блочейн, а также эффекту, который позволила и позволит достичь цифровизация закупочного процесса.
Рассмотрены вопросы цифровых технологий в сфере интеллектуальной собственности и инноваций. Объекты интеллектуальной собственности исследованы в качестве элемента цифрового правоотношения, рассмотрено влияние цифровых технологий на правовое регулирование отношений в сфере интеллектуальной собственности. Особенности цифровых технологий проанализированы с точки зрения подхода к ним как инструменту установления новых форм использования объектов интеллектуальной собственности.
Раскрыты аспекты влияния цифровых технологий на международные отношения, уделено внимание современным вызовам и трендам совершенствования регулирования трансграничных отношений под влиянием развития цифровых технологий. Проанализирован опыт отдельных стран по правовому и экономическому регулированию применения цифровых технологий. В контексте вопросов безопасности и устойчивого развития в учебнике также раскрываются направления и перспективы международного сотрудничества в сфере регулирования цифровых технологий.
В работе представлены результаты научного осмысления правового обеспечения цифровой безопасности. Дается определение кибербезопасности, рассматриваются вопросы информационно-технологической и медиа-безопасности, конфиденциальности и противодействия утечкам в цифровой среде. Отдельно освещены вопросы противодействия киберпреступности.
В учебнике рассмотрены различные виды юридической ответственности в цифровом праве, проблематика гражданско-правовой, уголовной, административной и дисциплинарной ответственности за правонарушения в цифровой среде.
Надеюсь, что настоящий учебник послужит основой для формирования науки и практики учебного процесса цифрового права, поможет определить место права в регулировании отношений, связанных с использованием информационных и коммуникационных технологий, станет важным элементом профессиональной подготовки разносторонне развитых и эрудированных юристов, способных эффективно реагировать на вызовы новых социальных отношений.
В. В. Блажеев,
ректор Московского государственного юридического
университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА),
сопредседатель Ассоциации юристов России,
президент Ассоциации юридического образования,
заслуженный юрист Российской Федерации
Глава 1
Цифровое право в современной правовой системе
§ 1. Современные технологические вызовы и трансформация правового регулирования
В. Н. Синюков, С. В. Синюков
В правовой системе России происходят фундаментальные изменения, которые с определенными оговорками можно назвать процессами этапной трансформации. Суть последней в формировании новой структуры нормообразования, которая концептуально отличается от методологии традиционной системы российского права.
Технологическая революция идет вот уже более 50 лет, переживая периодические приливы и отливы. Но последнее десятилетие значительно подстегнуло внимание государства к нормативному регулированию этой сферы.
Сейчас Россия имеет, в принципе, адекватное законодательство в сфере использования современных технологий, которое, конечно, нуждается в совершенствовании, заполнении возникающих лакун, дополнении новыми понятиями, категориями, институтами.
Мы исходим из того, что технологический прогресс носит волнообразный характер и за периодами эйфории, взрывного роста возможностей неизбежно следуют спады, показывающие, что основные проблемы в естествознании пока не нашли решения.
Яркий пример – так называемый искусственный интеллект. На самом деле, пока это понятие – чистая метафора, преодолеть барьер между человеческим интеллектом и машиной не удается. И скорее всего, не удастся, по крайней мере, в зримой перспективе. Похожая ситуация и с другими технологиями: нейронными сетями, блокчейном и т. д.
На нынешний день какого-то катастрофического отставания правовой сферы от развития цифровых технологий нет. Есть отдельные области, лакуны в законодательстве, которые можно довольно быстро закрыть либо смежными регуляторами, либо введением социальных режимов, снимающих административные барьеры на пути развития технологий.
Все это не меняет общей структуры правового регулирования. Это успокаивает нас и заставляет двигаться обычным путем реагирования и управления. Компьютеры, мобильные устройства, Интернет, притом что они перевернули жизнь людей, в целом не затронули основ правового регулирования. Надо еще доказать, что современные технологии вносят что-то новое в правовую традицию и меняют общественные отношения настолько, что они не вписываются в традиционное правовое регулирование. Резервы действующих институтов часто недооцениваются.
Пока мы находимся в ситуации недостаточно зрелых и совершенных технологий, которые значительно менее эффективны, чем уже созданные инструменты в рамках действующего правового поля.
Одним словом, на нынешний день есть постоянная тема актуализации действующего законодательства, правоприменения в связи с технологическим прогрессом. Процесс совершенствования законодательства у нас поставлен на достаточно профессиональную основу. Мы не видим здесь каких-то серьезных проблем.
Но вместе с тем есть проблема иного порядка. Вся методология нашей работы по правовому обеспечению технологических изменений основана на двух принципах.
Это принцип реагирования, т. е. решение проблем по мере их возникновения. Яркий пример – криптовалюта. Когда появились первые сенсационные сообщения и на Западе стали расти котировки, мы не знали, как к этому относиться, первая реакция было судорожной – запретить. То есть речь идет об образе действий самого обычного типа – регулирование отношений, которые уже возникли и возникают в связи с развитием цифровых технологий.
Второй принцип нашего поведения – это организовать и возглавить процесс изменений, наладить их контроль и администрирование в нормативной базы в текущем режиме.
Оба принципа и соответствующие направления деятельности абсолютно необходимы, но одновременно являются чисто утилитарными. Весь эпицентр нормативной работы государства с новыми технологическими явлениями в экономике оказался в структуре органа исполнительной власти, который, чтобы справиться с текущими вызовами, вынужден создавать возле себя и в себе квазинаучную инфраструктуру, которая по определению не может быть фундаментальной, т. к. это вело бы к смешению функций.
Вот эта ситуация реагирования опасна. Дело в том, что текущее положение быстро меняется, технологии совершенствуются. Нужен юридический прогноз, понимание контуров институтов, для которых сейчас нет применения.
Для ответа на стратегические вызовы абсолютно недостаточны усилия временных коллективов и компилятивных практик.
Такой подход в течение пореформенного периода не позволяет нам выстроить современную правовую систему со стабильным регулированием, в котором бы одновременно был заложен стратегический потенциал опережения именно в сфере права.
Яркий пример, опять же, с технологией блокчейн. Эта технология была известна довольно давно, в том числе даже еще советской науке. Она внимательно изучалась на предмет самого разного применения. Но была отвергнута из-за своей технологической затратности. И спустя несколько десятилетий эта технология была актуализирована совершенно в других сферах, в частности в кредитно-финансовой, и только таким образом стала предметом интереса юристов.
Государство и юристы каждый раз оказываются самыми последними в цепочке изменений, когда общество поставлено перед фактом, когда надо «тушить пожар» и принимать экстренные меры.
Как правило, эти меры носят разрешительно-запретительный характер и основываются исключительно на старом, проверенном веками инструментарии классического правового запрета и дозволения. Сами по себе запрет и дозволение вечны, но все же устаревают.
Насколько совместима цифровая природа естественных закономерностей с природой императивных и диспозитивных методов в правовом регулировании? Какая повестка ценностей должна быть присуща праву переходного периода? Как изменяется соотношение прав с техническими регуляторами? Такие вопросы в текущей повестке неуместны. Однако уже сейчас вырисовываются регулятивные техники, гораздо более эффективные и стабильные для всего права, чем разрешения и запреты.
Ситуация с неуклонно разворачивающейся технологической революцией требует от нас в известной мере скорректировать образ действий в правовом регулировании.
Назрела необходимость концептуализировать не только реагирование на отношения, возникающие в связи с развитием, в частности, цифровых технологий, и пытаться организовать управление процессом изменений законодательства, но и поставить вопрос значительно шире: к чему ведут эти изменения для права, какая именно модель правовых отношений соответствует цифровому обществу и какую правовую систему мы в конечном счете должны формировать в условиях нового технологического уклада. Есть основания полагать, что цифровые технологии, генная инженерия, разработки искусственного интеллекта могут привести к смене системной парадигмы правового мышления и регулирования.
В условиях стремительного развития науки, беспрецедентного роста возможностей человеческого разума меняется правовая картина мира.
Динамика правовой картины мира
XVI–XIX вв.
• право силы,
• право-привилегия,
• право как мера свободы,
• формальное равенство,
XX–XXI вв.
• техническое и виртуальное регулирование,
• новая правосубъектность,
• единство права и процесса,
• равенство возможностей.
К чему ведут глобальные технические достижения? Они влекут глубокие перемены в привычном укладе жизни. К этому приводили все технологические революции, начиная с эпохи металлов в Древнем мире и заканчивая открытием электричества и киберпространства в Новое и Новейшей время.
Современная революция в технологиях не только совершенствование орудий труда и преобразований окружающей человека среды. Особенность нынешних перемен, отличающая их от всех предшествующих эпох, состоит в том, что новый технологический уклад изменяет не только привычный образ жизни, но и природу правового регулирования. Результаты, получаемые в физике, биологии, медицине и иных областях, открывают перспективы нового этапа в понимании права, его категорий – воли, субъекта, правовой нормы, правоотношения, – представления о которых оставались неизменными последние двести лет.
Более того, впервые появляется реальная перспектива установить прямую связь между природой и правовой культурой, преодолеть фундаментальный разрыв между естествознанием, социальной и гуманитарной науками.
Основные черты юриспруденции XX в. состоят в следующем.
Юриспруденция в XX в.
• господство регулятивно-охранительного типа права,
• политическая систематизация права,
• дихотомия методов правового регулирования,
• процессуальный фундаментализм,
• автономия правовой формы.
Такая правовая методология не может систематизировать явления, связанные со следующим этапом развития возможностей человека. Нынешнее правовое мышление основано на регулятивно-охранительном типе правосознания. Поэтому юриспруденция как относительно изолированная сфера общественных отношений все более сталкивается с проблемами адекватности и эффективности.
Отставание права как социального института
• консерватизм методологии регулирования,
• негибкость формы,
• перманентные пробельность и избыточность,
• социальная изолированность,
• экономическая неэффективность.
Делается все более актуальной проблема системной правовой интерпретации происходящих социальных и технических изменений. Развитие новых технологий выдавливает традиционное правовое регулирование и опережает его в методологическом отношении. Классические юридические режимы процессуальной деятельности делаются тяжелым и дорогостоящим препятствием на пути инноваций во многих сферах.
Возможно ли сохранение системного единства правовой формы при столь бурной и сложной социальной динамике? Возможно, только на основе включения в правовое пространство новых оснований макроорганизации права.
Основные направления развития юриспруденции в XXI в.
Юриспруденция в XXI в.
• оптимизация меры права,
• диверсификация нормативности,
• интеграция технико-социального регулирования,
• движение к асимметрии правовой формы,
• синкретизм методологии регулирования.
Правовая культура ищет альтернативы иной интерпретации соотношения техники и природы человека. Границы между различными сферами знания и видами деятельности сейчас уже выглядят иначе, чем в XX в. Эти границы стали проходимыми уже в период поздней Античности, но сейчас этот процесс достиг наивысшего развития.
В чем суть нынешнего исторического времени права? Суть сегодняшней ситуации в правовом регулировании состоит в кардинально изменяющемся характере отношений человека в окружающем пространстве, появлении его новых неизвестных видов – виртуального, информационного, где фактически преодолеваются строгие границы человеческого и не человеческого как объектов материального мира.
Изменяется содержание социальности – в нее постепенно входят на правах субъектов и новых нетипичных объектов явления по старой юридической классификации имеющие неживой, несубъектный и необъектный характер: инженерия генома, биотехнологии, Интернет, искусственный интеллект.
Фактически эти технологии представляют собой гибриды, объединяющие человека с нечеловеческими сущностями, причем последние, будучи созданными, получают известную автономность от человека.
Старое разделение, на котором основывалось право физических вещей как независимых объектов, с одной стороны, и общества, культуры, состоящих из автономных субъектов, с другой, начинает переживать кризис. Право в традиционном разделении не дает надежной юридической защиты отношениям человека в мире новых технологий и уже сейчас замещается неправовыми регуляторами.
В ближайшем будущем право в его нынешней системе будет не в состоянии контролировать новые гибридные сущности. Уже сейчас институциональные резервы системы права, ее арсенал предметов, методов, аналогий, фикций и презумпций находится на пределе.
Итак, право как социальная система, может развиваться, если будет выработано новое представление о соотношении природы и правового регулирования.
Инновационные правовые явления располагаются как бы между природой и обществом и требуют дополнительных представлений на системную организацию права.
Интеграция природы и правосознания
Правосознание
• воля,
• интерес,
• запрет,
• дозволение,
• юридическая ответственность,
Природа (как элемент правосознания)
• виртуальность,
• взаимообусловленность,
• ограничение,
• закономерность,
• технологическая защита.
Значительное отличие всего предшествующего развития правовой системы состоит в том, что до сих пор юридическое мышление основывалось на собственном методе идентификации права, включающем элементы воли, интереса, цели, запрета и дозволения. Современная ситуация ведет к тому, что правовая культура вплотную приблизилась к включению в свой непосредственный предмет закономерностей новых виртуальных состояний человека. В правовое регулирование включается вся методология техники и искусственного языка техники, что ведет к существенному проницанию границ между социальными и техническими нормами.
Такого соотношения, когда неживые объекты становятся частью не просто быта людей, на чем основывается традиционное правовое регулирование, но и частью самих общественных отношений, в истории правового регулирования не было. В системе права этим явлениям пока нет коррелятов, что требует реструктуризации доктрины и взглядов на составные части и инструменты права.
Изменения в системе права
В институциональном плане правовой порядок соединяется с нарастающим полем функциональных регуляторов, которые сейчас переполняют нормативное пространство, подменяя и смешивая право с экономическим, административным и политическим нормообразованием.
Институциональные и структурные изменения в системе права
• интеграция базовых отраслей в правореализации,
• субсидиарность нормативных комплексов,
• стирание границ социальных регуляторов,
• проникновение материальных и процессуальных отраслей.
Стирание их границ уже привело к валу предметов в законотворческом и правотворческом процессах, разрастанию подзаконной сферы. Все это необходимо системно инкорпорировать, искать новую форму такой инкорпорации.
В структурном отношении базовые отрасли права стремятся к интеграции, высвобождая место новым образованиям специализированного и локального характера мультирегулятивной природы. Нормативная система стремится к большей универсальности и субсидиарности правовых комплексов на основе определенных принципов.
В доктринальном аспекте просматривается закономерность, что правовое регулирование гораздо шире и не совпадает полностью с государственным регулированием.
Социальные факторы реструктуризации права
• изменение технологических укладов,
• конвергенция социальных и технических нормативных систем,
• развитие социальных институтов,
• обновление методологии социального регулирования;
Соотношение правовой системы, системы права и социальной реальности делается гораздо более сложным. Новизна ситуации в доктрине заключается в преодолении взгляда на господство права как социального и политического доминирования его классических инструментов.
Прежде всего, в известной мере должны поменяться теоретические представления на явление системности в отечественном праве. Отраслевой подход, основанный на одномерных предметах и методах правового регулирования, не может уже выразить всю полноту природы права.
Важное значение для переосмысления методологии системы права имеют классические понятия института и нормы права.
В отличие от института традиционной системы права как совокупности однородных норм, институт как предмет (объект) права включает сложный симбиоз материальных, нематериальных и поведенческих элементов, которые в целостности характеризуют понятие института как технологии.
Чтобы увидеть структурные процессы в праве, необходимо сделать технологии предметом правового регулирования на основе взаимодействия людей и объектов неживой природы. Человекоцентризм права эволюционирует в сторону техноцентризма, не утрачивая приоритета человеческого по отношению к технико-материальным объектам.
Таким образом, правовая система в нормативном аспекте не сводится к системе права, что делает ее гораздо более гибкой. Значительный ресурс этой гибкости заложен в обыденной человеческой деятельности. Именно в изменяющейся бытовой человеческой среде заложен инновационный механизм реструктуризации права. Новый правовой строй обусловлен новым укладом жизни человека, рамки которого расширяют прежние границы отраслей и формальных кодификаций с их однообразными методами правового регулирования.
Новые социальные контексты содержат значительные элементы саморегулирования, что свидетельствует об их правовой природе, которая приходит в противоречие с матрицей старой системы права.
Необходимы дополнительные юридические понятия и категории, исходящие из специфики современной технологической системности права.
Основанием необходимости такого изменения методологии является то, что позитивное право уже не всегда есть только сфера чистого долженствования. На позитивном уровне современного правового регулирования происходит выход за пределы нормы долженствования в область нормативности фактических (технологических) процессов.
Нормативностью, вероятно, обладает технологическое пространство, которое синтезирует образ поведения участников общественных отношений. Поэтому новая сфера права – управление неживой природой, природой искусственной, виртуальной, формируемой на основе прежде всего цифровых закономерностей.
Переход от нормы долженствования к принуждающей или стимулирующей технологии интегрирует право в сферу материального технологизма, который все более проникает в систему права. В новой системе права преобладают синтетические технико-правовые режимы, которые не могут вызреть в одномерной и формальной правовой культуре.
Отражением этих процессов является появление в доктрине понятия «цифровое право».
Цифровые технологии имеют значительный регулятивный ресурс, все более становясь трансфером между природой и правовой культурой. При этом в рамках цифрового пространства природа права оказывается гораздо богаче, чем это могут выразить традиционные средства правовой систематики.
Что такое цифровое право? Обосновано ли такое научное понятие? Не является ли это сочетание своеобразной метафорой, применимой лишь в популярном и публицистическом обиходе?
С учетом процессов в технологической сфере и их влияния на правовое регулирование понятие «цифровое право» выполняет роль методологической категории, раскрывающей тенденции структурной трансформации российской правовой системы.
Цифровое право
нормы, юридико-технические конструкции,
средства информационного правового
воздействия и иные элементы виртуальных
коммуникаций, получившие признание государства
При определении цифрового права упор должен делаться не на формально-юридической, а на объективно-правовой и ситуативной сторонах правового воздействия.
Цифровое право – это нормативный правовой механизм, охватывающий и пронизывающий важнейшие элементы российской правовой системы. Главный критерий выделения цифрового права – наличие цифровой виртуальной коммуникации субъектов, сеть которой в настоящее время неуклонно расширяется.
Субъекты права сами определяют границы цифрового права, вступая в виртуальные коммуникации. В этом смысле цифровое право преодолевает формальные рамки традиционных отраслей права и их законодательных кодификаций. Цифровое право исходно не нуждается в классической правотворческой систематизации. Оно само – форма структуризации регулятивного материала.
Это явление, в котором предметы и методы регулирования совпадают: метод становится предметом, приобретает форму предмета правового воздействия, структурируя правоотношения в цифровом формате. Очертить границы цифрового правоотношения классическими средствами правоведения затруднительно. Цифровое право строится в межотраслевом и междисциплинарном техническом и юридическом измерениях. Это форма скорее правового воздействия, а не только правового регулирования.
Цифровое право создает пространство, где, в отличие от классического права, отсутствует отраслевая специализация. Оно перемешивает нормы и институты различной отраслевой природы, изменяя структуру права в классических правоотношениях. В цифровом праве классическое право сведено к минимуму, фактически к признакам признания и эффективности (этичности). Все иные признаки права – определенности, нормативности, общеобязательности – выступают в значительно преобразованном виде.
В этом смысле цифровое право – это соединение неправовых регуляторов, которые в определенных сочетаниях дают правовое качество. Цифровая среда создает юридизм нового типа. Цифровое право формирует правовое качество в доселе непредметных для права сферах, прежде всего технико-информационной и естественно-технической.
Именно поэтому вопрос классической юриспруденции, куда отнести цифровое право и есть ли такое вообще, объективным ходом развития естественных и технических наук лишается смысла. Нынешнее право уже не может навязать последним свои методы регулирования. Это объективный факт, который необходимо принять.
Тем не менее мы прежде всего должны задаваться именно классическими вопросами. Есть ли такая закономерная область правового регулирования, как классическое право в цифровой сфере? Имеется ли у этой сферы локализованное место в системе права? Может ли цифровое право рассматриваться как некое новое образование, рядоположенное с такими же комплексными нормативными массивами, как право медицинское, энергетическое, конкурентное, спортивное и т. д.?
Ответы на эти вопросы будут скорее отрицательными. Цифровое право имеет иную юридическую природу. Это не отпочковывающиеся от материнского массива нормы; это не в чистом виде нормы права, как мы привыкли их понимать; это иной способ формирования самой юридической нормативности. Цифровое право – право-поведение, образ действий в принципиально иной регуляторной среде.
Система цифрового права определяется не предметом, не методом и даже не типом правового регулирования. Цифровое право формируется цифровыми трансакциями и выступает в этом смысле как социологическая реальность, чистое живое право.
Разница между цифровым и аналоговым правом в том, что классическое аналоговое право создает порядково меньший объем и пространство правовой нормативности в единицу времени. Впервые в истории права пространство и время выступили критериями правовой дихотомии.
Поэтому цифровое право – иная правовая организация, которая в настоящее время занимает локальные позиции в правовых отношениях, но потенциально гораздо более емкая и мощная регулятивная система, чем право классическое. Цифровое право постепенно втягивает в себя из аналогового права значительные его объем и пространство. Данный процесс не ведет к замещению аналогового права цифровым. Скорее всего, аналоговое, классическое, право будет частью цифрового права, его важным позитивным элементом в сферах конституционного порядка, основополагающих прав человека, в сфере безопасности. Возможно, аналоговое право будет выполнять особую функцию визуализации цифрового права там, где это диктуется политической необходимостью. Но это тоже будет уже другое классическое право, во многом с видоизменившимися регулятивными инструментами.
В будущем, которое уже наступает, цифровое право готовит новое глобальное деление права: от частного и публичного к базовому и прикладному праву. Базовое право в целом сохранит нынешнюю регулятивную инфраструктуру, для которой будет характерна нынешняя симметрия источников и правовых институтов, нацеленных на обеспечение важнейших функций человеческого общества.
В базовом праве, как и сейчас, будут заданы ключевые этические параметры правового образа жизни человека.
В прикладном праве, основанном на закономерностях цифровой организации социальных связей, вероятнее иная система институционализации акторных взаимодействий.
Эта система рассчитана на непрерывное сопровождение бесчисленных правовых фактов, которые все более будут способны осуществляться в безбумажной форме. Именно такое прикладное право (термин условный) практически полностью займет объем правовой системы, которая преобразуется структурно, сосредоточив фундаментальное право на узловых участках правового регулирования.
Можно прогнозировать некоторые параметры будущего правопорядка. Объем формальной правовой системы значительно уменьшится. Поменяется и ее архитектура: функционал юрисдикционных учреждений модифицируется в направлении фундаментирования массового прикладного права новой документарной природы. Прикладная правовая система как часть правопорядка уже сейчас соответствует природе массового правового сознания населения, которое живет, в принципе, в автономном режиме от формальных регуляторов и не стремится видеть в формальном праве свою повседневность.
Этот вековой раскол массового и официального правового сознания не может быть преодолен в рамках классической правовой системы. Обыденное, повседневное право давно уже нуждается в максимальном упрощении и алгоритмизации. В различных частях официального правопорядка налицо тенденция к упрощению юридической формы. Однако в рамках классического правопорядка эта тенденция не может обрести целостность и эффективную универсальность.
Цифровая же среда – именно то пространство, которое закономерно притягивает к себе массовое правосознание. Это та вечно искомая альтернатива, которую создает нынешний правопорядок и к которой, вероятно, шло все предшествующее развитие правового способа жизни людей.
Противоречия и конфликты, разрешенные на определенное время европейскими и североамериканской революциями XVII–XVIII вв., накоплены правом в невиданных масштабах в Новейшее время. Способ разрешения этих противоречий может дать не очередная социальная революция, а революция техники, если она сумеет приобрести глобальное социальное значение.
Этот процесс не может быть безболезненным и бесконфликтным. На определенном этапе неизбежны коллизии и противоречия виртуального и классического правовых укладов. Цифровое право по мере открытия новых возможностей автоматизации человеческой жизни будет задавать действующему правопорядку серьезные антиномии и дилеммы.
Эти конфликты нуждаются в смягчении. Задача науки – прогностическая: выявление путей оптимального перехода к новой регуляторной основе цифрового права. Применительно к формальному праву таковой основой были и есть юридические дозволения, запреты и позитивные обязывания.
Сохранится ли эта основополагающая матрица в основе цифрового права? Резкая смена правовой парадигмы невозможна. Скорее всего, будет происходить врастание и борьба новых регуляторов со старыми, сохранение последних по форме с переменой сущности. Это обычный путь зарождения новой юридической эпохи.
Сейчас развитие идет по вполне закономерной линии нивелирования контрастных граней правового дозволения и запрета, создания моделей инструментов, не имеющих однозначных и абсолютных юридических номинаций. Будущее цифровое право будет лишено классической правовой гармонии императивных и диспозитивных методов, на сочетании которых строится современная правовая система.
Цифровой мир неуклонно расшатывает привычную дихотомию методов правового регулирования, с новой силой заставляет изобретать комплексные режимы воздействия, которым часто нет названия в понятийном аппарате правоведения. В итоге – освобождение от ограничений, которые устарели и сковывают творчество человека, сопровождая традиционное правовое регулирование.
Речь идет о движении к новой эпохе индивидуализации в праве. Не индивидуализации в смысле правового индивидуализма, а к такой правовой модели, которая делает индивидуальный правовой статус демократическим в глубоко правовом смысле, частью новых значительных социальных и технологических возможностей людей. В этом отношении индивидуализм цифровых трансакций выступает закономерным элементом коллективистского технологического и социального устройства общества.
Право может дать человеку новое качество жизни, новую свободу. Снять пределы римского права в возможностях его институтов – означает создать радикально новое правовое регулирование. Пределы гибкости римского права поистине безграничны. Со времен Средневековья возрожденное римское право и иные западные и восточные правовые традиции образовали множество новых обходных направлений и регуляторов. Традиционный правопорядок идет по пути бесчисленных комбинаций их исходных институтов, аналогий и ассимиляций. Но даже эти почти безграничные возможности остановились перед беспрецедентным творчеством человека, поставив в повестку дня проблему пересмотра классической правовой традиции.
Цифровое право может состояться только на основе отказа от предыдущей регуляторной практики. Оно сможет быть правом через уход от нормативов современной правовой доктрины.
Сейчас кажется невероятной смена базовых моделей права. Договор, деликт, субъект, ответственность, юридическое лицо, правоотношение, правоприменительный акт обладают колоссальной социальной обоснованностью и устойчивостью, близкой к вечности. Эти инструменты продолжают определять логику имплементации новых технологий. Сейчас в этот фундаментальный ряд идет активная интервенция новой технологической реальности, порождая все больший диссонанс в правовой системе.
Поэтому предстоит во многом заново определить понятия и категории права, связи его институтов, модели квазисубъектов, построить иную систему правовых взаимодействий, представительства применительно к новому правовому пространству и времени. Неизбежна смена воззрений на классическую теорию правонарушения, юридической ответственности, построение юрисдикционных структур.
Цифровое право не возникнет само по себе, как не возникло и само классическое право. Кто сыграет роль новых преторов и эдилов? Были ли преторы и иные магистраты юристами в нашем понимании? Были ли юристами римские жрецы, которые в легендарную эпоху владели тайной права? Скорее всего, создать новое цифровое право под силу людям, соединяющим знание правовой традиции со свободным технологическим мышлением. Римское право первоначально было набором преторских эдиктов и лишь впоследствии, в Средние века и Новое время, регенерировало свою теорию. Цифровое право проходит тот же путь.
Будущий правовой уклад возникает далеко не в структурах юридической корпорации. Площадки нового правового генезиса уже есть в бизнесе, академической среде и прикладных сферах человеческой деятельности: электронной торговле, бизнес-технологиях, банковской сфере, медицине.
Важно теоретически осмыслить базовую картину изменений, которые неуклонно трансформируют действующую правовую парадигму. Необходимо концептуально сформулировать наши ожидания последствий диффузии цифрового права. Важно предупредить развитие цифрового права в непредсказуемые и асоциальные формы.
Речь идет об ограничении альтернатив в самом процессе цифровизации: ограничении не методами аналоговых правовых средств, а через стимулирование развития цифрового мира в конструктивных правовых направлениях. В теоретической плоскости возникает вопрос нового правового языка, который должен в известной мере вытеснить прежний.
Конечно, свое слово может сказать фундаментальная наука права, которая не должна быть озабочена сиюминутным правовым регулированием, на что ее постоянно сворачивают. Ведомства, играющие сейчас основную роль в создании нормативного цифрового порядка, делают важную работу, но в стратегическом отношении бесполезны, так как действуют в рамках уже известных правовых моделей.
Необходимы большие методологические и структурные идеи в праве, которые были бы способны приводить к решению застарелых юридических проблем. Одной из таких идей является идея цифрового права: не как регулирование цифровых технологий, а как новая правовая методология правообразования и правореализации. Современному праву недостает сегмента, инвестирующего юридическую нормативность напрямую от человека к обществу. Праву остро необходима предметная сфера, которая по определению никогда не рассматривалась правовой: наука, техника и технологии.
Господствующая модель юридического пространства – экономика, политика, управление – во многом себя исчерпала, привела к истончению собственно правовых идей, растворила право в чужой для него методологии. Симбиоз права и технологий способен создать новый тренд в правовом развитии. Мы остановились перед понятием нормы как правила, что не позволяет праву проникнуть в чуждые такому представлению о норме сферы жизнедеятельности человека. Норма – это не только и не столько индивидуальное или общее правило. Норма – это ситуация со многими элементами, включающая программные единицы, понятия скорости, контекстуальности и пространственности.
Профессиональную традицию права изменить очень сложно, если вообще возможно. От нее можно только отказаться, как уже не раз было в истории правового регулирования. Право как привилегия в свое время радикально сменилось правовым равенством; деление людей на свободных и несвободных, базирующееся на традиции и римском праве, казавшееся естественным, ушло в прошлое. Нынешнее право при всем его многообразии также, по сути, оперирует достаточно ограниченным кругом альтернатив и общественных институтов.
Почему же при стольких проблемах до сих пор не произошла революция права, не сменилась его эпоха? Необходимы акторы нового права и наличие реальных поведенческих заделов. Смена эпохи возможна, когда акторами системной новизны станут огромные массы людей, самим своим бытом поставленные на роль не только субъектов правоотношений, но и правотворцев и правоприменителей.
Следует понять, что перспектива цифрового права – вовсе не в необходимости адаптировать к повседневной правовой среде цифровые технологии. Перспектива цифрового права – в новых формах социального взаимодействия, переходе к иной модели социального и правового порядков. Эта перспектива меняет в целом постановку исследовательской проблемы: от поиска средств адаптации технологий к созданию моделей правовой сферы, которая даст новые шансы человеку как социальному и биологическому виду. Перспектива – в возможностях стратегического применения правового метода в новой экономике, к новому эффективному государственному управлению, переустройству социальной сферы. Перспектива – в возможности создания новых юридических ценностей, во многом новой правовой культуры, в лоне которой исходные преимущества правовой ментальности, в том числе российской, получат наиболее естественное воплощение.
В мире накопилось много квазиправа: экономические стандарты, правила регуляторов, политическая воля. Все, что реализуется под политическим принуждением, практически рассматривается как право. Цифровое право призвано реструктуризировать именно этот аспект правовой системы, придать правовым отношениям подлинно аутентичный вид.
Право в целом – это право большинства и право меньшинства. Цифровое право дает возможность выбирать своеобразную юрисдикцию для жизни так же, как мы выбираем цифровой или аналоговый звук, изображение, способ коммуникации.
Мир нуждается в новом праве, которое было бы максимально непохожим на существующее. Действующее право много сделало для человека, для раскрытия его творческих способностей, но оно не решило застарелых проблем отчуждения, неравенства, дискриминации, коррупции, неэффективности. Если не состоится цифровое право, в любом случае мир будет искать альтернативу в радикально более жизнеспособной правовой культуре. Поэтому предчувствие миссии цифрового права связано не только с цифровой революцией. Идеология виртуального правового мышления гораздо шире этой революции. Эта идеология отнюдь не новая. Ее корни залегают в авангардном отказе от классического права начала XX в., когда советская Россия в попытке отказаться от буржуазного правосознания создала новую систему социального права.
Со времен великих социальных революций XVII, XVIII и XX вв. категории права в известной мере утратили новаторский регулятивный потенциал. Многие из них скомпрометированы последующей социальной практикой. Само понятие правового неуклонно формализуется. Как и в древние времена, право присвоено профессиональной корпорацией: социальная ответственность – юристами, права человека – политиками, суверенитет – государством и надгосударственными образованиями. Правовое регулирование переживает кризис, суть которого обозначил В. Д. Зорькин: «…Право, на которое мы все привыкли рассчитывать, теряет свой регулятивный потенциал, а правовые конструкции утрачивают былую прочность и надежность»[2].
Назревают санация и оздоровление правового образа жизни людей. Такую работу призвана выполнить значительно более независимая массовая демократическая правовая культура, не требующая непомерно затратного профессионального обслуживания.
Есть ли будущее у современного нам традиционного права? Право многообразно, его содержание и форма находятся в непрерывном движении. Традиционное право отражает объективные структуры правового мышления, которые заданы на психофизиологическом уровне. Понятие нормы как веления тесно связано с природой человеческого языка. Аналоговое право сохранится в человеческой культуре. В то же время в праве ничего заведомо и навечно не предопределено. Живой обыденный разговорный язык – естественная историческая основа права. Как ни парадоксально, этот, казалось бы, естественный для человека язык права до сих пор так и не стал близок основной массе людей, он приватизирован все более замыкающейся в себе профессиональной юридической корпорацией.
Массовое право изменит свой язык, который откроет доступ к праву большинству людей. Аналоговое право сохранится, но сохранится исключительно как профессиональный аутентичный код правового сознания, передающий ключевые стандарты правового сознания человечества.
Должно быть свободное соревнование аналоговой и цифровой правовых систем на основе селекции того, что людям более подойдет для тех или иных отношений. Вытеснение уже идет на основе конкретных нормативных фактов, создаваемых социальной практикой.
Современное право не исчезнет. Оно сформировало мышление юристов и коснулось сознания огромных масс людей. Современные правопорядки обладают мощной правовой гравитацией. Однако проблема не в путях интеграции цифрового права в действующую правовую систему, что возможно и необходимо как переходное ее состояние. Новое регулирование не остановится на встраивании и подражании. Природа цифрового права исходно иная, она не допускает воспроизводства в ином правовом оригинале. Это и драма, и одновременно значительная перспектива беспрецедентного прогресса новых правовых форм и источников.
Нивелирует ли цифровое право национальные правовые традиции? Цифровое право, скорее, изменит эти традиции, сохраняя их специфику. У каждого народа будет, вероятно, своя модель цифровизации правовой культуры. Как именно под влиянием технологий будет трансформироваться национальное правовое мышление, мы пока не знаем. Несомненно, у российского права сохранится присущая ему широкоформатная социально-правовая природа, которая сможет по-настоящему раскрыться именно в новой технологической среде. Российское право переоткроет себя, обретет новые правовые ценности. Именно в этом состоит шанс к его продолжению как самостоятельной регулятивной системы в современном мире.
Эта книга, несмотря на название, во многом построена на аналоговом правовом мышлении, которое пока единственно возможно как в правовом регулировании, так и тем более в учебном процессе. Занимаясь, однако, текущими вопросами правовой цифровизации, важно формировать правовой прогноз и пытаться исследовать горизонты.
Без таких аспектов ценность учебных монографических изданий весьма ограничена.
§ 2. Понятие цифрового права, векторы и смыслы развития
М. А. Егорова, В. С. Белых
Современное общество находится на начальном этапе глобального перехода к новому технологическому укладу, связанному с цифровой экономикой, цифровым бизнесом и цифровой революцией в целом, особенности которых определяются не только изменениями в технологиях, но и в не меньшей (если не в большей) степени состоянием общественных институтов, включая формы и модели экономической организации, механизмы государственного управления, а также общественные системы ценностей и идеологии.
Внедрение цифровых технологий в современных условиях развития технологических процессов привело к кардинальному изменению качества национальной экономики и бизнеса. В частности, многие экономические процессы трансформируются на основе новых принципов и методов управления, в основу которых заложены цифровые инновации, которые находят свое проявление в разных сферах. В связи с постоянно меняющимися экономическими процессами и динамичным развитием российского законодательства возникла острая необходимость законодательного регулирования основных механизмов и установления правовых режимов в сфере цифровых правоотношений.
Современные бренды – это цифровая экономика и цифровой бизнес. И не только. В настоящее время термины «цифровое государство, «цифровое правосудие», «цифровые права», «цифровое право» являются предметом оживленной дискуссии, что получило отражение в многочисленных публикациях.
Теперь несколько слов о понятии «цифровая экономика». Пока что наблюдается палитра разных точек зрения! Ясно, однако, что цифровая экономика – объективное явление, развитие которого – требование времени.
Член-корреспондент РАН В. В. Иванов дает наиболее широкое определение: «Цифровая экономика – это виртуальная среда, дополняющая нашу реальность»[3]. Далее иное определение: цифровая экономика – деятельность по созданию, распространению и использованию цифровых технологий и связанных с ними продуктов и услуг[4]. В Послании Президента РФ Федеральному Собранию от 01.12.2016 цифровая экономика определяется как экономика нового технологического поколения[5]. В свою очередь, в Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации на 2017–2030 гг. содержится следующее определение цифровой экономики: это «…хозяйственная деятельность, в которой ключевым фактором производства являются данные в цифровом виде, обработка больших объемов и использование результатов анализа которых по сравнению с традиционными формами хозяйствования позволяют существенно повысить эффективность различных видов производства, технологий, оборудования, хранения, продажи, доставки товаров и услуг»[6]. Перечень точек зрения можно продолжить. Возникает вопрос: зачем? Показать, что цифровая экономика – это многоаспектное понятие. Большинство понятий страдает многоаспектностью. А что дальше? В любом случае надо вовлечь понятие «цифровая экономика» в орбиту закона и придать ему статус легального термина со всеми вытекающими последствиями[7].
Как справедливо отмечает В. А. Вайпан, цифровая экономика сейчас формируется на трех уровнях, которые в своем тесном взаимодействии влияют на жизнь граждан и общества в целом. К таким уровням можно отнести: во-первых, рынки и отрасли экономики (традиционные сферы деятельности), где осуществляется непосредственное взаимодействие конкретных субъектов (поставщиков и потребителей товаров, работ и услуг); во-вторых, платформы и технологии, где формируются компетенции для развития рынков и отраслей экономики (сфер деятельности); в-третьих, среду, которая создает условия для развития платформ и технологий и эффективного взаимодействия субъектов рынков и отраслей экономики и охватывает нормативное регулирование, информационную инфраструктуру, кадры и информационную безопасность[8]. В России на государственном уровне было принято решение о выработке основных понятий в сфере цифровых технологий, которые могут оказать влияние на дальнейшее нормативное регулирование данных отношений. Одним из таких понятий является «цифровое право». Однако до сих пор отсутствует консолидированный закон о цифровой экономике, цифровом бизнесе, цифровых правах. Его основная задача – выработать единый понятийный аппарат и унифицировать действующее законодательство в данной сфере.
В отечественной литературе по-разному относятся к идее принятия соответствующих законов и легализации понятийного аппарата в сфере цифровизации экономики, бизнеса и общества. Действительно, то распространенно мнение о разработке тех или иных понятий, категорий, то имеет место «словесный спор», то вдруг консерватизм старого мышления – не надо дефиниций понятий, тем более размещать их в лоне действующего законодательства[9].
Цифровые технологии создают новую реальность, отличную от того физического мира, в котором мы живем. Они порождают такую технологическую среду, в которой действуют различные социальные феномены, в том числе право, система права и система законодательства. Более того, цифровые технологии начинают диктовать свои условия, к которым необходимо адаптироваться всем элементам правовой системы, в том числе институтам гражданского права. Как известно, любое развитие общества и государства влечет за собой качественное преобразование действительности и появление совершенно новых отношений и явлений. Логичным следствием такого преобразования в эпоху цифровой экономики стало появление специфичных элементов. Так, цифровой рубль, криптовалюта, токен, блокчейн, майнинг, большие данные в определенный момент стали неотъемлемой частью внедрения в повседневную жизнь новых технологий. Мы порой не задумываемся над тем, что уже являемся частью огромной экосистемы цифровой экономики и постоянно взаимодействуем с отдельными ее элементами[10]. Поэтому особенно актуальным становится вопрос о правовом регулировании соответствующих отношений, прав и обязанностей ее участников, обеспечении гарантий их соблюдения.
Фундаментальные права человека, установленные Конституцией РФ и международно-правовыми актами, конкретизируются в действующем законодательстве на каждом историческом этапе развития страны. Очевидно, наступило время конкретизации прав и свобод человека и гражданина применительно к цифровой реальности[11]. Цифровизация меняет мир. Происходит тотальная трансформация государства, общества и права.
Глобализация экономики проявляется в международном разделении труда национальных экономик. Российское промышленное производство (вся экономика в целом) находится в самом начале технологической цепочки. В настоящее время экономисты стали использовать для обозначения уровня развития экономики и состояния производства термин «технологический уклад». Этим понятием называют комплекс технологически связанных производств, характерных для определенного уровня развития общественного производства. В России примерно 50 % промышленности относится к четвертому технологическому укладу, 4 % – к пятому и менее 1 % – к шестому. Как видно, Россия делает в этом укладе первые шаги! Особенно это наблюдается в настоящее время, когда промышленно развитые страны перешли от концепции «индустриальной экономики» к теории информационного общества. В условиях информационной экономики повышается значение глобальных, национальных и региональных информационных сетей. Принято говорить об электронной коммерции, интернет-бизнесе, об изменениях в информационных технологиях[12].
Новые технологии существенно трансформируют не столько частный, сколько публичный сектор экономики, сферу государственной деятельности. Благодаря новым цифровым технологиям формируется и новая среда правового регулирования, в которой можно выделить цифровые технологии, технологические факторы и системы:
• Интернет вещей, промышленный Интернет (internet of things);
• искусственный интеллект (artificial intelligence) и машинное обучение и робототехника;
• технологии виртуальной и дополненной реальности (augmented reality), квантовые технологии и нейротехнологии;
• технологии на принципах распределенного реестра (blockchain), криптовалюты, токены, майнинг, смарт-контракты, ICO;
• глобальные базы больших данных (Big data);
• облачные компьютерные сервисы и вычисления (cloud computing);
• «умные» комплексы и устройства (smart everything);
• социальные сети (Facebook[13], VK, Twitter, Telegram и др.);
• киберпространство, интернет-торговля, киберспорт, киберфейк, «электронное правительство» и кибербезопасность[14].
Цифровые технологии способны менять образ права, влиять на его регулятивный потенциал и эффективность, открывать дорогу или блокировать его действие в новых измерениях социальной реальности. Векторы и пределы таких изменений до конца неясны. Вероятно, это подтверждение зарождения нового формата права – «права второго модерна». Зарождается новый подход к праву, регулирующему отношения в контексте мира цифр и искусственного интеллекта с помощью различных механизмов, интегрируя ряд регуляторов[15].
Цифровые права человека – это конкретизация (посредством закона и правоприменительных, в том числе судебных актов) универсальных прав человека, гарантированных международным правом и конституциями государств, применительно к потребностям человека и гражданина в обществе, основанном на информации. Задача государства – признавать и защищать цифровые права граждан от всевозможных нарушений, обеспечивая при этом конституционно-правовую безопасность личности, общества и государства[16]. И, конечно же, цифровые права юридических лиц, включая субъектов предпринимательской деятельности (субъектов цифрового бизнеса)[17].
Согласно п. 1 ст. 141.1 ГК РФ цифровыми правами признаются названные в таком качестве в законе обязательственные и иные права, содержание и условия осуществления которых определяются в соответствии с правилами информационной системы, отвечающей установленным законом признакам. Осуществление, распоряжение, в том числе передача, залог, обременение цифрового права другими способами или ограничение распоряжения цифровым правом возможны только в информационной системе без обращения к третьему лицу. Понятие «цифровые права» получило легальную прописку и рассматривается как разновидность имущественных прав (ст. 128 ГК РФ).
Теперь более подробно перейдем к вопросу о цифровом праве. Как всегда, вопрос о понятии «цифровое право» является дискуссионным. Связано это прежде всего с тем, что в одном понятии или определении достаточно сложно отразить всю сущность глобальных изменений. Кроме того, едва ли возможно учесть динамику изменений в данной сфере. И, скажем, не только. В отечественной науке любой вопрос – предмет оживленной дискуссии.
Существенному изменению под воздействием цифровых технологий подвергаются все компоненты права. Так, традиционно субъектами права являются физические лица, юридические лица (организации), государство. Однако в условиях цифровизации технологически обусловлено появление новых субъектов, например роботов. Европейским парламентом уже одобрены нормы гражданского права о робототехнике (16.02.2017). Появляется новая «цифровая личность», новый субъект права наряду с человеком[18].
Существенные изменения наблюдаются и в таком компоненте права, как объект. Информация становится универсальным объектом права, существующим в любой правовой отрасли[19]. Более того, появляются новые объекты гражданских прав. Среди них цифровые рубли и цифровые права. В настоящее время мы можем констатировать, что по поводу цифровых финансовых активов (или цифровых прав), своего рода «неюридических субстанций», выражаются интересы и выстраивается взаимное поведение субъектов гражданских отношений, что является необходимой предпосылкой возникновения, существования, развития и осуществления гражданского права как такового.
Динамичнее всего развиваются и подвергаются изменениям в связи с воздействием технологического фактора общественные отношения, составляющие предмет цифрового права.
«Цифровизация» экономики оказывает существенное влияние на сферу правового регулирования. Между субъектами правоотношений начинают складываться новые общественные отношения. Так, в сфере правового регулирования наблюдается появление отношений:
1) субъектами которых являются виртуальные или цифровые «личности»;
2) связанных с юридически значимой идентификацией личности в цифровом пространстве;
3) возникающих в связи с реализацией прав человека в цифровом пространстве (право на доступ в Интернет, право на забвение, право на «цифровую смерть» и др.);
4) ориентированных на применение робототехники;
5) складывающихся по поводу нетипичных объектов – информации, цифровых технологий (финтех, регтех и др.), создаваемых посредством применения новых цифровых сущностей (криптовалюты) и объектов материального мира, а также связанных с использованием и оборотом того и другого;
6) сопряженных с:
• использованием оцифрованных информационных массивов: баз данных, в том числе больших данных;
• переводом в цифровую форму действий и операций, посредством которых реализуются государственные функции, оказываются государственные и муниципальные услуги, обеспечивается электронное участие граждан в управлении обществом и государством;
• совершением действий в цифровом пространстве, направленных на возникновение, изменение и прекращение правоотношений, реализацию прав и исполнение обязанностей, образующих их юридическое содержание;
• применением автоматизированных действий (Интернетом вещей), обеспечением информационной безопасности и др.
Сфера правового регулирования становится мультисодержательной: в ее пределах не просто возникают новые отношения, но существенно изменяется ее структура, модифицируются сложившиеся связи.
Указанную сферу образуют как типичные, так и нетипичные для нее с точки зрения субъектного состава, объектов и среды существования общественные отношения, включая те, которые практически исключают непосредственное участие человека. Все чаще возникают общественные связи и отношения, составы фактических обстоятельств, а также события, происходящие помимо воли людей. В структуре сферы правового регулирования появился новый элемент – отношения, которые должны быть, но на данном этапе объективно не могут быть урегулированы правом в необходимом объеме»[20].
Таким образом, вышеперечисленные направления деятельности в области применения цифровых технологий свидетельствуют о том, что в настоящее время формируется цифровое пространство.
Кардинальные изменения происходят не только в общественных отношениях, регулируемых правом, но и, как следствие, в принципах и методах правового регулирования. Современный этап развития гражданского общества свидетельствует о происходящей трансформации принципов и методов правового регулирования общественных и экономических отношений.
Правовые принципы – это выраженные в праве исходные нормативно-руководящие начала, характеризующие его содержание (основы) и закрепленные в нем закономерности общественной жизни[21]. Они (принципы) обладают рядом свойств, что ставит их в один ряд с другими системообразующими факторами правовых образований, такими как предмет и метод правового регулирования, правовые презумпции. Далее отметим, что принципы права – это его сквозные «идеи», которые пронизывают права. Однако указанные начала не представляют собой что-то абстрактное. Напротив, они являются не чем иным, как идеологическим (надстроечным) отражением потребностей общественного развития. В них (принципах) получают выражение не только основы права, но и закономерности социально-экономической жизни общества[22].
В литературе принято подразделять принципы на общие и специфические (отраслевые, межотраслевые). Кроме того, в правовой науке выделяют принципы отдельных институтов (например, принцип надлежащего исполнения договора). К числу общих принципов можно отнести принципы законности, справедливости, юридического равенства, социальной свободы, демократизма, верховенства закона и др.
Основные начала гражданского законодательства (читай: принципы гражданского права) сформулированы в ст. 1 ГК РФ. К ним относятся следующие (основные) принципы: признание равенства участников регулируемых им отношений; неприкосновенность собственности; свобода договора; недопустимость произвольного вмешательства кого-либо в частные дела; необходимость беспрепятственного осуществления гражданских прав; обеспечение восстановления нарушенных прав, их судебной защиты. Наряду с основными (отраслевыми) принципами существуют принципы подотраслей и правовых институтов (например, принципы вещного права, договорного права и др.).
Поэтому на фоне цифровизации общества, экономики и бизнеса актуальным является вопрос о трансформации принципов права в условиях цифровизации. В этой связи представляется интересной монография А. А. Волос, посвященная теории принципов гражданского права в современных условиях цифровизации общества[23]. В монографии рассматривается процесс трансформации отдельных подотраслей гражданского права: вещного права, договорного права, наследственного права. Правда, автор справедливо отмечает, что какой-либо серьезной трансформации принципов гражданского права нет[24].
На наш взгляд, на фоне цифровизации общества можно говорить о принципе свободы цифрового бизнеса. Правда, актуальным является вопрос, что есть цифровая свобода, поскольку она включает в себя не только право на всеобщий доступ к цифровым технологиям и информации, но и свободу выражения мнений, убеждений, творчество, а также развитие в сфере экономики и бизнеса[25]. Другое направление трансформации: свобода смарт-контрактов.
Теперь перейдем к методам правового регулирования. С общетеоретических позиций метод правового регулирования общественных отношений – это способы (приемы, средства) воздействия права на поведение людей. Эта точка зрения является господствующей в отечественной правовой науке. Профессор С. С. Алексеев пишет: «Он (метод. – В. Б.) представляет собой особые способы, средства, приемы, используемые при правовом регулировании определенного, качественно своеобразного вида общественных отношений»[26]. Причем метод правового регулирования – это совокупность способов (средств, приемов). Понятие «способ» связано с вопросом, как осуществляется регулирование, а понятие «средство» – с вопросом, что применяют для такого регулирования[27].
Аналогичной точки зрения придерживаются и представители отраслевых наук. Профессор В. Ф. Яковлев определял гражданско-правовой метод регулирования общественных отношений как совокупность приемов (способов) воздействия отрасли на поведение людей[28]. По его авторитетному мнению, правонаделение – главная сущностная черта гражданско-правового метода.
И, конечно, существует и иное мнение по рассматриваемому вопросу. Например, профессор О. С. Иоффе и профессор М. Д. Шаргородский при определении метода правового регулирования рассматривали в нем выражение какого-либо одного способа опосредования общественных отношений[29].
Академик РАН Т. Я. Хабриева пишет: «В современном обществе усиливаются тенденции к укреплению самоуправленческих начал и саморегулированию в управлении различными общностями и процессами.
Появление разного рода виртуальных сообществ не что иное, как свидетельство стремления определенных групп людей выйти из-под жесткой государственной регуляции. В этих условиях оказалась весьма востребована общинная и кооперативная модели организации человеческого взаимодействия. Именно по их образу и подобию нередко формируются сетевые сообщества, потенциально способные образовывать саморегулируемую «криптосреду»[30].
Важнейшим средством наметившихся преобразований в обществе является организация различных форм и механизмов саморегулирования[31]. Саморегулирование – это самостоятельная и инициативная деятельность, которая осуществляется субъектами предпринимательской или профессиональной деятельности, содержанием которой является разработка и установление правил и стандартов такой деятельности, а также осуществление контроля за их соблюдением (ст. 2 Федерального закона от 01.12.2007 № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях» (далее – Закон об СРО)[32]. Саморегулирование субъектов предпринимательской или профессиональной деятельности осуществляется на условиях их объединения в СРО. Как видно, содержание саморегулирования – это, с одной стороны, разработка и установление правил и стандартов такой деятельности, с другой – осуществление контроля. Саморегулирование экономики в целом, а также саморегулирование отдельных видов экономической деятельности в какой-то степени противопоставляется государственном регулированию. Однако нельзя сказать, что между саморегулированием и государственным регулированием существует жесткая демаркационная линия. Напротив, они взаимодействуют между собой и дополняют друг друга в той или иной области.
Частное право дает о себе знать в различных формах экономического саморегулирования, причем практически во всех подотраслях и правовых институтах. В рамках саморегулирования проявляются также принципы и методы правового регулирования в гражданском праве. В этой связи следует более эффективно использовать такие правовые средства и методы, которые бы дополняли и укрепляли те или иные формы социального регулирования. Во многом решение этой задачи будет зависеть от реального соотношения частного и публичного интересов в данном сегменте правового регулирования.
Вслед за изменением сферы правового регулирования меняется и содержание права. Появление новых общественных отношений вызывает к жизни новые юридические нормы, ведет к изменению или отмене уже действующих.
Академик РАН Т. Я. Хабриева пишет: «Сейчас можно констатировать наличие следующих тенденций и процессов:
1) в праве появляются новые понятия и легальные дефиниции, фиксирующие цифровые личности и сущности, образующие ядро будущих правовых институтов;
2) более интенсивно задействована регулятивная статическая функция права, обеспечивающая закрепление и оформление новых правовых институтов;
3) конкретизируются права человека, что создает иллюзию возникновения нового вида прав – „цифровых“[33];
4) для целей создания цифровой экономики широко применяются инструменты публичного права;
5) динамично изменяется композиция модели нормативного правового регулирования (соотношение в ней законов и подзаконных актов);
6) по сути, происходит перенастройка законодательства на решение задач, возникших в связи с цифровизацией, посредством „цифровой прививки“ гражданскому, трудовому, административному, уголовному и многим другим отраслям законодательства.
Изменения наблюдаются и в сфере реализации права. Многие юридически значимые действия совершаются в виртуальном пространстве – заключение сделок, удостоверение юридически значимых фактов и др. В процессе реализации права все чаще используются цифровые технологии (блокчейн, умные самоисполняющиеся контракты и др.), изучается возможность применения вновь возникающих технологий, например, в РАН, Сколково. При осуществлении отдельных видов деятельности людей постепенно заменяют роботы, происходит роботизация и технологизация юридической деятельности. Коренные изменения зафиксированы в познавательно-доказательственной составляющей судебного процесса, вводятся новые виды доказательств (электронные доказательства, в частности, цифровые следы), а также судебных экспертиз»[34].
Очевидно, что в системе права назрели изменения. И перемены более кардинальные, нежели это представляется в теории права. Речь не просто о дискуссиях о системе права, какие отрасли ее составляют и сколько их, по каким критериям они выделяются. Проблема одновременно и глубже, и видна невооруженным глазом. Применение новых технологий способно вовсе переформатировать право, само это понятие, феномен, его содержание, механизм действия и прочее. И систему права соответственно[35].
В этой связи особый интерес представляет рассмотрение проблемы единства российского частного права и такого явления, как дуализм права[36].
Соотношение публичного и частного права имеет и практическое значение, так как в правоприменительной практике субъектам права необходимо руководствоваться конкретными нормами, обладающими отраслевой принадлежностью. На этом фоне существуют режимы публичного и частного права.
Надо согласиться с мнением профессора С. С. Алексеева о том, что публичное и частное право – это не отрасли, а целые сферы, зоны права (суперотрасли). Причем такое деление права не только и, пожалуй, даже не столько классификационное, сколько концептуального порядка. Оно касается самих основ права, его места и роли в жизни людей, его определяющих ценностей[37]. С этой точки зрения выделение публичного и частного права в их чистом виде позволяет провести разграничение между ними и соответствующими отраслями объективного права.
На протяжении двадцатого столетия в советской юридической литературе сложилась устойчивая позиция, в соответствии с которой критериями определения отраслей права являются предмет, принципы и метод правового регулирования общественных отношений. В настоящее время в юридической науке определилась тенденция расширить перечень отраслей права, обосновать отраслевой статус институтов права и подотраслей права[38].
Представляется, что «цифровизация права» в какой-то мере усугубляет общую проблему о критериях, позволяющих отнести ту или иную отрасль (подотрасль, институт) к публичному либо частному праву. Отметим, что в юридической литературе было предложено несколько теоретических конструкций по данной проблеме, среди которых можно выделить три основные концепции: теорию интереса, теорию метода, теорию предмета правового регулирования[39]. Вместе с тем ни одна из рассматриваемых концепций не позволяет провести четкое разграничение между публичным и частным правом.
Цифровизация катализирует стирание граней между отраслями права. Информация и технологии пришли уже в каждую отрасль, они становятся общим знаменателем и способны определять единую логику права. Ценность отраслевых границ снижается в правовой практике, что неминуемо влияет и на теорию права[40]. Напротив, в реальной действительности между публичным и частным правом не существует так называемой «Китайской стены». При этом наблюдается процесс публицизации отдельных отраслей частного права[41].
«Публицизация» частного права – закономерный процесс. На этом фоне принципиальным является вопрос о том, что именно подвергается «публицизации», гражданское право и (или) гражданское законодательство. На наш взгляд, «публицизация» охватывает и гражданское право, и гражданское законодательство. Например, институт юридических лиц относится к гражданско-правовым средствам (ст. 48 ГК РФ). Однако порядок (процедура) их государственной регистрации носит административно-правовой характер (ст. 51 ГК РФ). Провести условное разграничение между ними по отраслевому критерию не вызывает трудностей[42]. Вопрос заключается в другом: следует ли производить чистку гражданского права (равно как гражданского законодательства) от инородных норм в целях сохранения цивилистического целомудрия?
Таким образом, право находится на пороге перемен под влиянием технологического фактора. Выделяемые в теории основные признаки права (система общеобязательных норм, санкционированных государством, выражающих государственную волю и обеспечиваемых государством) в цифровую эпоху теряют прежний смысл[43]. Мы являемся свидетелями формирования нового правового образования – цифрового права. Сегодня можно говорить даже о наличии ряда признаков цифрового права как комплексной отрасли права.
В этой связи стоит отметить, что в дискуссии по вопросам системы права ряд ученых встали на путь отрицания отраслей права (Ц. А. Ямпольская, Р. З. Лившиц, И. А. Танчук). Представители данного направления в науке предлагали отойти от отрасли права и признать систему законодательства и отрасль законодательства. Однако данное направление не нашло своего закрепления в науке и большого числа последователей[44]. Возможно, именно сейчас данные концепции находят свою актуальность. Профессор Г. Ф. Шершеневич справедливо указывал, что теоретическая, педагогическая и практическая причины приводят к необходимости разделить действующее право по отделам[45]. Если следовать вышеуказанной логике, то система российского права состоит из отдельных отраслей права, между которыми постоянно проходят тектонические процессы, одни отрасли права умирают, но появляются другие отрасли[46].
Многие сегодня говорят о цифровом праве как уже о самостоятельной отрасли права. Но при этом следует помнить, что главным является единство системы права, которое обеспечивается рядом факторов: единство предмета правового регулирования, наличие специальных принципов и метода права. Вместе с тем вывод о самостоятельности и сформированной отрасли цифрового права пока представляется преждевременным. Однако теоретические и практические причины приводят к необходимости исследовать понятие «цифровое право». Процесс формирования цифрового права фактически и представляет собой цифровизацию права, которая будет иметь постоянную тенденцию к увеличению.
В перспективе в силу логики процесса цифровизации объективно складываются предпосылки для формирования нового направления правового регулирования – цифрового права, которое будет включать систему нормативных актов, технических регламентов и норм, соглашений участников внутри технологических платформ для обеспечения стабильности и развития цифрового гражданского оборота. При формировании цифрового права как самостоятельного направления правового регулирования, с точки зрения авторов, оправдан подход с использованием цифровых технологий, технологических платформ (комплекса цифровых технологий), объединяющих информационные, коммуникационные, производственные и иные современные технологии, для регулирующего воздействия на цифровой гражданский оборот.
Цифровое право в объективном смысле представляет собой структуру нормативных правовых актов (включая международные договоры в области цифрового гражданского оборота) и акты локального действия (правила, соглашения) в технологических платформах. Цифровое право регулирует общественные отношения в сфере цифрового гражданского оборота с участием нематериальных цифровых объектов, обладающих объявленной или действительной коммерческой ценностью (экономическим содержанием), признаваемые законом и основанные на принципах создания и действия комплексных технологий (технологических платформ) распределенного реестра или иных цифровых технологий (искусственный интеллект, виртуальная и дополненная реальность, криптовалюты и токены, облачные вычисления и др.)[47].
К числу отношений, составляющих предмет цифрового права, относятся, например, отношения:
• по владению, пользованию и распоряжению цифровой собственностью, цифровыми активами;
• личные неимущественные права, складывающиеся в связи с использованием цифровых технологий, в результате использования таких технологий и в целях создания новых цифровых технологий и иных объектов цифрового права;
• в сфере образования, связанные с использованием цифровых технологий;
• связанные с использованием цифровых технологий в государственном секторе;
• связанные с использованием цифровых технологий для оптимизации бизнес-процессов;
• по предупреждению и пресечению нарушений, складывающихся в связи с использованием новых цифровых технологий, направленные на обеспечение соблюдения прав человека и свобод человека и гражданина, интересов лиц в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, защиту от незаконного посягательства на собственность, в том числе на интеллектуальную собственность, честь, достоинство и деловую репутацию.
Итак, совокупность указанных отношений представляет собой тесно связанный с отношениями, составляющими предмет регулирования иных отраслей права, но специфичный и достаточно обособленный предмет цифрового права.
На современном этапе развития российского законодательства основные направления преобразования нормативной базы в контексте становления цифрового права следующие:
• разработка понятийного аппарата цифрового права, закладывающего фундамент для развития дальнейшего правового регулирования;
• определение особенностей правоотношений, составляющих предмет цифрового права, выявление их видов, а также юридических фактов, влекущих возникновение таких правоотношений;
• выявление наиболее типичных возможных нарушений прав и законных интересов участников правоотношений, составляющих предмет цифрового права, формирование нормативной базы, направленной на предупреждение и пресечение таких правонарушений, в том числе привлечение к ответственности лиц, совершивших указанные нарушения.
Соответствующие направления развития и преобразования также должны найти свое отражение в юридической доктрине.
§ 3. Цифровое право в системе отраслей российского права
А. В. Минбалеев
Как отмечалось в предыдущих параграфах учебника, природа цифрового права сегодня весьма неоднозначна. У цифрового права сегодня имеются и признаки комплексной отрасли права, некоторыми авторами предлагается выделять ее уже как самостоятельную отрасль права. Достаточно серьезно обосновывается и точка зрения, что «нормативный массив, образующий правовую основу цифровой экономики, уже не только формируется, но и функционирует, относится к своего рода „циклическим правовым массивам“, которые „являются основным драйвером и магистральным направлением интеграции и дифференциации права в эпоху цифровизации“»[48].
Цифровое право по своей природе как правовое образование является регулятором цифровых отношений, которые охватываются разными отраслями права.
Рассмотрим основные подходы, которые сегодня активно развиваются.
1. Прежде всего цифровое право – это система правовых норм, обеспечивающих развитие принципиально новой сферы общественных отношений – системы общественных отношений в цифровой среде. С этой точки зрения цифровое право можно в какой-то мере противопоставить праву, регулирующему отношения в офлайн-среде (нецифровой). Цифровое право в этом случае можно рассматривать как специальную систему регулирования всей совокупности общественных отношений цифровой среды, формирующуюся на основе специально создаваемых для этих целей механизмов. В рамках данного механизма основной особенностью, как нам это видится, является уникальное переплетение и взаимодействие правовых и иных регуляторов цифровой среды, их взаимопроникновение и взаимовлияние, формирование, по сути, симбиотических связей. В этой связи развитие цифрового права видится как развитие регулятора мультисистемного характера. В некоторой степени это «мегаотрасль», которая направлена на отношения, складывающиеся онлайн в рамках цифрового пространства. Цифровое право фактически превращается в определенную юридическую фикцию с позиции использования слова «право», поскольку эта система разных регуляторных механизмов, в совокупности оказывающих влияние на развитие цифровой среды.
2. Цифровое право сегодня наиболее часто рассматривают в классическом правовом институциональном аспекте как совокупность правовых норм. Причем существует несколько позиций о его природе как системы правовых норм. Есть подход рассмотрения ее как отрасли права. Но об этом, конечно, пока чрезвычайно рано говорить. Есть ряд предпосылок рассмотрения цифрового права в качестве самостоятельной комплексной отрасли права. Однако природа цифровых правоотношений полностью обусловлена их информационно-правовой природой, поскольку цифра представляет собой лишь определенную форму существования информации. В связи с чем выделение цифрового права как комплексной отрасли права наряду с существованием информационного права по меньшей мере является и предметно, и методологически ошибочным[49].
Наиболее точными являются позиции отнесения цифрового права к информационному праву в качестве подотрасли или института. По своей значимости, бесспорно, необходимо говорить, что цифровое право рано или поздно сформируется как подотрасль информационного права. Однако в отсутствии четко сформированной системы правовых норм в этой сфере пока это институт информационного права, активно развивающийся и в будущем имеющий все предпосылки эволюционирования в подотрасль информационного права.
Цифровое право сегодня – это комплексный институт права, представляющий собой совокупность правовых норм, регулирующих цифровые отношения, складывающиеся по поводу обработки информации в цифровой форме с использованием цифровых технологий.
3. Цифровое право сегодня – это и актуальная учебная дисциплина, и сфера научных исследований, выделение которой обусловлено необходимостью изучения процессов цифровизации и правовой природы цифровых технологий, цифровых данных и складывающихся цифровых отношений, а также обучения особенностям цифровых правоотношений широкой группы обучающихся, начиная от школьников и заканчивая специалистами в рамках непрерывного образования.
Предметно цифровое право охватывает цифровые отношения, то есть отношения, связанные с обработкой информации в цифровой форме с использованием цифровых технологий. Цифровое право формируется сегодня как комплексный (межотраслевой) правовой институт, обеспечивающий нормативное регулирование цифровой среды.
Методологически основой для регулирования цифровых отношений выступает совокупность правовых и неправовых регуляторов, использующих потенциально неопределенный набор методов, приемов и средств как правовой, так и иной природы (применительно к неправовым регуляторам). Цифровое право в будущем можно рассматривать как искусственно создаваемый социобиотехнический регуляторный механизм, основанный на совокупности потенциально неограниченного набора регуляторов различной природы, призванный упорядочить, контролировать и развивать отношения в цифровой среде.
Важную роль в обособлении цифрового права в качестве комплексного правового института играют базовые объекты информационных (цифровых) отношений цифровые данные и связанные с ними цифровые технологии.
К особенностям цифровых отношений следует отнести и специфический субъектный состав; наличие значительного количества специфических правовых режимов отдельных цифровых технологий и др. Инструментами регулирования этих отношений выступает совокупность регуляторов. Со временем однозначно правовой инструментарий управления изменениями цифровой среды расширится за счет регуляторных инструментов, основанных на самих цифровых технологиях, которые будут оказывать непосредственное влияние на механизм регулирования. Новые цифровые технологии формируют и новый круг общественных отношений, в котором можно выделить следующие основные «сквозные» технологии, объекты и институты: киберфизические системы и искусственный интеллект; технологии виртуальной и дополненной реальности, квантовые технологии и нейротехнологии; Интернет вещей и промышленный Интернет; технологии на принципах распределенного реестра; цифровые права и цифровые активы; смарт-контракты; облачные технологии и туманные вычисления; киберпространство и кибербезопасность.
Система регулирования цифровых отношений, прежде всего связанных с цифровой экономикой и развивающейся экономикой данных, предусматривает ряд принципиально новых процедур разработки и принятия регуляторных решений, воплощаемых в виде регуляторных инструментов: правил и требований, адресованных участникам регулируемой экономической деятельности, а также контрольно-надзорным органам. Регуляторные решения также могут касаться отмены или модификации уже существующих правил и требований. Процедуры принятия регуляторных решений охватывают весь цикл процесса создания правил: от идентификации проблемы, требующей регулирования, дерегулирования или модификации нормы, до разработки и принятия соответствующей нормы или правила, его реализации и выявления последствий его применения к субъектам соответствующих правоотношений. В условиях цифровизации регуляторная политика из способа реагирования на уже произошедшие в обществе изменения превращается в особый механизм, встроенный в эти изменения и совершенствующийся вместе с развитием общества, создается система управления изменениями, которая позволяет гибко и своевременно реагировать на современные вызовы и угрозы в системе «умного регулирования»[50].
Развитие цифрового права происходит в двух основных направлениях. С одной стороны, формируется совокупность нормативных правовых актов, регулирующих цифровые отношения; данный процесс связан в первую очередь с разработкой законодательства о цифровых активах, использовании технологий блокчейн, искусственного интеллекта, больших данных. С другой – отдельные нормы, регулирующие цифровые отношения, внедряются в отраслевое законодательство. При этом все больше данные направления синхронизируются и развиваются параллельно.
Механизм правового регулирования общественных отношений в цифровой среде основывается в первую очередь на том, что они имеют информационную природу, поскольку возникают по поводу совершения тех или иных действий с информацией в цифровой форме, прежде всего цифровыми данными. Кроме того, это отношения, связанные с использованием широкого спектра цифровых технологий, которые также основываются на обороте, совершении значительного количества действий, операций с цифровыми данными и сообщениями. Это могут быть чисто информационные отношения, например, когда речь идет о создании и использовании в рамках цифровых технологий информации ограниченного доступа в цифровой форме. Так, например, сегодня активно ставится задача обеспечения конфиденциальности информации при ее хранении с использованием блокчейн-технологий. Также цифровые технологии активно используются для обеспечения доступа граждан и организаций к открытой (общедоступной) информации в рамках массовых коммуникаций, оборота архивной и библиотечной информации. Здесь информационное право задействуется в виде системы отраслевых юридических фактов, правоотношений, специальных субъектов, объектов правоотношений (информации, информационных технологий, информационных систем и др.), самостоятельных субъективных прав (право обладания информацией) и юридических обязанностей, особенностей их реализации с помощью уникального подбора и сочетания способов правового регулирования.
Значительная часть норм, регулирующих цифровые отношения, относится к числу гражданско-правовых, трудовых, административных, уголовных и других, что вызывает необходимость разграничения информационных и иных отношений, складывающихся по поводу цифровых отношений. Данное положение дел является естественным, поскольку цифровые отношения пронизывают любые складывающиеся сегодня сферы человеческой деятельности. Задачей цифрового права в этой связи является обеспечение базовыми нормами, методологией и принципами регулирования цифровых отношений, категориальным аппаратом, которые бы позволили эффективно развиваться цифровому праву.
Также необходимо обеспечивать соответствие единым требованиям регулирования цифровых отношений принимаемых отраслевых норм в части учета особенностей природы данных в цифровой форме и цифровых технологий. Практика регулирования тех или иных отношений в цифровой сфере различными отраслями права свидетельствует о появлении огромного количества коллизий и противоречий, отсутствии учета их природы, использовании различного понятийного аппарата для обозначения одних и тех же объектов цифровой среды.
Таким образом, в предмете цифрового права как формирующейся системе правовых норм в рамках комплексного института сегодня можно выделить две группы отношений.
Первая группа – совокупность общественных отношений, складывающихся по поводу обработки информации в цифровой форме с использованием цифровых технологий, в первую очередь цифровых данных. Это цифровые отношения информационной природы, непосредственно не связанные и не обусловленные отношениями иной отраслевой принадлежности. Данный круг цифровых отношений складывается на основе информационно-правовых норм, содержащихся в специализированных нормативных правовых актах, устанавливающих правовую сущность информации в цифровой форме и цифровых технологий.
Вторая группа – это совокупность цифровых отношений, складывающихся по поводу обработки информации в цифровой форме с использованием цифровых технологий, непосредственно связанных с иными отношениями. Например, отношения по ведению цифровых трудовых книжек, данных работников и информации о них в распределенных реестрах, использование технологий искусственного интеллекта при обучении работников и др. – это трудовые отношения. Основные отношения в данном случае – трудовые. При этом механизм правового регулирования предполагает в рамках стадии реализации прав и обязанностей соблюдения, исполнения и использования норм различной отраслевой принадлежности (как трудового права, так и информационного права). В рамках этой стадии к различным участникам этих отношений будут применяться различные способы правового регулирования. Другим примером являются отношения, возникающие по поводу цифровых активов и цифровых прав, а также отношения в сфере создания объектов интеллектуальной собственности и защиты интеллектуальных прав с использованием цифровых технологий, – это гражданско-правовые отношения.
Развитие цифрового права оказывает влияние на систему права в целом и отдельные отрасли. Практически все современные знания, в том числе и правовые, неразрывно связаны с принципами универсального эволюционизма. Данные принципы, по мнению В. С. Степина, являются основой современной науки в ее стремлении построить общенаучную картину мира, предполагают объединение в единое целое идеи системного и эволюционного подходов[51]. Одной из важных идей концепции универсального эволюционизма является выявленная закономерность зависимости развития и изменений в знаниях той или иной науки «не столько под влиянием внутридисциплинарных факторов, сколько путем „парадигмальной прививки“ идей, транслируемых из других наук»[52]. Анализ формирования цифрового права как института свидетельствует о полном соответствии этих процессов принципам универсального эволюционизма. Институт цифрового права, формирующийся на базе всей системы отраслей российского права и отраслей российского законодательства на основе междисциплинарной рефлексии и внутреннего эволюционного развития, формирует уникальную систему способов, приемов средств регулирования различных отраслевых отношений с использованием технических методов. Цифровое право постепенно прибегает к междисциплинарной рефлексии и транслирует ряд идей не из правовых наук. В этом отношении мы наблюдаем активное заимствование идей самых разных наук (информатики, кибернетики, биологии и др.).
§ 4. Принципы цифрового права
А. В. Минбалеев
Цифровая трансформация общества, влекущая трансформацию права, заставляет по-новому подходить к оценке регуляторного воздействия на цифровые отношения с позиции принципов права. Межотраслевой характер реализации цифровых отношений, внедрение цифровых технологий во все сферы общественной жизни обусловливают необходимость комплексного подхода и к принципам цифрового права.
Разнообразие цифровых отраслевых отношений, необходимость учета их природы как отношений по поводу данных в цифровой форме, а также цифровых технологий, значительное количество и увеличение видов и форм цифровых технологий обусловливают построение многоуровневой сложной системы принципов цифрового права как комплексного (межотраслевого) правового образования (правового института).
Под правовыми принципами в теории права традиционно понимаются те основные идеи, которые являются основополагающими в регулировании общественных отношений, получают свое выражение и конкретизируются в содержании правовых норм, выступают как направляющие установки при реализации норм права.
Мы привыкли, что принципы стабильны и подвержены всегда незначительным изменениям. Но особенностью принципов цифрового права является их динамизм.
В рамках цифрового права можно говорить о многоуровневой системе принципов, основой для составления которых являются Конституция РФ, ряд международных актов и нормативных правовых актов РФ.
Первый уровень принципов – это общеправовые принципы, применяемые цифровым правом исходя из существующих общих закономерностей существования всех правовых явлений, а также фундаментальных положений Конституции РФ. Это принципы законности, демократизма, равенства всех перед законом, справедливости, гуманизма и др.
Второй уровень принципов – это межотраслевые принципы. Прежде всего это принцип гласности.
Третий уровень – это совокупность отраслевых принципов информационного права, которые используются при регулировании цифровых информационных отношений, а также принципы других отраслей права, которые применяются в случае реализации тех или иных отраслевых цифровых отношений.
Отраслевые принципы информационного права основываются во многом на принципах, закрепленных Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» (далее – Закон об информации). Правовое регулирование отношений, возникающих в сфере информации, информационных технологий и защиты информации, основывается на следующих принципах:
1) свобода поиска, получения, передачи, производства и распространения информации любым законным способом;
2) установление ограничений доступа к информации только федеральными законами;
3) открытость информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления и свободный доступ к такой информации, кроме случаев, установленных федеральными законами;
4) равноправие языков народов Российской Федерации при создании информационных систем и их эксплуатации;
5) обеспечение безопасности Российской Федерации при создании информационных систем, их эксплуатации и защите содержащейся в них информации;
6) достоверность информации и своевременность ее предоставления;
7) неприкосновенность частной жизни, недопустимость сбора, хранения, использования и распространения информации о частной жизни лица без его согласия;
8) недопустимость установления нормативными правовыми актами каких-либо преимуществ применения одних информационных технологий перед другими, если только обязательность применения определенных информационных технологий для создания и эксплуатации государственных информационных систем не установлена федеральными законами. Анализ большинства принципов, закрепленных законодателем, свидетельствует о возможности их применения к большинству цифровых отношений, возникающих в современном мире
К сожалению, с развитием информационного законодательства законодатель очень часто не учитывал данные принципы, прежде всего с точки зрения понятийного аппарата. Многие категории так и не нашли должного отражения как в базовом законе, так и в других законах. Не учитываются эти принципы и в процессе регулирования информационных отношений в рамках других отраслей права, тем самым не учитываются особенности информации и информационных отношений.
Развитие информационного законодательства, в том числе самого Закона об информации, не сопровождается развитием (или как минимум приведением в соответствие с новыми реалиями цифровой среды) принципов. Так, наряду с «распространением», стала использоваться категория «предоставление информации»; появился целый пласт норм о регулировании отношений в связи с функционированием сети Интернет; информационная безопасность стала рассматриваться не только исключительно через безопасность государственных, но корпоративных и индивидуальных информационных систем, соответственно, мы говорим о безопасности не только государства, но и общества и человека. На концептуальном уровне появились новые задачи в условиях развития в России информационного общества и перехода к экономике данных.
Отраслевые принципы информационного права представляется возможным разделить на три блока:
1 блок – принципы, отражающие общую природу информации как объекта правоотношений, природу информационных правоотношений:
• принцип режимности информации;
• принцип установления баланса прав и законных интересов личности, общества и государства в информационной деятельности;
2 блок – принципы, отражающие природу общедоступности (открытости) информации:
• свобода поиска, получения, передачи, производства и распространения информации любым законным способом;
• открытость и доступность информации, кроме случаев, установленных федеральными законами;
• достоверность информации и своевременность ее предоставления;
3 блок – принципы, отражающие природу конфиденциальности информации и возможного вредоносного характера действий с ней:
• установление ограничений доступа к информации только федеральными законами;
• неприкосновенность частной жизни, недопустимость сбора, хранения, использования и распространения информации о частной жизни лица без его согласия;
• недопущение несанкционированного распространения, использования и уничтожения информации;
• обеспечение минимизации негативного информационного воздействия и негативных последствий при возникновении, изменении и прекращении информационных отношений.
Четвертый уровень – это система принципов, которые обусловливают специфику отдельных институтов, в частности цифрового права. Выделение подобной системы связывается в первую очередь с тем, что характер многих цифровых отношений сегодня в достаточной степени обособлен и обладает рядом специфических черт, поэтому ряд базовых идей, лежащих в основе одних институтов, является абсолютно не приемлемым для других. В рамках каждого института права можно выделить свои принципы, которые обеспечивают особый режим регулирования специальных цифровых отношений.
Принципы регулирования цифровых отношений, к сожалению, не нашли своего отражения в национальных актах, посвященных цифровой экономике и процессам цифровизации. Ряд принципов был закреплен в решении Высшего Евразийского экономического совета от 11.10.2017 № 12 «Об Основных направлениях реализации цифровой повестки Евразийского экономического союза до 2025 года». В нем закрепляется, что основные направления реализации цифровой повестки формируются исходя из принципов, определенных в Договоре о Евразийском экономическом союзе (подписан в г. Астане 29.05.2014)[53], а также из следующих принципов:
• «равноправное партнерство, развитие интеграции и сотрудничества государств-членов в ходе реализации цифровой повестки;
• синергия в процессе решения государствами-членами совместных задач в рамках Союза;
• расширение включенности в цифровую повестку и преодоление всех форм цифрового разрыва;
• развитие открытой и благоприятной деловой среды в государствах-членах;
• обеспечение взаимной выгоды для государств-членов, в том числе расширение цифровой интеграции;
• использование предоставленной информации только в заявленных целях без ущерба для государства-члена, ее предоставившего;
• сопряжение национальных информационных систем государств-членов;
• развитие национальных цифровых повесток, обозначенных в стратегических документах и связанных с цифровой трансформацией в государствах-членах;
• экономическая обоснованность актов, принимаемых органами Союза;
• равный доступ государств-членов к информационным ресурсам Союза;
• органическое развитие информационных ресурсов государств-членов с обеспечением необходимого уровня интероперабельности (технологической открытости)»[54].
Применительно к цифровому праву как комплексному (межотраслевому) институту можно выделить ряд принципов.
Гибкость и оперативность принятия регуляторных решений по регулированию отношений в цифровой среде. В рамках развития цифровой экономики как одна из ключевых идей закладывается необходимость перевода регуляторной системы из текущего состояния к гибкому, оперативному и основанному на данных формированию и принятию регуляторных решений, которые устраняли бы регуляторные барьеры и создавали бы благоприятные условия для развития этой сферы, одновременно снижая риски, связанные с широким использованием новых технологий.
Специализация в регулировании отношений в цифровой среде по сферам общественной жизни. В рамках федерального проекта «Нормативное регулирование цифровой среды» национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации» поставлена задача по созданию системы правового регулирования цифровой экономики, основанной на гибком подходе к каждой сфере.
Дискретность набора механизмов регулирования отношений в цифровой среде. Природа цифровых отношений обусловливает необходимость использования большого набора регуляторов: организационных, технических, этических, саморегулирования и сорегулирования, национального регулирования и наднациональных регуляторов. Четко определить, какими они будут, какую роль они будут играть на настоящий момент, невозможно в силу недостаточного развития соответствующих технологий. Дискретность предполагает, что со временем набор регуляторов может меняться в зависимости от характера развития цифровых отношений.
Принцип баланса между целью способствовать развитию цифровых технологий и необходимостью защиты общественных интересов и прав потребителей. Цифровая экономика связана с появлением принципиально новых продуктов и возникновением новых практик экономической деятельности, качественно новых возможностей по накоплению, обработке и анализу больших объемов данных. Их неизученность может повлечь непредвиденные негативные долгосрочные эффекты, нести ряд рисков и угроз обществу в целом и отдельным гражданам в частности. В связи с этим существует необходимость нахождения баланса между целью способствовать развитию цифровых технологий и необходимостью защиты общественных интересов и прав потребителей.
Кроме того, можно выделить и другие принципы: принцип баланса обеспечения применения для субъектов права адаптивных сроков внедрения новых цифровых решений и учета стремительности развития цифровых технологий; эффективности цифровых решений; принцип технической нейтральности; приоритетности регулирования больших объемов данных; использования цифровых платформ как основы для развития отношений в цифровой среде; ответственности органов государственной власти и органов местного самоуправления за внедрение и реализацию цифровых решений.
Все рассмотренные принципы цифрового права образуют единую и неделимую цепь начал, где сущность и назначение каждого принципа определяется не только собственным содержанием, но и связью с другими принципами, функционированием всей системы.
§ 5. Цифровое право как система знаний и учебная дисциплина
И. В. Ершова[55]
Цифровое право как учебная дисциплина представляет собой систему сведений о правовых нормах, регулирующих отношения, возникающие в связи с приобретением, осуществлением и отчуждением цифровых прав, а также с применением цифровых технологий. Любопытно обратиться к этимологии слова «дисциплина», которое происходит от лат. disciplīna – учение, образование, наука; строгий порядок, а также disco, discere – учиться, изучать, узнавать. Сообразно этому, основное предназначение данной учебной дисциплины – предоставить студентам необходимую систематизированную информацию о цифровом праве, способствовать освоению ими формирующегося правового обеспечения цифровой экономики и цифровизации в целом.
Вопрос о месте дисциплины цифровое право в системе учебных дисциплин образовательных программ высшего юридического образования представляется дискуссионным. Это объясняется дискуссионностью вопроса и о месте цифрового права в системе российского права. Однако неоспоримым видится факт необходимости обучения будущих юристов правовым основам цифровизации.
По нашему мнению, организация обучения цифровому праву может быть различной. Так, в магистратуре указанная проблематика могла бы стать предметом изучения:
1) дисциплины, посвященной актуальным проблемам соответствующей отрасли права. Сложно усомниться в том, что проблематика цифрового права в аспекте соответствующей отраслевой принадлежности относится к числу актуальных проблем, а ее освоение необходимо юристам современной формации. Отметим, что применение рассматриваемого подхода в качестве возможного отражено в литературе, а его реализацию объясняют «осторожностью» многих преподавателей вузов, практикующих юристов в отношении проблематики цифровой экономики, а также нехваткой в университете профессорско-преподавательского состава, обладающего необходимыми знаниями[56];
2) отдельных учебных дисциплин, входящих в программы магистратуры. Заметим, что образовательные программы магистратуры часто носят межотраслевой, межкафедральный характер. В качестве примера приведем реализующуюся в Университете имени О. Е. Кутафина (МГЮА) магистерскую программу «Правовое сопровождение бизнеса (бизнес-юрист)»[57], учебный план которой предусматривает изучение дисциплины «Правовое обеспечение цифровой экономики», содержание которой нашло отражение в монографическом исследовании[58].
При этом обозначим мнение о возможности комбинирования первого и второго обозначенного подходов, когда основы цифрового права являются предметом изучения учебной дисциплины «Актуальные проблемы права и правоприменения»[59], а углубленное получение «цифровых знаний» и навыков происходит уже на стадии освоения дисциплин вариативной (профильной) части, а также в процессе прохождения учебной и производственной практики;
3) специальных магистерских программ, связанных с изучением новых (в первую очередь цифровых) технологий, либо отдельных институтов цифрового права. Так, в Университете имени О. Е. Кутафина (МГЮА) к такого рода магистерским программам можно отнести «Цифровое право» (IT-law), «Интеллектуальные права и права новых технологий», «Цифровые финансовые технологии и право» (FinTechLaw) (сетевая форма реализации совместно с РУДН)[60].
Как учебная дисциплина цифровое право имеет свой предмет (содержание). Существенной особенностью содержания цифрового права как учебной дисциплины является высокая динамика изменений, что предопределено этапом становления цифровой экономики и ее правового регулирования. Появляются новые субъекты (виртуальные или цифровые личности) и объекты (цифровые права) права, трансформируются общественные отношения. В этой связи задачами преподавателей являются: перманентный мониторинг законодательных изменений, постоянное отслеживание появления научных статей, монографий, диссертаций по цифровой проблематике и, что естественно, ежегодная модернизация рабочих программ дисциплин (дисциплины). Уверены, в предлагаемом учебнике представлен необходимый и достаточный для изучения «набор» сведений о цифровом праве, адекватно отражающий «состояние» рассматриваемой сферы общественных отношений.
Как и любая учебная дисциплина, цифровое право преследует цель достижения определенного результата. В условиях компетентностной системы обучения таким результатом должно стать формирование компетенций (от лат. competere – «соответствовать», «подходить»), предусмотренных соответствующим федеральным государственным образовательным стандартом (далее – ФГОС). Глоссарий ФГОС раскрывает понятие «компетенция» через совокупность определенных знаний, умений и навыков, в которых человек должен быть осведомлен и должен иметь практический опыт работы[61]. С прикладной точки зрения представляет интерес определение рассматриваемого понятия в Глоссарии европейского проекта Tuning[62]. Компетенции (Competences) трактуются как динамичное сочетание когнитивных и метакогнитивных навыков, знания, понимания, межличностных, интеллектуальных и практических навыков, а также этических ценностей. Развитие компетенции является целью образовательных программ.
Одним из наиболее распространенных подходов к определению структуры компетенции является подход, выделяющий ее когнитивную и личностную составляющие. Когнитивная составляющая включает два компонента: знаниевый и деятельностный (функциональный). Первый определяет уровень сформированности системы знаний, включает теоретические и методологические основы предметной области. Второй – степень сформированности практических навыков, позволяет оценить умение применять теоретические знания на практике, способность принимать решения как в стандартных, так и в нестандартных ситуациях. Личностная составляющая определяет мотивы и ценностные установки личности в процессе осуществления деятельности, отношение к деятельности[63].
Напомним, что Перечень ключевых компетенций цифровой экономики ранее был утвержден приказом Минэкономразвития России в январе 2020 г.[64] К названным компетенциям были отнесены: коммуникация и кооперация в цифровой среде; саморазвитие в условиях неопределенности; креативное мышление; управление информацией и данными; критическое мышление в цифровой среде[65].
Как представляется, освоивший учебную дисциплину цифровое право обучающийся должен понимать значение категорий и терминов цифрового права; быть осведомленным о системе нормативного правового обеспечения цифровой экономики; знать содержание законодательных и иных актов (в том числе программ, стратегий и пр.); ориентироваться в основных правовых позициях судов по рассматриваемой проблематике; иметь представление о формирующейся теории цифрового права и основных доктринальных достижениях. Важно, что цифровизация не имеет национальности – данный процесс с разной степенью активности захватывает весь мир. В этой связи важным становится знание не только отечественных законодательных и доктринальных положений. Современный юрист должен обладать компаративистскими навыками изучения проблем, что позволит ему встроиться в глобальную цифровую среду, быть востребованным на рынке цифровой экономики, границы которой постепенно стираются. А для этого необходимо свободное владение английским языком (в идеале и иными иностранными языками).
Кроме того, успешное освоение цифрового права предопределяет также наличие элементарных (что необходимо, но не всегда достаточно) знаний в области математики, физики, информатики, иных точных дисциплин[66].
Вместе с тем мы должны помнить, что в новых условиях важно не столько снабдить студентов определенным набором знаний, сколько «научить их учиться», – данный навык необходим в «обществе знаний»[67]. В числе умений назовем самостоятельное пользование цифровыми технологиями, информационными цифровыми системами в процессе профессиональной деятельности. Важно, чтобы обучающийся обладал навыками мониторинга законодательного обеспечения цифровизации (в том числе умел отслеживать изменения законодательства уже после окончания обучения), был восприимчив к цифровым инновациям, в первую очередь правовым.
Говоря о цифровом праве, следует обратить внимание на методику его преподавания и изучения. По нашему представлению, она имеет существенные особенности, предопределенные содержанием учебной дисциплины. К таким особенностям отнесем:
1. Преобладание активных и интерактивных технологий при проведении аудиторных занятий[68], широкое применение цифровых технологий в процессе преподавания и обучения. В качестве перспективных технологий при изучении цифрового права могут рассматриваться онлайн-курсы[69]. Данная технология активно применяется в Университете имени О. Е. Кутафина (МГЮА). В качестве примера приведем онлайн-курсы «Киберправо и кибербезопасность»[70], «Цифровизация гражданского оборота: проблемы и тенденции развития»[71], «LegalTech-менеджер»[72]. Весьма эффективны онлайн-консультации, открытые мультимедийные учебники, обучение через социальные медиа, виртуальные симуляторы, мобильные игровые приложения, образовательные чат-боты и др.[73]
В контексте рассмотрения методики обучения цифровому праву отметим, что Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»[74] предусматривает право образовательных организаций осуществлять реализацию образовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий (ст. 16).
В целом стратегия цифровизации обучения была реализована в ряде развитых и развивающихся стран, что позволило им занять лидирующие позиции в мировом инновационном образовательном пространстве[75]. Среди таких стран в первую очередь назовем США[76], Южную Корею[77], Францию[78], Ирландию, Финляндию, Турцию, Китай, Индию[79]. В сентябре 2020 г. Европейской комиссией был утвержден обновленный план действий в области цифрового образования (2021–2027) «Перезагрузка образования и профессиональной подготовки для цифровой эпохи», в котором излагается видение Европейской комиссией высококачественного, инклюзивного и доступного цифрового образования в Европе. Новый план действий имеет два стратегических приоритета: 1) содействие развитию высококачественной экосистемы цифрового образования; 2) повышение цифровых навыков и компетенций для цифровой трансформации. План действий в области цифрового образования является ключевым фактором, способствующим реализации видения создания Европейского образовательного пространства[80].
Поскольку вектор на применение цифровых технологий в России уже стратегически задан, актуальной остается изучение лучших зарубежных практик с возможной их адаптацией к российским реалиям. Для преподавания цифрового права данная задача особенно актуальна.
2. Акцент на практикоориентированные виды самостоятельной внеаудиторной работы обучающихся. При изучении проблематики самостоятельной работы и ее роли в образовательном процессе нами было проведено социологическое исследование с целью выявления мнения учащихся[81]. Его результаты показали, что обучающиеся в бакалавриате, специалитете, магистратуре, равно как и аспиранты, отдают предпочтение тем заданиям для самостоятельной работы, которые формируют у них конкретные навыки и умения, необходимые в правоприменении. Уверены, что при обучении цифровому праву данные позиции приобретают новую окраску – цифровизация всех сфер жизни общества требует формирование «цифровых навыков», что предопределяет пересмотр системы и формата самостоятельной работы студентов.
3. Использование электронных ресурсов при проведении промежуточной аттестации. Следует отметить, что действующие нормативные правовые акты, регламентирующие образовательную деятельность, содержат широкий спектр моделей промежуточной аттестации, что вполне соответствует вызовам времени. В частности, предусматривается возможность проведения промежуточной аттестации в электронной информационно-образовательной среде (по форме аттестация может быть внеаудиторной и аудиторной), что может быть рекомендовано применительно к курсу цифровое право[82].
4. Ориентация на обладающие внедренческим потенциалом практикоориентированные проекты при подготовке магистерских диссертаций. Учитывая потребности работодателей в адаптации бизнеса и иных видов профессиональной деятельности к требованиям цифровой экономики, такие проекты могли бы стать весьма востребованными. В перспективе может быть рекомендован переход к подготовке магистерских диссертаций в форме стартапов, такая практика уже складывается в Университете имени О. Е. Кутафина (МГЮА)[83].
При этом очевидно, что магистерские диссертации по цифровой проблематике должны быть комплексными, межотраслевыми. Как справедливо указано в литературе, большинство тем, связанных с правовым обеспечение цифровой экономики, «находится в разрезе междисциплинарного научного поиска и требует специальных знаний не только в правовой области, но и в иных науках, в том числе технических, наукоемких. Технологическая реальность должна быть проанализирована и систематизирована с учетом ее опосредования в правовой среде»[84].
Большую роль в освоении любой учебной дисциплины играет ее учебно-методическое обеспечение. Применительно к учебной дисциплине цифровое право оно уже сформировано.
Как представляется, система учебно-методического обеспечения цифрового права должна включать:
1. Учебники и учебные пособия. Позволим себе выразить уверенность, что учебник «Цифровое право», первое издание которого увидело свет в 2020 г.[85], внес большой вклад в дело ликвидации цифровой безграмотности и содействовал освоению обучающимися компетенций цифровой экономики.
Обратим внимание на проблему подготовки web-учебников. В первом приближении такие учебники органичны цифровой экономике и должны стать активными помощниками при изучении именно цифрового права. С другой стороны, как показало проведенное нами социологическое исследование[86], респондентам (студенты магистратуры и бакалавриата, аспиранты) импонирует обладание учебником на бумажном носителе с возможностью доступа к нему в электронном виде. Подобная единодушная позиция заставляет искать компромисс и не принимать скоротечных необдуманных решений по искоренению учебной литературы традиционного формата.
2. Монографическую литературу. Такая литература в настоящее время присутствует на книжном рынке России. В качестве рекомендуемых изданий приведем:
• Проблемы создания цифровой экосистемы: правовые и экономические аспекты / Е. Н. Абрамова, С. Н. Белова, В. А. Вайпан [и др.]. М.: Юстицинформ, 2021. 276 с.;
• Цифровая экономика: концептуальные основы правового регулирования бизнеса в России / отв. ред. В. А. Лаптев, О. А. Тарасенко. М.: Проспект, 2020. 488 с.;
• Правовое регулирование цифровой экономики в современных условиях развития высокотехнологичного бизнеса в национальном и глобальном контексте: монография / под общ. ред. В. Н. Синюкова, М. А. Егоровой. М.: Проспект, 2019. 240 с.
Как отмечает В. Н. Синюков во Введении к данному изданию, монография носит поисковый характер и может рассматриваться как попытка сформулировать концепцию государственной правовой политики в сфере цифровизации экономики. Этим работа представляет теоретическую и практическую ценность для законодателя, научных и практических работников.
От себя добавим: названные и иные монографии могут использоваться в учебном процессе и научно-исследовательской деятельности обучающихся, восполняя нехватку учебной литературы и формируя исследовательские компетенции будущих юристов.
3. Диссертационные исследования по цифровой проблематике. Сегодня, когда идет процесс становления доктрины (от лат. doctrina – «учение», «наука», «обучение», «образованность») цифрового права, ученые находятся на ее передовых рубежах. Появляются «пионерские» диссертации, ознакомление с которыми позволит совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень; воспринимать, анализировать и реализовывать инновации в профессиональной деятельности; квалифицированно проводить самостоятельные научные исследования (в том числе при подготовке магистерской диссертации). В числе примеров таких диссертаций по специальности 5.1.3. «частно-правовые (цивилистические) науки (юридические науки)» (ранее – 12.00.03. «гражданское право; предпринимательское право; семейное право; международное частное право») назовем:
• Терентьева Л. В. Судебная юрисдикция по трансграничным частноправовым спорам в киберпространстве: дис… д-ра юрид. наук. М., 2021;
• Морхат П. М. Правосубъектность искусственного интеллекта в сфере права интеллектуальной собственности: гражданско-правовые проблемы: дис. … д-ра юрид. наук. М., 2019;
• Карцхия А. А. Правовое регулирование гражданского оборота с использованием цифровых технологий: дис… д-ра юрид. наук. М., 2018.
4. Научные статьи. Следует отметить, что научные статьи – наиболее динамичный сегмент в системе учебно-методического обеспечения цифрового права. Авторы научных статей помогают читателю осмыслить правовые основы цифровой экономики в целом, проследить трансформацию отдельных сфер и видов деятельности, осмыслить модернизацию отраслей права, уяснить содержание и значение элементов цифрового права и методики его преподавания.
Важно обратить внимание на появление специализированных журналов в области цифрового права[87], а также специальных тематических выпусков отраслевых журналов, полностью посвященных проблематике цифрового права.
В заключение отметим, что учебная дисциплина цифровое право – важный элемент образовательных программ, а ее изучение и освоение – необходимый шаг на пути подготовки высококвалифицированного, отвечающего запросам работодателя и потому востребованного на рынке современного юриста.
§ 6. Цифровые правоотношения и их структура
А. В. Минбалеев
Цифровые правоотношения сегодня представляют собой огромный круг разноотраслевых правоотношений, формирующихся посредством появления новых правовых норм, регулирующих использование цифровых данных и цифровых технологий. Цифровые правоотношения можно рассматривать как урегулированные правом отношения по использованию данных в цифровом виде, а также результатов анализа данных и результатов обработки и использования таких данных в различных сферах общественной жизни с использованием цифровых технологий.
К ключевым признакам цифровых правоотношений, которые позволяют выделить и обособить их в структуре современных информационных и иных отраслевых отношений, можно отнести следующие.
1. Возникают по поводу использования данных в цифровом виде, а также результатов анализа данных и результатов обработки и использования таких данных в различных сферах общественной жизни с использованием цифровых технологий.
2. Являются комплексными, формирующимися как в рамках информационных, так и других правоотношений: гражданских, административных, трудовых, уголовно-правовых, процессуальных и иных.
3. Универсальный характер, обусловленный возможностью использования цифровых данных и технологий практически во всех сферах общественной жизни. Не случайно цифровые технологии традиционно называются сквозными.
4. Техническая и технологическая обусловленность. Объекты цифровых отношений – цифровые технологии, а также цифровой характер данных обусловливают необходимость включения в отношения по поводу информации объектов технической природы (средства вычислительной техники, информационные системы, информационно-телекоммуникационные сети, непосредственно цифровые технологии), которые и выступают идентификаторами данных отношений, обусловливают их цифровую природу и опосредованность. Однако необходимо учитывать, что такая обусловленность не предполагает исключения субъекта.
5. Использование различных приемов, способов и средств правового регулирования в сочетании с техническими, организационными, этическими нормами, а также механизмами саморегулирования и сорегулирования, иными регуляторными механизмами. Важной закономерностью развития цифровых правоотношений является неопределенность набора регуляторов. Стремительное развитие цифровых технологий, появление новых делает сложным однозначное прогнозирования того, что конкретно понадобится для регулирования цифровых отношений в будущем. Задачей цифрового права в этой связи является скорейшая разработка моделей регулирования цифровых отношений, основанных на принципах дискретности и нелинейности развития, гибкости и оперативности, возможности замены тех или иных регуляторов, в том числе и правовых, для конкретных отношений.
6. Особый правовой режим объектов цифрового права. Индивидуальная направленность регулирования и обособления каждого из объектов цифровых правоотношений в рамках собственного уникального правового режима связывается как с особым набором приемов, способов и средств регулирования соответствующих отношений, так и с техническими, организационными и иными средствами, которые используются в данном процессе. Правовой режим цифровых объектов предполагает включение в каждом конкретном случае уникальных средств не только правовой, но и технической, организационной, биологической и иной природы. Так, технологии на основе искусственного интеллекта основываются на особенностях человеческого мышления и биопсихосоциальных механизмах его функционирования. Любые вопросы регулирования использования цифровых технологий в генетических исследованиях основываются на значительном количестве этических регуляторов, действующих в сфере генетических исследований. Все цифровые технологии основаны на значительном количестве технических и организационных норм, которые в той или иной форме либо трансформируются в правовые нормы, либо закрепляются как обязательные для выполнения.
Виды цифровых правоотношений. Среди классификационных критериев разграничения информации, а значит, и цифровых данных, можно выделить следующие критерии:
• степень доступности, по уровню доступа; на основании данного критерия цифровые правоотношения можно делить на открытые (общедоступные) и ограниченного доступа (на основе цифровых данных ограниченного доступа: все виды тайн, персональные данные, инсайдерская информация, кредитные истории);
• по виду используемых цифровых технологий: цифровые отношения, возникающие в связи с использованием технологий обработки больших данных, технологий искусственного интеллекта и робототехники, блокчейн и т. п.;
• по характеру действий, совершаемых с цифровыми данными: отношения по сбору цифровых данных, использованию цифровых данных, обеспечению безопасности цифровых данных, трансграничной обработке цифровых данных и др.;
• по характеру используемых методов и средств правового воздействия: отношения частноправового характера, публично-правового характера, смешанные;
• по субъектам, осуществляющим использование цифровых технологий: цифровые отношения, возникающие при их использовании физическими лицами, юридическими лицами, публичными образованиями, международными субъектами.
Структура цифровых правоотношений обусловлена совокупностью объектов цифровых отношений, субъектов цифровых отношений и их содержания – совокупностью прав и обязанностей субъектов цифровых отношений.
Для цифровых отношений характерен специфический субъектный состав. Он обусловлен специфическим характером используемых цифровых технологий (роботы как субъекты права, цифровые личности, операторы больших данных, операторы автоматизированных и полуавтоматизированных систем искусственного интеллекта и др.), использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети Интернет (операторы связи, провайдеры, пользователи и др.). В рамках цифровых правоотношений можно выделять как традиционные субъекты права – физические лица, юридические лица, публичные образования (государство, субъекты РФ, муниципальные образования), так и специальные (роботизированные агенты, электронные лица, цифровые сотрудники, операторы больших данных и др.).
По объему прав субъектов цифровых отношений можно разделить на:
• обладателей цифровых данных, цифровых прав и цифровых технологий – это лица, создающие цифровые данные, цифровые технологии и на основании закона или договора обладающие правом их использования, а также правом разрешать или ограничивать к ним доступ;
• пользователей цифровых данных, цифровых прав и цифровых технологий – субъекты, которые на основании закона или договора приобретают право на использование цифровых данных, результатов их обработки, цифровых технологий;
• цифровых посредников – лица, которые оказывают информационные и иные услуги, работы на основании специальных договоров в отношении цифровых данных, прав и технологий (операторы связи, операторы цифровых технологий, провайдеры), обеспечивая права и законные интересы обладателей и пользователей.
Обладатель цифровых данных, если иное не предусмотрено федеральными законами, вправе разрешать или ограничивать доступ к ним, определять порядок и условия такого доступа; использовать цифровые данные, в том числе распространять их по своему усмотрению; передавать цифровые данные другим лицам по договору или на ином установленном законом основании; защищать установленными законом способами свои права в случае незаконного получения цифровых данных или их незаконного использования иными лицами; осуществлять иные действия с цифровыми данными или разрешать осуществление таких действий.
Права пользователей и посредников вытекают из соответствующих норм, регулирующих цифровые отношения и договоров, которые они заключают с обладателями цифровых данных, прав и технологий и третьими лицами (например, при обеспечении конфиденциальности цифровых данных могут заключаться договоры по их защите со специализированными организациями в сфере информационной безопасности).
Обладатель цифровых данных при осуществлении своих прав обязан: соблюдать права и законные интересы иных лиц; принимать меры по защите цифровых данных; ограничивать доступ к цифровым данным, если такая обязанность установлена федеральными законами. Аналогичные обязанности, а также дополнительные обязанности, предусмотренные законодательством и договорами, возложены на пользователей и цифровых посредников.
Особый режим сегодня установлен в отношении цифровых прав применительно к имущественным отношениям. Согласно ст. 141.1 ГК РФ «Цифровые права» под ними «признаются названные в таком качестве в законе обязательственные и иные права, содержание и условия осуществления которых определяются в соответствии с правилами информационной системы, отвечающей установленным законом признакам. Осуществление, распоряжение, в том числе передача, залог, обременение цифрового права другими способами или ограничение распоряжения цифровым правом возможны только в информационной системе без обращения к третьему лицу. Если иное не предусмотрено законом, обладателем цифрового права признается лицо, которое в соответствии с правилами информационной системы имеет возможность распоряжаться этим правом. В случаях и по основаниям, которые предусмотрены законом, обладателем цифрового права признается иное лицо. Переход цифрового права на основании сделки не требует согласия лица, обязанного по такому цифровому праву»[88].
Объекты цифровых правоотношений. Под объектом правоотношения традиционно понимаются блага, на использование или охрану которых направлены субъективные права и юридические обязанности субъектов правоотношений. Объектами цифровых правоотношений являются: информация в формате цифровых данных; информационные объекты, связанные с цифровыми данными (информационные системы, документированная информация, информационно-телекоммуникационные сети и др.); а также цифровые технологии. Рассмотрим их.
Информация в системе объектов правоотношений не может быть отнесена ни к материальным благам, ни к нематериальным личным благам, ни к действиям. Поэтому, ввиду отсутствия четкого определения информации как научной категории, в правовой сфере нет единого мнения относительно понятия, природы и видов информации как объекта информационных правоотношений. Это обусловливает сложность восприятия и цифровой информации, цифровых данных. Согласно Федеральному закону «Об информации, информационных технологиях и защите информации» под информацией понимаются «сведения (данные, сообщения) независимо от формы их представления»[89]. К сожалению, в законе не разъясняется, что следует понимать под сведениями, данными и сообщениями. Между тем категории «данные» и «сообщения» рассматриваются в качестве разновидности сведений. Понятие «данные» употребляется в двух значениях. В широком смысле слова данные – это сведения, необходимые для определенного вывода, решения; сведения, представленные в определенной форме, удобной для их использования. В узком смысле слова данные – это информация, представленная в пригодном для обработки автоматическими средствами виде при возможном участии человека. Применительно к толкованию термина «сообщения» следует, на наш взгляд, обращаться к законодательной категории «электронные сообщения», т. е. переданные или полученные сведения по информационно-телекоммуникационным сетям. Отсюда сообщения – это переданные или полученные сведения. Сегодня российское законодательство в какой-то части также использует прием фикции при легальном определении информации, поскольку информация как сведения может быть данными или сообщениями, независимо от формы их представления. Таким образом, сегодня нормы об информации необходимо применять к любым сведениям, сообщениям, данным, независимо от формы, на которых они зафиксированы.
Цифровой формат информации предполагает ее существование в виде данных и предполагает особый способ их сохранения в цифровом (двоичном) виде.
В качестве объектов цифровых правоотношений выступает достаточно большой объем информационных объектов, связанных с цифровыми данными: информационные технологии (процессы, методы поиска, сбора, хранения, обработки, предоставления, распространения информации и способы осуществления таких процессов и методов); информационные системы (совокупность содержащейся в базах данных информации и обеспечивающих ее обработку информационных технологий и технических средств); информационно-телекоммуникационная сеть (технологическая система, предназначенная для передачи по линиям связи информации, доступ к которой осуществляется с использованием средств вычислительной техники)[90].
Цифровые отношения связываются с использованием самых различных «сквозных» высокотехнологичных цифровых технологий, выступающих как их объект. К ним уже традиционно относят технологии обработки больших данных, нейротехнологии, технологии на основе искусственного интеллекта и робототехнику, системы распределенного реестра (блокчейн), квантовые технологии, новые производственные технологии, индустриальный (промышленный) Интернет и Интернет вещей, сенсорику, технологии виртуальной и дополненной реальности и другие. В рамках каждой цифровой технологии выделяются субтехнологии, которые стремительно развиваются.
Технологии обработки больших объемов данных. Большие данные – это совокупность структурированной и неструктурированной информации, поступающей из большого количества различных, в том числе разрозненных или слабосвязанных, источников информации в объемах, которые невозможно обработать вручную за разумное время[91]. Технологии обработки больших объемов данных представляют собой совокупность подходов, инструментов и методов их автоматической обработки.
Особенностью этих технологий является не огромный объем этих данных, а то, что большая их часть не связана с традиционным форматом структурированных данных, обрабатываемых в базах данных. Большие данные – это и видеозаписи, текстовые документы, веб-журналы, машинные коды, и совокупность других постоянно обновляющихся данных, которые хранятся в различных хранилищах и обусловлены постоянным их анализом и формулированием выводов за минимальный промежуток времени.
Технологии на основе искусственного интеллекта и робототехника. Искусственный интеллект представляет собой совокупность технологий, в том числе информационных, цифровых, позволяющих решать когнитивные проблемы, связанные преимущественно с человеческим интеллектом. Искусственный интеллект часто рассматривается как свойство интеллектуальных систем выполнять творческие функции, которые характерны только для человека; это ряд алгоритмов и программных систем, отличительным свойством которых является возможность решать некоторые задачи по аналогии с тем, как это делал бы человек, размышляющий над их решением. Традиционно использование технологий искусственного интеллекта связано с такими категориями, как робот, роботизированный агент (робот-агент), роботизированная система, киберфизическая система с искусственным интеллектом и др. Робот чаще всего рассматривается как программируемое человеком механическое устройство, способное выполнять различные задачи и осуществлять взаимодействие с внешней средой без помощи со стороны человека.
В рамках технологий искусственного интеллекта особо выделяются нейротехнологии. Это совокупность технологий, созданных на основе принципов функционирования нервной системы. Они основаны как на использовании биологических нейронных сетей человека, так и на математических моделях, построенных по принципу биологических нейронных сетей, способных решать ряд сложных задач и способных к самообучению. Нейротехнологии активно используются в образовании, в среде развлечений и спорта, в нейрофармакологии и медтехнике, в сфере коммуникаций и маркетинга.
Системы распределенного реестра (блокчейн). Существует несколько подходов к обозначению правовой природы блокчейна. Так, многие просто указывают на него как на технологию, на базе которой появляется множество криптовалют[92]; распределенную технологию, то есть технологию единого пространства, в котором нет посредника[93]. А. И. Савельев указывает, что это технология, которая «представляет собой децентрализованный реестр данных о совершенных транзакциях, в основе которого лежат криптографические алгоритмы, защищающие его от фальсификаций»[94]. Блокчейн не просто совокупность информационных материалов, сведений, это не база данных, а значительно более сложный объект, уникальная система, предоставляющая возможность безопасно хранить и обрабатывать информацию на принципиально иных основах. Блокчейн позволяет хранить и обрабатывать информацию из самых разных сфер, что позволяет на базе тех или иных сайтов использовать различные электронные сервисы как для осуществления предпринимательской деятельности, так и в социальной сфере, государственном и муниципальном управлении и в других направлениях. Возможности использования блокчейна практически безграничны, поскольку позволяют безопасно обрабатывать любые сведения, информационные ресурсы, которые требуют идентификационной привязки к конкретному субъекту и которые не могут быть изменены или удалены без согласия их обладателя. При этом любой пользователь может направить в данную систему информацию, но работать с ней будет только обладатель системы. Свойствами данной системы, отличающими ее от других, является также ее распределенность, публичность и достоверность, обеспечиваемая математически выверенными технологиями. Сегодня система блокчейн обеспечивает возможность электронного голосования, систему хранения и защиты объектов интеллектуальной собственности, архивов и ряд других возможностей[95].
Блокчейн необходимо рассматривать в первую очередь как разновидность технологий, на основе которых происходит сбор, обработка, хранение и передача цифровых данных. В большинстве случаев блокчейн можно рассматривать и как информационную систему, представляющую собой реестр цифровых данных, а также информационные технологии обработки, в том числе формирования, хранения точных, конкретных данных, подтверждающих совокупность имущественных и иных прав и обязанностей их обладателей и позволяющих осуществлять электронные расчеты и иные юридически значимые действия.
Квантовые технологии. Квантовая технология – область физики, в которой используются специфические особенности квантовой механики; цель этих технологий состоит в том, чтобы создать системы и устройства, основанные на квантовых принципах, а к возможным практическим реализациям относят квантовые вычисления и квантовый компьютер, квантовую криптографию, квантовую телепортацию, квантовую метрологию, квантовые сенсоры и квантовые изображения[96].
Наиболее перспективными с точки зрения правового регулирования в ближайшие годы среди квантовых технологий являются квантовые коммуникации, под которыми понимается технология криптографической защиты информации, использующая для передачи ключей индивидуальные квантовые частицы. По категории передачи информации квантовые коммуникации можно разделить на квантовый Интернет – технология передачи информации в квантовых битах и квантовое распределение ключей – технология шифрования сообщений квантовыми объектами. По способу передачи информации квантовую связь можно разделить на квантовую коммуникацию по физическому каналу связи; квантовую коммуникацию по воздушному каналу связи. Важно на законодательном уровне обеспечить государственную поддержку и внедрение квантовых коммуникаций для обеспечения защищенного цифрового документооборота.
Новые производственные технологии. Они представляют собой совокупность процессов проектирования и изготовления на современном технологическом уровне кастомизированных (индивидуализированных) материальных объектов (товаров) различной сложности, стоимость которых сопоставима со стоимостью товаров массового производства. Они включают в себя новые материалы; цифровое проектирование и моделирование, включая бионический дизайн; суперкомпьютерный инжиниринг; аддитивные и гибридные технологии[97].
Индустриальный (промышленный) Интернет и Интернет вещей. Индустриальный Интернет, согласно Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации на 2017–2030 гг., – это «концепция построения информационных и коммуникационных инфраструктур на основе подключения к информационно-телекоммуникационной сети „Интернет“ промышленных устройств, оборудования, датчиков, сенсоров, систем управления технологическими процессами, а также интеграции данных программно-аппаратных средств между собой без участия человека»[98]. Во многом индустриальный Интернет основывается на концепции Интернета вещей, то есть концепции «вычислительной сети, соединяющей вещи (физические предметы), оснащенные встроенными информационными технологиями для взаимодействия друг с другом или с внешней средой без участия человека»[99].
Сенсорика. Это совокупность информационных технологий, построенных по аналогии с функциями органов чувств человека. Преимущественное распространение имеет система чувствительных датчиков роботов в роли рецепторов, благодаря которым автоматические устройства собирают информацию из окружающего мира и своих внутренних органов. Сенсорика используется и в автоматизированных системах управления, в которых датчики как инициирующие устройства приводят в действие оборудование, арматуру и программное обеспечение. Технологии виртуальной и дополненной реальности. Виртуальная реальность представляет собой совокупность технологий, способных сформировать в цифровой среде уникальный фиктивный круг отношений (совокупность виртуальных объектов и субъектов, связей между ними), воспринимаемый человеком посредством его ощущений. Системами виртуальной реальности являются специализированные технические устройства, которые, комплексно задействуя все органы чувств человека, имитируют взаимодействие с виртуальной средой. Дополненная реальность представляет собой совокупность технологий, направленных на введение в поле восприятия человеком различных сенсорных данных с целью дополнения сведений об окружающем мире и улучшения восприятия информации из него. Примерами дополненной реальности могут быть «нарисованные» траектории полетов шайбы во время хоккейного матча, смешение реальных и вымышленных объектов в кинофильмах и компьютерных играх и т. п. Виртуальная и дополненная реальность активно используется в системах обучения, кинематографии, компьютерных и иных играх, в медицине, в военной и других сферах[100].
§ 7. Международные и зарубежные подходы к цифровому праву и правовым режимам цифровой трансформации
Б. А. Шахназаров
Повсеместно распространенные процессы цифровизации общественных отношений и формирования цифровой экономики являются неотъемлемой составляющей развития современного общества. Безусловно, особую актуальность приобретает анализ возможностей и целесообразности модернизации или адаптации правового регулирования общественных отношений, реализуемых в цифровом пространстве с использованием информационных технологий в совершенно различных областях общественных отношений, развитие доктрины цифрового права. Подходы к обозначенным вопросам в разных государствах могут не совпадать, что влияет и на реализацию международных отношений. Учитывая высокий экстерриториальный потенциал современных информационных технологий, целесообразно вырабатывать схожие гармонизированные подходы правового регулирования общественных отношений в условиях развития цифровых технологий. Это возможно лишь при уяснении истинного содержания подходов к цифровому праву в разных государствах.
Международные организации и различные государства активно разрабатывают стратегии по адаптации нормативных актов в сфере использовании современных цифровых технологий. Однако основные проблемы заключаются в том, что, с одной стороны, предлагаемые стратегии носят отраслевой характер и затрагивают только определенные аспекты цифровизации, а с другой стороны – соответствующие решения часто направлены на реализацию политической повестки дня за счет дальнейшего последовательного развития перспективной глобальной правовой стратегии[101]. В обозначенном контексте выделяются два основных подхода к развитию права в условиях цифровизации[102]. Первый – утилитарный подход, ориентированный на решение строго определенных функциональных задач (развитие финансовых систем, утверждение технических регламентов и т. п.), обслуживающих интересы и государств, и конкретных международных организаций. Второй – методологический подход, который позволяет реализовать глобальные и комплексные решения.
Утилитарный подход, что логично, характеризуется отраслевым международным сотрудничеством, ориентированным на конкретные вопросы. Под руководством государств-членов и при строгом соблюдении своих мандатов международные организации разрабатывают правовые механизмы для минимизации рисков, связанных с использованием конкретных цифровых активов. Например, в обновленном в октябре 2021 г. Руководстве по основанному на оценке риска подходу к виртуальным активам и поставщикам услуг виртуальных активов (VASP) 2019 г. Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (далее – ФАТФ) – межправительственная организация, которая занимается выработкой мировых стандартов в сфере противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, призывает государства ввести правовое регулирование криптоактивов, чтобы предотвратить отмывание доходов, полученных преступным путем[103]. Это обновленное руководство является частью постоянного мониторинга The Financial Action Task Forse (далее – FATF) виртуальных активов и сектора VASP, и стандарты FATF требуют от стран оценивать и снижать риски, связанные с финансовой деятельностью и поставщиками виртуальных активов; лицензировать или регистрировать поставщиков и подвергать их надзору или мониторингу со стороны компетентных национальных органов. Руководство помогает странам и провайдерам услуг VASP реализовывать свои обязательства по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, а также эффективно реализовать требования ФАТФ применительно к этому сектору, гармонизируя соответствующие подходы в цифровой среде.
Конкретные рекомендации по разработке правового регулирования новых цифровых платежных услуг были даны Европейским союзом, который принял Стандарт открытого банкинга и пересмотренную Директиву 2015/2366/ЕС о платежных услугах (PSD2), обязывающие банки предоставлять финансовым и техническим компаниям доступ к информации о клиентах. Говоря о технических регламентах, необходимо упомянуть Международную организацию по стандартизации (ISO). В частности, ISO играет важную роль в определении международных стандартов использования искусственного интеллекта. Есть также примеры глобального регулирования: например, Организация Экономического Сотрудничества и Развития (далее – ОЭСР) предоставляет универсальное Руководство о том, как применять и трансформировать законодательство в отношении первичного размещения токенов Initial Coin Offerings (ICOs)[104], и устанавливает общие принципы и рекомендации по регулированию отношений с использованием искусственного интеллекта[105].
Второй, методологический, подход предполагает создание глобальной и комплексной модели правового регулирования[106]. С методической точки зрения необходимо понимать правовые и иные основы цифровизации. Глобальный подход позволяет рассмотреть основы цифровизации путем интеграции этических, социальных, технологических и политических аспектов цифровизации. Хотя утилитарный подход заключается в разработке многочисленных отраслевых нормативных актов и стратегий, сохраняется необходимость понимания статуса цифровых технологий и их влияния на человечество. Методологический подход касается ценностей и ответственности, что подразумевает баланс между быстрым технологическим развитием и выбором модели общественного регулирования. Таким образом, нормативный правовой акт должен иметь преимущественную силу, а цифровая основа реализации общественных отношений должна быть при этом правомерной, не противоречащей нормативным правовым актам. Существует необходимость создания последовательных, глобальных и всеобъемлющих правовых гарантий реализации отношений в условиях цифровизации. Здесь возможно использование традиционных юридических конструкций либо создание нового правопорядка. Преобладание нормативных основ в обеспечении цифрового миропорядка при этом не должно ставиться под сомнение. Необходима выработка стратегии трансформации цифрового права, создание правовых моделей, позволяющих предотвратить риски цифровизации.
Анализируя универсальные международные инициативы в сфере цифрового права, отдельно стоит отметить инициативу Глобального цифрового договора ООН, обсуждаемого в рамках саммита будущего ООН в 2024 г. в контексте технологического направления сотрудничества под эгидой ООН с участием всех заинтересованных сторон: правительств, структур Организации Объединенных Наций, частных субъектов, (включая технологические компании), представителей гражданского общества, научных кругов и отдельных субъектов, включая молодежь.
Основная идея Глобального цифрового договора – закрепить общие принципы открытого, свободного и безопасного цифрового будущего для всех. Глобальный цифровой договор охватывает целый ряд релевантных цифровой повестке вопросов, включая доступ к цифровому пространству, недопущение фрагментации Интернета, предоставление людям различных возможностей использования их данных, защита прав человека в сети Интернет и продвижение идей надежного Интернета путем введения критериев ответственности за дискриминацию и распространение контента, вводящего в заблуждение, и др.
Выделяя зарубежные подходы к цифровому праву, стоит отметить понимание правового обеспечения цифровой трансформации, воспринятое в Европейском союзе как региональной организации, одной из первых на наднациональном уровне реагирующей на современные цифровые вызовы. Так, в Европейском Союзе (далее – ЕС) в 2024 г. был принят Регламент Европейского Парламента и Совета «Разработка гармонизированных правил в области искусственного интеллекта (Акт об искусственном интеллекте) и внесение изменений в некоторые нормативные акты Союза»[107]. Это, по сути, первый всеобъемлющий нормативный правовой акт по искусственному интеллекту, принятый крупным регулирующим органом в мире. Регламент относит решения, системы, основанные на искусственном интеллекте к трем категориям риска. Во-первых, запрещены приложения и системы, создающие неприемлемый риск, такие как государственный социальный скоринг, который используется в Китае. Во-вторых, приложения с высоким уровнем риска, такие как инструмент сканирования резюме, который оценивает кандидатов на работу. Такого рода приложения подчиняются особым законодательным требованиям. Наконец, приложения, которые явно не запрещены и не включены в список высокорискованных, которые по большей части остаются нерегулируемыми.
Как и Общий регламент ЕС по защите данных (General Data Protection Regulation, GDPR), принятый в 2018 г., представляющий собой относительно новый акт ЕС по защите персональных данных в сети Интернет, направленный на повышение уровня информационной безопасности граждан государств-членов ЕС и обязывающий компании среди прочего получать согласие пользователей на использование cookie-файлов и знакомить их с политикой конфиденциальности, Регламент ЕС об искусственном интеллекте может стать глобальным стандартом, определяющим, в какой степени искусственный интеллект оказывает положительное, а не отрицательное влияние на общественные отношения, что уже вызывает резонанс на международном уровне.
Подход ЕС к цифровой трансформации в целом основан на защите фундаментальных прав, устойчивости, этике и справедливости[108]. Благодаря этому человекоцентричному видению цифровой экономики и общества ЕС стремится расширить возможности граждан и бизнеса. Правовая позиция ЕС заключается в том, что Интернет должен оставаться открытым, справедливым, инклюзивным и ориентированным на людей. Цифровые технологии должны работать на благо граждан и помочь им участвовать в жизни общества. Организации должны иметь возможность конкурировать между собой на равных условиях, а потребители должны быть уверены, что их права соблюдаются.
Европейская комиссия за 2023–2024 гг. опубликовала ряд стратегий и планов действий, в которых изложено видение ЕС цифрового будущего и установлены конкретные цели для его достижения[109]. Комиссия также предложила несколько уже действующих в ЕС нормативных правовых актов, направленных на регулирование различных отношений в цифровом пространстве, в том числе Акт об искусственном интеллекте (одобрен Европейским парламентом в марте 2024 г.), Акт о цифровых услугах (DSA, вступил в силу в полном объеме в феврале 2024 г.) и Акт о цифровых рынках (DMA, вступил в силу в марте 2024 г.). Кроме того, среди прочих можно отметить Директиву (ЕС) 2022/2555 Европейского парламента и совета от 14.12.2022 о мерах по обеспечению высокого уровня кибербезопасности на территории Союза, вносящую поправки в Регламент (ЕС) № 910/2014 и Директиву (ЕС) 2018/1972 и отменяющую Директиву (ЕС) 2016/1148 (Директива NIS 2). Все эти правила призваны обеспечить безопасность цифровой среды, справедливые и открытые цифровые рынки, повысить конкурентоспособность Европы, повысить прозрачность алгоритмов и предоставить гражданам более эффективные инструменты контроля за использованием и распространением персональных данных. Ожидается, что обозначенные правила окажут влияние на упорядочивание общественных отношений не только в ЕС, но и за его пределами. Обозначенное демонстрирует экстерриториальный потенциал цифрового права и правового обеспечения цифрового пространства ввиду первоначально экстерриториальной природы последнего.
Например, некоторые нормативные правовые акты ЕС нацелены на предприятия, которые предлагают услуги гражданам или предприятиям ЕС независимо от того, где они находятся. Кроме того, благодаря феномену, известному как «брюссельский эффект»[110], эти правила могут влиять на практику технологического бизнеса и национальное законодательство во всем мире.
ЕС является активным участником развития глобального цифрового сотрудничества. Различные международные организации разрабатывают, например, инструменты, позволяющие гражданам и бизнесу по всему миру пользоваться преимуществами искусственного интеллекта и ограничить его негативные последствия. В этих глобальных переговорах усилия ЕС позиционируются как направленные на соблюдение различных фундаментальных прав и свобод, а также совместимость с нормативными правовыми актами ЕС.
Если говорить о подходе Евразийского экономического союза (далее – ЕАЭС) к правовым основам цифровой трансформации, то стоит отметить Решение Высшего Евразийского экономического совета от 11.10.2017 № 12 «Об Основных направлениях реализации цифровой повестки Евразийского экономического союза до 2025 года», согласно которому Высший Евразийский экономический совет утвердил Основные направления реализации цифровой повестки Евразийского экономического союза до 2025 года. Цели реализации цифровой повестки заключаются в актуализации сложившихся механизмов интеграционного сотрудничества в рамках Союза с учетом глобальных вызовов цифровой трансформации в обеспечении качественного и устойчивого экономического роста государств-членов, в том числе для ускоренного перехода экономик на новый технологический уклад, формирования новых индустрий и рынков, развития трудовых ресурсов. Реализация цифровой повестки по замыслу государств – членов ЕАЭС позволит синхронизировать цифровые трансформации и сформировать условия для развития отраслей будущего в государствах-членах. В документе отмечается, что информационное обеспечение интеграционных процессов во всех сферах, затрагивающих функционирование Союза, определено ст. 23 Договора и Протоколом об информационно-коммуникационных технологиях и информационном взаимодействии в рамках Евразийского экономического союза (приложение № 3 к Договору). В соответствии с Договором государства-члены проводят согласованную политику в области информатизации и информационных технологий. При этом реализация цифровой повестки не ограничивается применением информационно-коммуникационных технологий, а предполагает использование новых бизнес-процессов, цифровых моделей и создание цифровых активов.
Кроме того, в конце 2018 г. Совет Евразийской Экономической Комиссии рекомендовал государствам-членам, помимо Основных направлений реализации цифровой повестки ЕАЭС до 2025 г., учитывать при осуществлении «цифрового перехода» Концепцию создания условий для цифровой трансформации промышленного сотрудничества в рамках Евразийского экономического союза и цифровой трансформации промышленности государств – членов Союза[111].
В науке также отмечается, что модель цифровой интеграции, основные направления Цифровой повестки ЕАЭС, в том числе обозначенная концепция, разрабатывались в основном российскими специалистами с использованием опыта различных интеграционных и межгосударственных объединений, в том числе Европейского союза, Ассоциации государств юго-восточной Азии, а также стран, входящих в Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива, а основная позиция при этом заключалась в том, что, поскольку «суверенная» цифровая трансформация каждого государства – члена Союза объективна и неизбежна, то обеспечение функциональной совместимости (интероперабельности) национальных цифровых повесток в рамках общей интеграционной Цифровой повестки может дать синергетический эффект и позволит добиться существенного ускорения темпов цифрового перехода и роста объемов экономик[112]. К важнейшим аспектам Цифровой повестки ЕАЭС в обозначенном контексте относятся: создание электронных систем учета (прослеживаемости) движения продукции, товаров, услуг и цифровых активов в ЕАЭС; расширение электронной торговли между государствами – членами Союза; организация цифровых транспортных коридоров ЕАЭС; развитие цифровой промышленной кооперации между государствами – членами Союза; цифровая трансформация системы технического регулирования ЕАЭС; создание системы «регулятивных песочниц» ЕАЭС – экспериментальных режимов для разработки и использования оптимальных правовых решений в новых сферах. Каждое из обозначенных направлений цифровой интеграции находится на разном уровне реализации, что объясняется тем обстоятельством, что при цифровой трансформации интеграционных процессов ЕАЭС за основу был взят проект ускоренной цифровой интеграции. При этом осуществление ускоренной цифровой интеграции было затруднено рядом обстоятельств, включая пандемию Covid-19, разный уровень технологической обеспеченности государств – членов ЕАЭС.
В науке также высказывается мнение о критической важности для результативности цифрового перехода ЕАЭС работы по совершенствованию аналоговых основ цифровой трансформации[113]. Здесь речь идет о достижении подлинного политического консенсуса, обеспечении вовлеченности руководства государств в процессы управления преобразованиями, выработке эффективных механизмов управления проектом цифровой интеграции. С обозначенной позицией стоит согласиться уже потому, что темпы цифровой интеграции в рамках ЕАЭС являются невысокими при довольно большом потенциале евразийской интеграции и евразийского цифрового пространства в рамках ЕАЭС.
Опыт США представляет интерес с точки зрения развития правовых основ цифровой трансформации в пандемийный период. Так, во время пандемии Covid-19 в США наблюдалось ускорение цифровой трансформации. Компаниям приходилось полагаться на облачные технологии и возможность подключения для удаленной работы, а новые технологии, такие как технологии расширенной реальности (XR), управление идентификацией и блокчейн, обеспечивали значительную эффективность бизнес-сообществу[114]. Однако государственные цифровые услуги сильно отставали от частного сектора: от выполнения обязательств по развертыванию вакцин до управления цепочками поставок и распределения финансовой помощи малому бизнесу и испытывающим трудности домохозяйствам – провалы правительства во время пандемии продемонстрировали, как устаревшие государственные информационные технологии влияют как на способность государственного сектора реагировать на кризис, так и на возможности населения получать жизненно важную помощь. Реализуемые стратегии цифровой трансформации после пандемии направлены на реагирование на меняющиеся проблемы, оптимизацию ресурсов, повышение производительности и эффективности, использование преимуществ технологических возможностей и создание услуг с более высокой добавленной стоимостью для участников с упором на больший доступ, доверие и качество.
При этом стоит отметить, что Комплексная стратегия цифрового правительства, направленная на предоставление более качественных цифровых услуг американскому народу, была запущена еще 23.05.2012. Стратегия основана на нескольких инициативах и актах, принятых в 2011 г., включая Указ Президента США № 13571 «Оптимизация предоставления услуг и улучшение обслуживания клиентов» и Указ Президента США № 13576 «Эффективное, результативное и подотчетное правительство». Правительственным учреждениям США предлагается «построить цифровое правительство XXI-го века, которое будет предоставлять более качественные цифровые услуги американскому народу». Один из компонентов цифровой стратегии – открытые данные – получил дальнейшее развитие в Меморандуме М-13-13 «Политика открытых данных – управление информацией как активом». Политика открытых данных преследует цели повышения операционной эффективности при сокращении затрат, улучшения услуг и поддержки потребностей миссий, защиты личной информации и расширения доступа общественности к ценной правительственной информации. Еще одним компонентом цифровой стратегии является достижение эффективности, прозрачности и инноваций посредством многоразового программного обеспечения с открытым исходным кодом, как описано в Меморандуме M-16-21 «Федеральная политика в отношении исходного кода» (FSCP)[115].
Отдельно стоит отметить усилия США по защите прав в сети Интернет. США в определенном смысле продвинулись в процессе защиты прав в сети Интернет прежде всего с принятием Закона США об авторском праве в цифровую эпоху (1998) (Digital MillenniumCopyright Act), а также серии нормативных актов в сфере закрепления цифровых прав. Анализ основных правовых норм указывает на то, что на пользователей, покупающих товары в сети Интернет, распространяются общие требования о защите прав потребителей, что и на обычных покупателей в магазине[116].
Товары, приобретенные через Интернет, можно вернуть, обменять, потребовать за них деньги обратно из-за низкого качества, несоответствия описанию и т. д. Более того, для защиты персональных данных пользователей используются зашифрованные каналы для передачи платежных данных, а также пользователи могут пройти двухфакторную авторизацию для подтверждения платежных поручений и т. д. Предусмотрены и правовые механизмы для защиты персональных данных. Если на интернет-ресурсе осуществляется сбор и хранение данных, то его владелец обязан уведомить нового пользователя об этом, предоставить в любое время возможность как запросить хранящиеся данные и совершаемые с ними действия, так и удалить их по требованию пользователя. Законом об электронном правительстве предусматривается возможность получения государственных услуг в электронном виде. Для этого гражданину США достаточно иметь идентификатор и доступ в Интернет[117].
При этом именно защиту цифровых прав в США можно назвать наиболее жесткой, если сравнивать опыт США с опытом европейских государств, так как США имеет больше возможностей для блокировки интернет-ресурсов. Так, например, указами Президента США (Д. Трампа) на территории США было заблокировано несколько приложений китайских компаний лишь на том формальном основании, что китайские организации собирают и хранят данные об американских пользователях[118]. Блокировка указанных приложений подразумевает их удаление из магазина приложений, а также запрет на рассылку обновлений пользователям, у которых такие приложения уже установлены на мобильном устройстве.
Значимым для целей анализа зарубежных подходов к цифровому праву представляется и опыт КНР как государства, активно развивающего и осваивающего цифровые технологии и цифровое пространство, а также предлагающего миру новейшие цифровые решения при самобытном правовом регулировании отношений, реализуемых в цифровом пространстве, осуществляемых с использованием цифровых технологий.
С тех пор как Китай был полностью подключен к Интернету в 1994 г., он взял на себя обязательство управлять киберпространством на основе нормативного регулирования, гарантируя, что Интернет будет развиваться в установленных законодательством рамках. В новую эпоху, руководствуясь идеями Си Цзиньпина о социализме с китайской спецификой новой эпохи, Китай сделал основанное на требованиях законодательства управление киберпространством важной частью общей стратегии верховенства прав и стремления к наращиванию своей активной роли в киберпространстве[119].
Китай усилил управление киберпространством, разработав комплексную систему законов и правил, высокоэффективную систему правоприменения, строгую систему надзора и удобную для пользователей систему поддержки. Во взаимодействии правительства, бизнеса, общественных организаций и пользователей сети Интернет цифровое законодательство, правоохранительная и судебная деятельность стали развиваться в Китае наряду с программами по распространению юридических знаний через Интернет, пропагандой соблюдения нормативных требований, распространяющихся на цифровое пространство, и повышением осведомленности общественности о соответствующем законодательстве. Был воспринят новаторский подход к управлению киберпространством, соответствующий передовому международному опыту. Обладая более сильным внутренним потенциалом в области правового регулирования общественных отношений в сети Интернет, Китай внес идеи и реализовал решения, распространяющиеся и на глобальное управление в сети Интернет.
Законодательство в сфере цифрового права в Китае прошло долгий и постепенный процесс становления и развития, который можно условно разделить на три этапа. Первый этап длился с 1994 по 1999 г., когда Китай подключился к Интернету. Число интернет-пользователей и устройств неуклонно росло. Законодательство на этом этапе было сосредоточено на безопасности сетевой инфраструктуры, в частности безопасности компьютерных систем и сетевой безопасности. Второй этап длился с 2000 по 2011 г., когда персональные компьютеры (ПК) служили основным терминалом для подключения к Интернету. Законодательство на этом этапе сместилось в сторону интернет-услуг и управления контентом. На третьем этапе, начавшемся в 2012 г., доминирует мобильный Интернет. В настоящее время законодательство постепенно сосредотачивается на комплексном управлении киберпространством, охватывая такие области, как сетевые информационные услуги, развитие информационных технологий и кибербезопасность.
За прошедшие годы Китай принял более 140 законов, регулирующих различные общественные отношения в цифровом пространстве, сформировав фундамент «киберзаконодательства» на основе Конституции, подкрепленный законами, административными постановлениями, ведомственными правилами, местными постановлениями и местными административными правилами, одобренными традиционным законодательством и подкрепленными специализированными цифровыми НПА, регулирующими онлайн-контент и управление им, кибербезопасность, информационные технологии и другие элементы цифрового пространства[120]. Эта система законов об управлении киберпространством обеспечивает надежную институциональную гарантию активной деятельности Китая в цифровом пространстве.
В сфере цифрового права в КНР, таким образом, действует большое количество различных законов, подзаконных актов, прецедентов. В стране функционирует развитая система законодательных нормативных правовых актов, среди которых можно выделить Закон КНР об электронной торговле, Закон об электронной подписи, Закон о кибербезопасности, Закон о безопасности КНР и Закон о защите личной информации, Закон о безопасности данных, представляющие собой законодательную основу цифрового права КНР, при этом особое значение в регулировании общественных отношений, реализуемых в цифровой форме, принадлежит и Конституции КНР, в законодательстве в контексте цифрового права подчеркивается ключевое значение национальной безопасности[121]. Так, в абз. 2 ст. 12 Закона КНР о кибербезопасности закреплено, что «любое лицо и организация, использующие сети КНР, обязаны соблюдать Конституцию и законы, соблюдать общественный порядок и уважать общественную мораль; они не должны ставить под угрозу кибербезопасность и не должны использовать Интернет для участия в деятельности, угрожающей национальной безопасности, национальной чести и национальным интересам; они не должны подстрекать к подрыву национального суверенитета, <…> распространять ложную информацию с целью подрыва экономического или общественного порядка или информацию, которая нарушает репутацию, неприкосновенность частной жизни, интеллектуальную собственность или другие законные права и интересы других лиц, и другие подобные действия»[122].
Еще в 1997 г. Китай принял Меры по обеспечению безопасности международных компьютерных информационных сетей, чтобы обеспечить правовую защиту свободы и конфиденциальности переписки, закрепленных в Конституции КНР. В 2000 г. было принято Положение о телекоммуникациях, предусматривающее, что свобода граждан пользоваться услугами связи и конфиденциальность их переписки охраняются законом. В 2016 г. было пересмотрено Положение об администрировании радиосвязи, еще больше усилена защита конфиденциальности передачи данных через радиосвязь. Китай выстроил юридическую систему защиты прав и интересов субъектов персональных данных. В 2020 г. на III сессии Всекитайского собрания народных представителей 13-го созыва был принят первый Гражданский кодекс (вступил в силу в 2021 г.), который содержит системные положения о защите персональных данных в гражданских делах на основе предыдущих правовых положений. В 2009 и 2015 гг. Поправка VII и Поправка IX к Уголовному кодексу ввели положения о преступлении, заключающемся в посягательстве на персональные данные граждан, тем самым усилив защиту таких данных в уголовном законе. Постоянный комитет Всекитайского собрания народных представителей еще в 2012 г. принял Решение об усилении защиты информации в Интернете, четко заявив о необходимости защиты электронной информации, которая может раскрыть личность и конфиденциальность гражданина. Закон о кибербезопасности, принятый в 2016 г., еще больше усовершенствовал правила защиты личной информации. А Закон о защите персональных данных, обнародованный в 2021 г., представляет собой общее усиление мер по защите персональных данных. Он определил и уточнил принципы защиты персональных данных и правила их обработки, наделил субъектов персональных данных рядом прав, установил обязанности операторов персональных данных и др. В 2018 г. был обнародован Закон об электронной коммерции, согласно которому продукты или услуги поставщиков электронной коммерции не должны подрывать личную безопасность или безопасность собственности. Гражданский кодекс КНР при этом содержит четкие положения о юридической ответственности тех, кто посягает на имущественные права и интересы других лиц посредством Интернета. В 2022 г. в Китае был принял Закон о борьбе с телекоммуникационным и онлайн-мошенничеством, обеспечивающий серьезные правовые меры борьбы с преступностью и защищающий права и интересы частной собственности.
Обращают на себя отдельное внимание и инфраструктурные цифровые решения, реализованные в КНР. Будучи огромным по территории и численности населения государством, Китай имеет очень сложную систему организации судопроизводства. По всей стране суды, руководствуясь рядом национальных стратегий и политик, активно осваивают режим умного правосудия, внедряя ряд цифровых технологий, в том числе построенных на основе искусственного интеллекта[123]. Так, 01.03.2022 Верховный народный суд КНР преобразовал и модернизировал первоначальную систему China Mobile Micro Court в онлайн-сервис Народного суда. Новый сервис представляет собой мини-приложение, позволяющее пользователям подать иск, используя приложение WeChat. В 2022 г. через мобильную версию онлайн-сервиса Народного суда было подано 10 718 000 исков. Онлайн-сервис Народного суда объединяет и консолидирует общенациональные функции общей судебной системы, такие как посредничество, подача исков, обеспечение доказательств, результаты юридических проверок и т. д., помогая направлять запросы и решать юридические, посреднические и другие вопросы в судебных инстанциях по всей стране. Если говорить о местном уровне, то, например, в судах Шанхая имеется полностью налаженная онлайн-система подачи исков. При подключении к сети Интернет граждане и юридические лица могут иметь доступ к судебным услугам в любом месте и в любое время через веб-сайт, официальную учетную запись WeChat и мини-приложения, которые значительно сокращают прежние неудобства, связанные с длительными поездками и длинными очередями на подачу и регистрацию исковых заявлений. Более того, «асинхронное разбирательство» – новый термин, введенный в 2022 г., становится все более популярным и существенно меняет прежний имидж судебных заседаний. Если стороны и судья сопровождают заседание одновременно, но в разных точках пространства, его можно назвать модельным онлайн-процессом, то есть онлайн-судебным заседанием[124].
Таким образом, китайский подход к цифровому праву представляет собой комплекс законодательных мер и подзаконных актов, а также актов правоприменительной практики, направленных на обеспечение защиты прав и интересов граждан и юридических лиц в цифровом пространстве. Китай сделал управление киберпространством важной частью общей стратегии верховенства прав, заложив комплексную правовую основу для защиты прав в цифровой среде.
Резюмируя проведенный анализ, можно сделать обобщающий вывод о том, что до сих пор не существует единого универсального стратегического плана и общих правовых основ цифровой трансформации. Правовые режимы современных процессов цифровой трансформации должны быть адаптированы к конкретным условиям каждого отдельного государства, включая его политический, социальный и экономический контекст, его лидерские позиции в той или иной области, культуру, характер экосистемы, повестку устойчивого развития и другие факторы. При этой эффективная цифровая трансформация в условиях глобализации, даже несмотря на современные вызовы, невозможна без ориентации на эффективные интеграционные и унификационные процессы.
Вопросы для обсуждения
1. Какие в настоящее время технологические вызовы стоят перед миром? Как их можно решить с помощью права?
2. Выделите современные технологические вызовы и проанализируйте, как они влияют на трансформацию правового регулирования.
3. Определите значение и тенденции развития цифрового права в России и в мире.
4. Определите место цифрового права в системе права России.
5. Каковы принципы цифрового права?
6. Назовите принципы цифрового права. Какие принципы цифрового права могут появиться в будущем?
7. Назовите основные подходы к пониманию информации в информационном обществе. Определите роль информации как стратегического ресурса цифровой экономики.
8. Что представляет собой цифровое право как система знаний и учебная дисциплина?
9. Выделите основные цифровые правоотношения? Назовите их признаки. Какие объекты цифровых отношений можно выделить?
10. Назовите основные тенденции развития цифрового права в доктрине зарубежных стран.
Список литературы
1. Актуальные проблемы информационного права: учебник / коллектив авторов; под ред. И. Л. Бачило, М. А. Лапина. М.: КноРус, 2019. 594 с.
2. Белых В. С., Егорова М. А., Решетникова С. Б. Биткоин: понятие и тенденции правового регулирования // Юрист. 2019. № 3. С. 4—11.
3. Вайпан В. А. Основы правового регулирования цифровой экономики // Право и экономика. 2017. № 11. С. 5—18.
4. Егорова М. А., Городов О. А. Основные направления совершенствования правового регулирования в сфере цифровой экономики России // Право и цифровая экономика. 2018. № 1. С. 6—12.
5. Ершова И. В., Тарасенко О. А. Цифровое преобразование подготовки юристов от программной модели к практике реализации // Юридическое образование и наука. 2019. № 3. С. 16–21.
6. Информационное пространство: обеспечение информационной безопасности и права. Сб. науч. трудов / под ред. Т. А. Поляковой, В. Б. Наумова, А. В. Минбалеева. М.: ИГП РАН, 2018. 512 с.
7. Кузнецов П. У. Правовая методология информационных процессов и информационной безопасности (вербальный подход) / Урал. гос. юрид. акад. Екатеринбург, 2001. 171 с.
8. Кузнецов П. У. Теоретические основания информационного права: автореф. дис. … д-ра юрид. наук. Екатеринбург, 2005. 55 с.
9. Минбалеев А. В. Проблемы цифрового права. Саратов: Амирит, 2022. 233 с.
10. Минбалеев А. В. Теоретические основания правового регулирования массовых коммуникаций в условиях развития информационного общества. Челябинск: Цицеро, 2012. 451 с.
11. Основы цифровой экономики: учебное пособие / коллектив авторов; под ред. М. И. Столбова, Е. А. Бренделевой. М.: ИД «Научная библиотека», 2018. 238 с.
12. Полякова Т. А., Минбалеев А. В., Кроткова Н. В. Развитие доктрины российского информационного права в условиях перехода к экономике данных // Государство и право. 2023. № 9. С. 158–171.
13. Правовое регулирование цифровой экономики в современных условиях развития высокотехнологичного бизнеса в национальном и глобальном контексте: монография / под общ. ред. В. Н. Синюкова, М. А. Егоровой; Московский государственной юридический университет имени О. Е. Кутафина (МГЮА). М.: Проспект, 2019. 240 с.
14. Рассолов М. М. Информационное право: учебное пособие. М.: Юристъ, 1999. 400 с.
15. Рассолов М. М. Теоретические проблемы управления и информации в сфере права: автореф. дис… д-ра юрид. наук. М., 1990. 35 с.
16. Санникова Л. В., Харитонова Ю. С. Правовая сущность новых цифровых активов // Закон. 2018. № 9. С. 86–95.
17. Серова О. А., Попова О. В., Серебрякова А. А. Государственная итоговая аттестация и защита магистерской диссертации по юриспруденции (на примере образовательных программ по правовому сопровождению цифровой экономики): учебно-методическое пособие. Калининград: Изд-во БФУ им. И. Канта, 2018. 103 с.
18. Сквозные технологии цифровой экономики. URL: http://datascientist.one/skvoznye-texnologii-digital-economy/.
19. Терещенко Л. К. Правовой режим информации. М.: Юриспруденция, 2007. 192 с.
20. Цифровая экономика: проблемы правового регулирования: монография / отв. ред. В. В. Зайцев, О. А. Серова. М.: Кнорус, 2019. 200 с.
Глава 2
Субъекты цифрового права
§ 1. Субъекты цифровых правоотношений: понятие и особенные черты
И. А. Цинделиани
Человеческий мир проходит новый этап своего развития, который рассматривается как четвертая промышленная революция[125]. Рассматриваемый этап развития человечества можно назвать эрой новых технологий, которые оказывают влияние на все сферы человеческой жизни, влекущей за собой появление новых институтов и модернизацию уже существующих. Переход человечества к новому этапу промышленной революции стимулирует государство реализовывать новую политику, которая имеет целью трансформацию многих общественных институтов и процессов[126]. Как следствие – необходимость теоретического переосмысления существующих подходов в праве, поскольку влияние новых цифровых технологий оказывает значительное влияние[127].
В традиционном определении субъектами права признаются участники правоотношений, имеющие субъективные права и юридические обязанности. В юридической литературе субъекты права подразделяются на два вида: индивидуальные и коллективные субъекты. К числу индивидуальных субъектов относят граждан РФ, иностранных граждан, лиц без гражданства; к коллективному субъекту необходимо относить публично-правовые образования РФ, ее субъекты и муниципальные образования, а также организации всех организационно-правовых форм, а также их объединения. Для того чтобы субъекты могли быть участниками конкретных правоотношений, они должны обладать правосубъектностью, которая основывается на трех базовых элементах: правоспособности, дееспособности и деликтоспособности.
Правоспособность представляет собой способность иметь субъективные права и юридические обязанности, а дееспособность – возможность своими действиями реализовывать права и обязанности. В свою очередь, деликтоспособность определяется как способность лица нести ответственность за правонарушения, запрещенные действующим законодательством. При этом каждый их этих элементов правосубъектности обладает своей спецификой, связанной с моментом возникновения, изменения или прекращения. Рассматриваемые свойства правосубъектности справедливо подразделяются на определяющие и производные. Определяющим является правоспособность, а производными от нее являются дееспособность и деликтоспособность.
Необходимо отметить, что динамичное внедрение цифровых технологий, как в отдельных государствах, так и в целом в мире, влечет за собой необходимость переосмысления традиционных подходов к проблеме правовых средств регулирования складывающихся общественных отношений. Цифровые технологии, внедрение и развитие которых становится важнейшим фактором, влияющим на трансформацию экономических отношений, в значительной степени влияют и на подходы к определению субъектного состава общественных отношений, формирующихся в новой социально-экономической сфере. Несмотря на то, что внедрение новых цифровых технологий находится на первоначальном этапе реализации, это уже ставит перед законодателями и исследователями задачу нахождения новых правовых механизмов, способных адаптировать появление новых общественных отношений к потребностям общества. Базовыми направлениями развития новых цифровых технологий стали:
• конвергенция сетей связи и создание сетей связи нового поколения;
• обработка больших объемов данных;
• искусственный интеллект;
• доверенные технологии электронной идентификации и аутентификации, в том числе в кредитно-финансовой сфере;
• облачные и туманные вычисления;
• Интернет вещей и индустриальный Интернет;
• робототехника и биотехнологии;
• радиотехника и электронная компонентная база;
• информационная безопасность и др.
Значительное влияние новые технологии оказывают на финансовую инфраструктуру государства и приводят к появлению новых технологий в финансовой и экономической системе государства в целом, в частности, новыми перспективными финансовыми технологиями признаны:
• Big Data и анализ данных;
• мобильные технологии;
• искусственный интеллект;
• роботизация;
• биометрия;
• распределенные реестры;
• облачные технологии.
Затрагивающие такие важнейшие сферы, как:
• платежи и переводы: сервисы онлайн-платежей; сервисы онлайн-переводов; 1 EY – исследование для дорожной карты FinNet Национальной технологической инициативы Агентства стратегических инициатив; Р2Р2 обмен валют; сервисы B2B3 платежей и переводов; облачные кассы и смарт-терминалы; сервисы массовых выплат;
• финансирование: Р2Р потребительское кредитование, Р2Р бизнес-кредитование, краудфандинг;
• управление капиталом: робоэдвайзинг, программы и приложения по финансовому планированию, социальный трейдинг, алгоритмическая биржевая торговля, сервисы целевых накоплений и иное[128].
На горизонте 2025–2027 годов осуществляется реализация следующих основных направлений совершенствования правового регулирования финансовых технологий:
• платежных технологии и сервисов;
• единой биометрической системы;
• цифрового профиля;
• открытия API и Платформ коммерческих согласий;
• цифровых прав и токенизации;
• искусственного интеллекта;
• облачных технологии;
• единой информационной системы проверки сведений об абоненте;
• экспериментальных правовых режимов и регулятивной «песочницы»[129].
Учитывая, что мы находимся только на пороге модернизации общественных отношений, связанных с внедрением и развитием цифровой экономики, и, как следствие, на начальном этапе выработки правовых инструментов, посредством которых будет обеспечиваться регулирование отношений, возникающих в связи с применением цифровых технологий, представляется необходимым остановиться на анализе тех концептуальных подходов, которые выработала современная правовая наука. Необходимо отметить, что наше общество находится на начальном этапе выработки правовых инструментов, которые должны качественно обеспечить регулирование отношений в связи с применением цифровых технологий. Прежде всего, цифровые технологии влекут за собой возникновение новых общественных отношений, качественно отличающихся как по содержанию, так и по субъектному составу. В частности, в исследованиях выделяется специфика рассматриваемых правоотношений, а именно:
• субъектами становятся виртуальные, или «цифровые личности». Такое «лицо», по сути, образуют цифровые данные о реальном человеке, его виртуальном или цифровом образе (nickname, сетевом имени) и IP-адресе, к которому привязан компьютер, с которого совершены какие-либо действия в виртуальном пространстве;
• в сфере правового регулирования появляются отношения, в которых если не субъектом, то как минимум участником становится новая цифровая личность – робот[130]. Предлагается рассматривать появление таких субъектов как электронное лицо и рассматривать их как носителей искусственного интеллекта (машина, робот, программа), обладающих разумом, аналогичным человеческому, способностью принимать осознанные и не основанные на заложенном создателем такой машины, робота, программы алгоритме решения, и в силу этого наделенных определенными правами и обязанностями[131].
По мнению О. А. Ястребова, под электронными лицами необходимо рассматривать комплекс обязанностей и прав, причем содержанием юридических прав и обязанностей являются действия искусственного интеллекта. Последний можно интерпретировать как сложную совокупность коммуникационных и технологических взаимосвязей, обладающую способностью логически мыслить, управлять своими действиями и корректировать свои решения в случае изменения внешних условий[132]. Весьма интересной является попытка раскрытия правосубъектности электронного лица, предпринятая М. Д. Шапсуговой, в рамках которой предлагается разграничивать абстрактные и конкретные категории[133]. В свою очередь, П. М. Морхат рассматривает электронное лицо как обладающий некоторыми признаками юридической фикции (по аналогии с юридическим лицом) формализованный технико-юридический образ (в значении воспринимаемой и сознаваемой третьими лицами целостной информационной проекции), отражающий, воплощающий модальную фреймизацию и детерминирующий в юридическом пространстве конвенционально (условно) специфическую правосубъектность персонифицированного юнита искусственного интеллекта, обособленную от человеческого субстрата и гетерогенную (в части комплексов «прав» и обязанностей юнита) в зависимости от функционально-целевого назначения и возможностей такого юнита, и в силу этого аппроксимированный к конкретному целеполаганию производства и задействования такого юнита, то есть его функционально-целевому назначению. При этом правосубъектность юнита искусственного интеллекта является (и должна являться) мультимодальной – гетерогенной (в части комплексов «прав» и обязанностей юнита) в зависимости от функционально-целевого назначения и возможностей такого юнита, и в силу этого аппроксимированной к конкретному целеполаганию производства и задействования такого юнита, то есть его функционально-целевому назначению[134]. Как видно, подходы исследователей к пониманию субъектов общественных отношений, складывающихся в процессе формирования и развития цифровой экономики, находятся на стадии концептуального осмысления модели, которая порождается новыми технологиями. Учитывая, что технологические модели, которые будут формировать фундамент цифровой экономики, и порождаемые этим процессом экономические отношения только формируются, происходит первоначальный этап формирования возможных моделей функционирования общественных отношений и субъектов, принимающих в них участие, с учетом новых технологических решений. Как следствие, набор имеющихся правовых средств регулирования развивающихся отношений в сфере цифровой экономики находится на первоначальном этапе формирования.
В современной литературе даются различные определения цифровой экономики. В частности, Л. В. Лапидус определяет ее как совокупность отношений, складывающихся в процессе производства, распределения, обмена и потребления, основанных на онлайн-технологиях и направленных на удовлетворение потребностей в жизненных благах, предполагающих формирование новых способов и методов хозяйствования и требующих действенных инструментов государственного регулирования[135]. Авторы учебника «Цифровой бизнес» воспроизводят в определении цифровой экономики понятие, данное в Оксфордском словаре: экономика, которая главным образом функционирует за счет цифровых технологий, особенно электронных транзакций, осуществляемых с использованием Интернета[136].
Представляется, что в самое ближайшее время на законодательном уровне предстоит закрепить важнейшую новацию, обусловленную технологическим прогрессом, а именно появление новых феноменов, наделенных определенными свойствами, которые условное можно обозначить как электронное лицо. Несомненно, что на данном этапе их придется рассматривать как фикцию, наделяемую определенными свойствами правосубъектности, но имеющую ограничительные пределы. Их нельзя будет рассматривать как идентичных физическим лицам и организациям – участникам правоотношений, поскольку свойственные им элементы правосубъектности не могут быть полностью распространены на электронных лиц. Но при этом такие феномены в качестве определённой фикции имеют полноценную перспективу нормативного закрепления в качестве определенных участников правоотношений в сферах, связанных с применением цифровых технологий.
§ 2. Система субъектов цифровых правоотношений
И. А. Цинделиани
Внедрение цифровых технологий в социально-экономическую жизнь общества обусловливает необходимость определения субъектного состава цифровых правоотношений. При этом имеются определенные сложности сегодняшнего дня: практически нулевое наличие нормативного массива, позволяющего полноценно определить субъектный состав рассматриваемых правоотношений. Законодатель находится на этапе разработки нормативного массива, точнее, еще находится в поиске модели регулирования, которая позволит максимально эффективно внедрить технологические достижения в социально-экономическую жизнь общества. Несомненный интерес представляют зарубежный опыт регулирования внедрения цифровых технологий и используемые модели в данной сфере, а также теоретические исследования, посвященные данной проблематике. Резолюция Европарламента от 16.02.2017, включающая Хартию робототехники[137] подчеркивает, что человечество находится на пороге эры высокотехнологичных роботов, ботов, человекоподобных роботов и других устройств, в основу работы которых заложен искусственный интеллект (в дальнейшем – ИИ) и которые символизируют своим появлением начало новой промышленной революции (которая почти наверняка затронет все слои общества). Поэтому жизненно важно, чтобы установленные этические и правовые нормы не подавили развитие инноваций. Особо необходимо отметить следующие положения:
• роботы способны выполнять работу, которую раньше могли выполнять только люди. Роботы все больше и больше становятся похожи на агентов, которые могут взаимодействовать со своей средой и вносить в нее значительные изменения; в таком контексте одним из важнейших вопросов становится вопрос о правовой ответственности за вред, причиненный действием робота;
• автономность робота можно определить как его способность принимать решения и реализовывать их самостоятельно, без внешнего контроля или воздействия; автономность робота носит чисто технический характер, и ее степень зависит от того, насколько хорошо робот запрограммирован взаимодействовать с окружающей средой своим разработчиком;
• чем выше степень автономности робота, тем меньше робот может расцениваться как простой инструмент в руках третьих лиц (производителя, оператора, владельца, пользователя и т. д.); это положение, в свою очередь, поднимает вопрос о том, являются ли достаточными обычные правила правовой ответственности;
• в контексте автономности роботов возникает вопрос об их правовой природе; может ли она находиться в рамках существующих правовых категорий или же нужно создать новую категорию, которая будет иметь свой собственный ряд характеристик и положений;
• в существующих правовых рамках роботы сами по себе не могут нести ответственность за действия или бездействие, по причине которых был нанесен вред третьим лицам; существующими правилами наступления ответственности предусмотрены случаи, когда действия или бездействие роботов находятся в причинно-следственной связи с действиями или бездействием конкретных лиц, например производителей, операторов, владельцев или пользователей, и они могли предвидеть и избежать поведения роботов, в результате которого был нанесен урон; помимо этого, производители, операторы, владельцы или пользователи могут быть привлечены к объективной ответственности (независимой от наличия вины) за действия или бездействие роботов;
• к причиненному роботами или ИИ вреду применяются существующие правовые нормы, во-первых, об ответственности за качество и безопасность товаров, согласно которым производитель несет ответственность за любые неисправности, а также, во-вторых, об ответственности за вредоносные действия, согласно которым пользователь продукта несет ответственность за поведение, повлекшее за собой возникновение вреда;
• стандартных правил наступления ответственности недостаточно в случаях, когда урон был нанесен по причине решений, которые робот принимает самостоятельно; в данных случаях будет невозможно определить третью сторону, которая обязана выплатить компенсацию и возместить причиненный ею ущерб;
• недостатки существующего правового регулирования также отчетливо проявляются в сфере договорной ответственности; если машины будут разработаны так, что они сами могут выбирать своих контрагентов, обсуждать условия договоров, заключать договоры и решать, как их исполнять, то обычные правила не будут к ним применимы; это обозначает необходимость создания новых эффективных и современных правил, которые будут учитывать технологическое развитие и инновации, внедрение и использование которых произошло недавно[138].
В свою очередь, законодательство Южной Кореи определяет понятие «умный робот» как механическое устройство, которое способно воспринимать окружающую среду, распознавать обстоятельства, в которых оно функционирует, и целенаправленно передвигаться самостоятельно[139].
Проблема определения субъектов, являющихся участниками отношений, возникающих в сфере цифровых технологий, охватывает все передовые государства и их объединения. Весьма важным является анализ существующих концепций, которые могут быть положены в нормативный массив, который будет обеспечивать определение статуса субъектов цифровых правоотношений.
Проводимые исследования системы субъектов цифровых правоотношений сегодня базируются на нескольких подходах, раскрывающих правосубъектность электронных лиц, наделенных искусственным интеллектом:
• первый подход основывается на рассмотрении электронных лиц, сопоставляя их с правосубъектностью физических лиц;
• второй основывается на рассмотрении электронных лиц, сопоставляя их с правосубъектностью организации;
• третий подход основывается на рассмотрении электронных лиц как феноменов, обладающих специальной ограниченной правосубъектностью электронных лиц в контексте агентских отношений[140].
На сегодняшний день сложно представить, какой путь будет выбран в регламентации сферы цифровых технологий. Тем не менее законодательные массивы, как в сфере частного, так и публичного права, должны будут отразить специфику электронных лиц, в том числе такой их разновидности, как роботы и иные технологические феномены, функционирование которых основывается на ИИ. Другой важный фактор, который должен учитываться при формировании нормативного массива, обеспечивающего регулирование отношений в сфере цифровых технологий, – это защита физических и юридических лиц от возможного причинения им урона (ущерба, убытков), обусловленного деятельностью технологических феноменов, основанных на ИИ. Это потребует модернизации всего законодательства как в сфере частного, так и публичного права.
§ 3. Отдельные субъекты цифровых правоотношений и особенности их правового статуса
И. А. Цинделиани
Категория «правовой статус субъекта» до настоящего времени остается предметом широкой дискуссии, обусловленной отсутствием единообразного подхода к содержанию данной категории[141], что не лишило широкого применения данной категории при характеристике участников правоотношений.
Категорию «правовой статус субъекта» определяют через закрепленные в законодательстве права и обязанности. Условно термин «правовой статус» применим для определения совокупности прав и обязанностей как индивидуальных, так и коллективных субъектов для характеристики субъектов, участвующих в правоотношениях, возникающих в связи с применением цифровых технологий.
В юридической литературе правовой статус предлагается подразделять на пять видов: международно-правовой, конституционный, отраслевой, специальный, индивидуальный[142]. Представляется, что правовой статус субъектов цифровых правоотношений необходимо будет рассматривать с участием специфики таких отношений, в основе которых лежат цифровые технологии.
А. А. Карцхия, рассматривая особенности цифрового гражданского оборота, выделяет следующую его специфику:
• осуществляется в сети Интернет (виртуальном пространстве, виртуальной реальности), заключается в нематериальном характере самого оборота, субъектов и объектов такого оборота, отличного от традиционного гражданского оборота объектов физического мира, окружающего человека. А при этом субъектами выступают не юридические или физические лица, а цифровые идентификаторы (компьютерные коды, IP-адреса, числовые записи-идентификаторы {ID номер} и условные обозначения {nick-name и др.}), а также цифровые сущности (ИИ в самых разнообразных формах).
При этом за цифровыми идентификаторами могут стоять как юридические и физические лица, так и компьютерная программа, код (программа для ЭВМ) в виде ИИ или смарт-контракта, а также технологическая платформа (комплекс технологий для рассылки сообщений {мессенджеры}, социальная сеть при рассылке рекламы, запросе пользовательских данных, а также технологический комплекс сбора и аналитики больших данных и др.). Субъектами могут выступать использующие те же средства идентификации государственные органы – регуляторы, предоставляющие сведения своих баз данных, цифровых и электронных реестров при оказании государственных услуг или сборе сведений (данных), обязательных для предоставления регулятору либо по его запросу.
Специальными субъектами цифрового гражданского оборота являются информационные посредники, операторы интернет-сервиса, хостинг-провайдеры, владельцы сайтов и др.[143]
Иные авторы, рассматривая перспективу широкого внедрения цифровых технологий и одного из его направлений – робототехники, признавая отсутствие прямого указания в законодательстве о правах и обязанностях, предлагают выделять следующие субъекты:











