Читать онлайн Пролог. Документальная повесть
- Автор: Сергей Гродзенский
- Жанр: Документальная литература, Биографии и мемуары
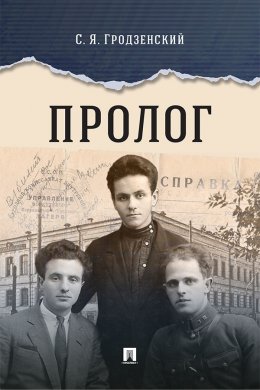
Александр Твардовский
- Мы все, почти что поголовно
- Оттуда люди, от земли,
- И дальше деда родословной
- Не помним. Предки не вели.
Евгений Баратынский
- Мой дар убог, и голос мой не громок,
- Но я живу, и на земле мое
- Кому-нибудь любезно бытие:
- Его найдет далекий мой потомок.
Изображение на обложке klenger / Shutterstock.com
В оформлении макета были использованы фотографии и художественные материалы, предоставленные автором.
© Гродзенский С. Я., 2024
© ООО «Проспект», 2024
От автора
В «Записной книжке» писателя-сатирика Виктора Ардова прочитал:
– Старый швейцар говаривал: «Человеческий век – шестьдесят лет. А все, что свыше, это нам Господь Бог на чай дает…»
Мне скоро 80 лет, как видно, отпущено «на чай» достаточно много. Я принимаюсь за книгу «Пролог» о своем происхождении со смешанными чувствами, и, пожалуй, главная составляющая этой «смеси» – опасение быть обвиненным в нескромности. Я ведь предполагаю говорить о своих предках, и волей-неволей придется рассказывать «о себе любимом».
Над каждой строчкой этого текста буквально повисают вопросы: кому ты интересен и, тем более, кто может проявить любопытство к твоей родословной? Вспоминаются слова французского поэта Шарля Бодлера из сочинения «Мое обнаженное сердце»: «Любой имеет право говорить о себе, если только умеет быть занимательным». Это лишь усугубляет положение, потому как занимательностью мои литературные опыты никогда не отличались.
Кому адресована книга? В первую очередь тем, кому я не безразличен, кто интересуется моим скромным творчеством, кто будет помнить меня. Может быть, в будущем какой-нибудь дотошный исследователь наткнется на мои труды. Как и я, бывало, с волнением изучал произведения авторов прошедших эпох. В этой книге я в основном описываю историю своих предков, родителей. По определению писателя Бориса Васильева: «История родителей – всегда ПРОЛОГ твоей жизни, а твоя жизнь – ЭПИЛОГ жизни твоих родителей»[1].
В молодости я не интересовался своей родословной. Да и поговорить со мной на эту тему было некому. Оба моих дедушки и бабушка со стороны отца ушли в мир иной задолго до моего появления на свет. Бабушки по материнской линии не стало, когда мне едва исполнилось пять лет.
Отец на мои вопросы о его происхождении отвечал скупо и с явной неохотой. Его – ветерана Воркутлага и Карлага – двадцать лет репрессий приучили к чрезвычайной, просто патологической осторожности. Боясь навредить сыну, он не распространялся не только о своем происхождении или месте рождения, но и национальности, настоящей фамилии, при первой возможности уничтожал лишние документы, случалось, не щадил и семейные реликвии. При этом история каждой семьи как раз и состоит из имен, дат, документов и фотографий.
Мать иногда предавалась воспоминаниям, но, как мне казалось, рассказывала всякий раз об одних и тех же событиях. Испытывая теперь чувство вины перед ней, должен признаться, что относился к ее повествованию без интереса. Острая потребность в этом возникла, как только моей мамы не стало. Что и говорить, жить моим отцу и матери пришлось в тяжелейшие годы – войны, революции, репрессии. Как сказал поэт Николай Глазков:
- И на мир взираю из-под столика:
- Век двадцатый, век необычайный —
- Чем он интересней для историка,
- Тем для современника печальней.
Книга состоит из двух частей. Первая – это изложение того, что удалось узнать о предках (происхождение мое и по материнской, и по отцовской линиям теряется на третьем-четвертом поколениях) в государственных и личных архивах. Затем следует жизнеописание родителей, обстоятельства их знакомства и сближения, приведшего к появлению автора на свет. Вторая часть – все, что удалось собрать, сохранившееся в черновиках, записных книжках, дневниковых записях моего отца Я. Д. Гродзенского, которого Варлам Шаламов называл одним из своих ближайших друзей, а Александр Солженицын посвятил по нескольку хвалебных строк в книгах «Архипелаг ГУЛАГ» и «Двести лет вместе».
Все знающие Якова Давидовича отмечали его гуманитарную одаренность. Но биография его исковеркана тюрьмами и ссылками, при жизни он увидел опубликованным одно свое произведение – книгу «Стойкость», написанную в соавторстве с другом детства писателем Павлом Подляшуком.
В «Прологе» много цитат. Помимо того, что обильное цитирование – мой излюбленный прием, я использую много документов, которые теряют в достоверности, когда их излагаешь своими словами.
В этой книге в основном пишу о людях, которых нет в живых. При этом стараюсь следовать принципу De mortuis – veritas! («О мертвых – правду!»), а не более известному латинскому изречению De mortuis aut bene, aut nihil («О мертвых или хорошо, или ничего»), которое справедливо разве что во время похорон и поминок.
Мне близка мысль В. Войновича: «…В моих воспоминаниях об известных людях я показываю их такими, какими их видел. Без прикрас. Не хочу уподобляться ритуальным косметологам, украшающим гримом покойников. Если мы вспоминаем эпоху такой, какой она была, а не такой, какой ее хотелось бы видеть, то и люди эпохи должны остаться в нашей памяти со всеми своими достоинствами и недостатками»[2].
Когда-то свою первую книгу воспоминаний я назвал «Исповедь на шахматную тему», но могу вслед за великим Иоганном Гете сказать: «Все мои произведения – фрагменты одной большой исповеди».
Приступая к написанию этой книги, мысленно произношу клятву, которую приносят в суде США: «Обещаю говорить правду, только правду и ничего, кроме правды».
Родословная по материнской линии
О происхождении бабушки с материнской стороны мне рассказывала мама и дожившая до 1960-х годов младшая сестра бабушки. По их версиям, мой прапрадед был крепостным по фамилии Федотов, бунтовщиком, его таскали на аркане для острастки других.
«Положениями» Александра Второго от 19 февраля 1861 года бывшие помещичьи крестьяне, получившие личную свободу, но не выкупившие землю у помещика и потому продолжавшие исполнять оброк или барщину за пользование помещичьей землей, стали называться временно обязанными.
Бывший крепостной Федотов, судя по всему, был человеком деятельным, «временно обязанным» быть не захотел и вскоре после реформы 1861 года с женой (моей прапрабабушкой) перебрался в губернский город Рязань. Федотовы приобрели дом около церкви Вознесения Господня, чаще называвшейся по одному из своих приделов Никольской или Николы Долгошеи. Каменный храм был построен около 1566 года на высоком берегу реки Трубеж по указанию царя Ивана IV Грозного. В 1761 году в храме был устроен главный престол в честь Святителя Николая Чудотворца и построена колокольня. Из-за того, что над алтарной частью купол был выше колокольни, церковь в народе прозвали «Никола Долгошея».
Храм расположился на перекрестке двух старинных улиц Рязани – Борисоглебской (современной Трубежной) и Никольской (ныне Павлова). Двадцать лет с 1848 по 1868 год священником церкви был Петр Дмитриевич Павлов, отец одного из самых знаменитых уроженцев земли рязанской, первого русского Нобелевского лауреата, академика Ивана Петровича Павлова. В Никольской церкви будущий академик венчался.
Этот православный храм первым в городе встречал приезжающих из Москвы, а основным въездом в Рязань со стороны столицы была Большая Мещанская (в советские времена улица Каляева, ныне Семинарская).
В 1863 году было учреждено «Общество Московско-Рязанской железной дороги», которое соорудило участок от Коломны до Рязани. Железнодорожные пути от Рязани до Москвы возводились при участии английских специалистов и строителей. В Англии в 1776 году был принят «Дорожный акт», в соответствии с которым по традиции, заведенной в Древнем Риме, вводилось левостороннее движение – способ организации дорожного движения, при котором транспортные средства обязаны двигаться по левой стороне проезжей части. В Великобритании и большинстве бывших британских колоний до сего времени принято левостороннее движение как на автомобильных дорогах, так и на железнодорожном транспорте.











