Читать онлайн Золотой лепрекон
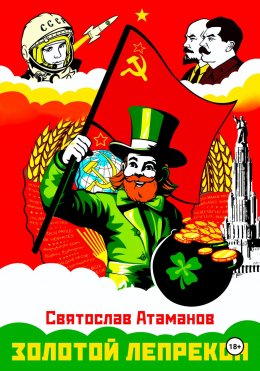
Посвящается памяти Николая Алексеевича Островского
Весь мир насилья мы разрушим
До основанья, а затем
Мы наш, мы новый мир построим —
Кто был ничем, тот станет всем.
«Интернационал»
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ.
ДЖЕК О’ДОННЕЛЛ
Глава первая. Съезд
Зал был полон до отказа. Выглядел он как огромная студенческая аудитория, где места располагались «амфитеатром». Впереди – на месте преподавательской кафедры, была трибуна для выступлений, а за ней – президиум.
На стене висел большой красный флаг. На флаге, был изображён всем знакомый с детства, любимый и почитаемый всеми людьми планеты Земля символ – «Серп и Молот», символ рабочих и крестьян, символ труда, символ созидания.
На самом верху висел большой экран. Над экраном красивыми неоновыми буквами светилась надпись – «Приветствуем участников CXXXV съезда КПСС».
На трибуну вышел человек в строгом чёрном костюме. В зале наступила тишина. Человек согнул в локте руку со сжатым кулаком (приветствие, которое в XX веке носило название «Рот фронт») и сказал:
– Товарищи! Рад приветствовать всех на сто тридцать пятом съезде Коммунистической Партии Советского Союза! Сегодня, 20 января 2526 года…
Да, это была чистая правда. На дворе был не двадцатый, а далёкий двадцать шестой век. И именно в этом, 2526 году исполнялось ровно 200 лет со дня революции, которую официально было принято называть «Великая Апрельская Социалистическая Революция». Именно празднование юбилея этой великой даты – и должно было стать сегодня одной из главных тем для обсуждения.
На этот съезд, как и на любой другой съезд КПСС – в Москву приезжали коммунисты со всех уголков Земного шара. Например, приезжали из тех мест, которые когда-то носили названия Бразилии, Японии, Австралии или Эфиопии, а теперь назывались по первой букве старого названия с добавлением – «ССР», например БССР – Бразильская Советская Социалистическая Республика, ЯССР – Японская Советская Социалистическая Республика и так далее.
Та же территория, на которой находился город Москва, и которая после развала СССР в конце XX века, стала называться Российской Федерацией – сейчас называлась точно так же, как во времена Советского Союза – РСФСР.
На текущий, 2526 год, в Москве проживало около 70 миллионов человек, в РСФСР – около 900 миллионов, а всё население земного шара составляло 98 миллиардов, и неуклонно приближалось к «юбилейной» цифре в 100 миллиардов человек.
Человек на трибуне, между тем продолжал:
– В апреле этого года, товарищи, вся наша планета будет отмечать великий юбилей! Мы всегда будем помнить и чтить память людей, память коммунистов XX и XXIV веков! Мы никогда не забудем тех, кто почти 200 лет назад, в героическом 2326 году, проливая свою кровь и рискуя своими жизнями – поднял красный флаг над Московским Кремлём! Именно благодаря героям XXIV века, красный флаг вот уже почти 200 лет развевается надо всей нашей планетой! Будем же достойны наших великих предков, товарищи! Будем же с честью нести красное коммунистическое знамя! Останемся же навсегда верны принципам Марксизма-Ленинизма-Щукинизма! Ура, товарищи!
Зал взорвался бурными овациями. У многих из присутствующих на глазах блестели слёзы.
Глава вторая. Гном
На съезде, один за другим выступали докладчики из различных социалистических республик. Вот закончил доклад представитель Канадской ССР, и объявили следующего докладчика:
– Слово предоставляется нашему гостю из Восточных Саян – товарищу Алексею Петрову!
И тут, с одного из мест в зале поднялся гном, и пошёл на трибуну. Сразу было видно, что это не человек небольшого роста, а именно – гном, или как как их называли в литературе жанра «фэнтези», популярной в древние века – «дварф» или «дворф». Гном был невысок, крепок, коренаст и с большой окладистой бородой. При взгляде на этого гнома – сразу же в воображении всплывали какие-то древние битвы, волшебники, эльфы и драконы. Сам же гном – представлялся закованным в доспехи, со шлемом на голове и с большой секирой.
Однако в действительности – всё было не так. Ни шлема, ни секиры у гнома не было, а одет он был не в доспехи, а в строгий чёрный костюм с галстуком.
Гном поднялся на трибуну, как и предыдущие докладчики, он согнул руку в локте, сжал кулак и начал говорить:
– Рот фронт, товарищи! Шлют вам горячий пролетарский привет все трудящиеся коммунистические гномы Восточных Саян! – и начал свой доклад.
В докладе, гном рассказал об успехах, достигнутых в Восточных Саянах за последнюю пятилетку, об успехах в горнодобывающей промышленности и металлургии, в частности, рассказал о новом, невиданном доселе минерале, который был обнаружен в этом году в Саянах:
– Как вы все знаете, товарищи, до сих пор самым прочным сплавом на Земле считался, изобретённый ещё в прошлом, XXV веке, так называемый «Сплав Семёнова-Джонса». В этом году, нашими геологами найден в Саянах минерал, который судя по всем лабораторным исследованиям, в два раза превосходит по своим характеристикам «сплав Семёнова-Джонса»! Мы назвали этот минерал, в честь нашего великого вождя товарища Щукина – «щукинит».
В зале зааплодировали. Но когда аплодисменты стихли, какой-то скептик спросил:
– Открытие нового минерала – это замечательно, товарищ Петров. Но не могли бы вы более подробно описать, какие перспективы несёт всему коммунистическому человечеству открытие «щукинита»?
– Перспективы огромные, можно даже сказать – гигантские! Космического масштаба! – с жаром заговорил гном. – Именно что космического! Как вы знаете, среди всех известных до сих пор на Земле материалов – не было ни одного настолько прочного, чтобы построить из него корабль, способный летать на скорости света. Вы все прекрасно помните, товарищи, чем заканчивались все случаи пробных запусков кораблей на сверхзвуковой скорости – корабль сминало в лепёшку, а экипаж – трагически погибал. Но если мы сможем строить космические корабли из щукинита – то очень и очень может быть, что нам, наконец, удастся разгонять при полёте наши ракеты до скорости света!
В зале раздались громогласные аплодисменты. Когда они отзвучали, гном продолжил:
– Однако, минерал этот найден совсем недавно, и его характеристики ещё недостаточно изучены. Поэтому, мне не хотелось бы делать далеко идущие прогнозы. Но как бы там ни было – я очень надеюсь, что щукинит действительно совершит революцию в строительстве космических кораблей! Для исследований, я привёз в Москву несколько образцов этого минерала, и очень надеюсь и на то, что выводы, которые сделают учёные, подтвердят мои догадки. Вперёд, товарищи! Вперёд к звёздам! Благодарю за внимание!
Гном сошёл с трибуны и пошёл на своё место. Зал оглушительно ему аплодировал.
Вперёд снова вышел человек, объявлявший докладчиков, и сказал:
– Благодарим Вас, товарищ Петров! Слово предоставляется нашему гостю из Тибета. Товарищ Чжан Хань, прошу Вас!
Если бы на этот съезд прибыл человек посторонний, ничего не знающий об обществе XXVI века, то услышав про Тибет, и услышав китайские имя и фамилию – он наверняка подумал бы, что следующим докладчиком будет китаец.
Китайцы в зале и вправду были, на съезде КПСС было достаточно много представителей Китайской ССР. Однако, сейчас к трибуне прошёл вовсе не китаец.
Из зала на трибуну снова вышел гном, довольно сильно похожий на выступавшего только что гнома. Оба были одинаковы по росту и телосложению, у обоих были длинные густые бороды. И снова всплывали в сознании какие-то средневековые битвы, шлемы, секиры, пышущие огнём драконы. Однако и этот гном – вместо доспехов был одет в строгий чёрный костюм.
Гном встал за кафедру, как и предыдущий – согнул в локте кулак, и заговорил на чистейшем русском языке:
– Товарищи! Приветствую вас, от имени пролетарских гномов и всех трудящихся Тибета!
В зале зааплодировали.
– Благодарю вас. В текущей пятилетке, трудящиеся Тибета достигли следующих показателей…
Гном рассказал, как, чего и сколько было добыто в горных тибетских штольнях, какие были совершены достижения, рассказал о передовиках производства.
Наконец, гном закончил свой доклад, и в зале, как и раньше, послышались аплодисменты.
После гнома, выступали двое людей, два последних докладчика, из Монгольской ССР и Американской ССР. Когда все доклады были зачитаны, председатель вышел на трибуну и сказал.
– Ну что же, а теперь, товарищи, перейдём к обсуждению. Первый вопрос – организация торжеств, по случаю годовщины Великой Апрельской Социалистической Революции во всех социалистических республиках нашей планеты.
Началось обсуждение различных праздничных мероприятий, концертов, демонстраций. Когда вопрос с праздником был более-менее решён, председатель сказал:
– А теперь второй вопрос, товарищи. Нам предстоит обсудить, как наконец в полной мере интегрировать в наше коммунистическое общество лепреконов.
Глава третья.
Джек О’Доннелл
Джек О’Доннелл проснулся в своей однокомнатной московской квартире – и стал собираться на работу. Он принял душ, позавтракал, и оделся в свою повседневную одежду. Надел зелёные штаны, рубашку, зелёный пиджак, зелёный цилиндр и башмаки с золочёными пряжками. То есть оделся так, как одевались все лепреконы.
После этого – О’Доннелл подошёл к сейфу, стоящему у него в квартире, открыл его, и достал свою главную драгоценность – горшок с золотом. Потом открыл большой рюкзак, положил в него горшок и закинул рюкзак себе за плечи.
Ни один лепрекон – не расставался со своим золотом никогда. Во время работы – рядом с каждым лепреконом стоял его рюкзак с горшком золота, и каждый лепрекон – не реже, чем раз в 15 минут проверял – на месте ли его золото.
Потом он вышел из квартиры – и поехал на работу. Работал О’Доннелл на консервном заводе. Работа не казалась Джеку тяжёлой. Так как всё производство давным-давно было автоматизировано, то на работе ему только и оставалось – что нажимать на кнопки. Кроме того – рабочая смена на заводе длилась всего четыре часа.
После положенной четырёхчасовой рабочей смены – он, как всегда, шёл в один и тот же паб, посетителями которого – были в основном рабочие лепреконы. Там он съедал ирландское рагу или коддл – и ехал домой. Раньше, он выпивал ещё в пабе и несколько кружек эля.
Действительно, раньше каждый день после работы – О’Доннелл пил пиво в пабе, а потом, по пути домой – он шёл в ближайшую продуктовую лавку, набирал там ещё полный рюкзак пивных бутылок, расплачивался – и только потом шёл домой. Дома – он обычно пил пиво, смотря в интернете различные каналы для лепреконов, или слушая ирландскую музыку. Так проходил каждый его день. В выходные же дни – он занимался тем же, чем и в будни после работы – пил пиво и сидел в интернете.
Но даже в те времена, когда он был весьма невоздержан в возлияниях, а досуг проводил примитивно – своих коллег, да и вообще всех других лепреконов О’Доннелл сторонился. Что-то в представителях своего народа – отталкивало его. Он сам долгое время не мог понять – что именно. Попивая свой эль, он размышлял об этом с утра до вечера и с вечера до утра. Но никак не мог понять – что же всё-таки отталкивало его в лепреконах?
Тогда, О’Доннелл начал мало-помалу прислушиваться, о чём говорили его коллеги. Так он понял, что абсолютно все разговоры, абсолютно у всех лепреконов, крутились только вокруг четырёх тем. Этими четырьмя темами были – золото, лепреконши, алкоголь и гэльский футбол.
Вообще говоря, обязательных неписанных правил, для каждого лепрекона было только два – одеваться в зелёный костюм с цилиндром и таскать с собой всегда и везде свой горшок с золотом.
Однако, кроме них существовали и другие неписанные правила поведения, что называется – «помельче». Их лепрекону было исполнять не обязательно, но желательно, и даже – очень желательно, чтобы сойти за «своего парня», чтобы было, о чём поболтать с приятелями и коллегами.
Всякий, уважающий себя лепрекон, должен был не только таскать с собой золото, но и болеть за какую-либо команду гэльского футбола, заливать в себя литрами ирландский эль, и до, во время или после работы – обжиматься по углам с лепреконшами, которые работали с ним на одном предприятии. Все лепреконы, коллеги О’Доннелла – всё время расхаживали по заводу с папиросами в зубах, стряхивая пепел прямо на пол. На пол же кидали бычки, даже не затаптывая их ногой, в обеденный перерыв заливались ирландским элем, матерились, отпуская грубые шутки, а когда мимо них проходила лепреконша – непременно старались шлёпнуть её по упругому заду. Лепреконши, которые тоже все курили папиросы – жеманно вскрикивали, словно бы обижаясь, а потом – оборачивались, и с улыбкой стреляли глазами в лепреконов. К чему это приводило – догадаться было нетрудно. Свальный грех – был среди лепреконов обычным делом, даже на рабочем месте.
О’Доннелл же, судя по всему – был единственным лепреконом на заводе, который смутно угадывал во всём этом порядке нечто предосудительное.
Нет, конечно, лепреконши ему нравились, даже очень. Особенна нравилась ему Мэри Келли – чудесная рыжеволосая девушка, самая красивая лепреконша на всём заводе. Но О’Доннелл – не мог подойти к ней просто так. Ему было стыдно и неловко. Более того – он не понимал, почему среди лепреконов – всё устроено таким примитивным, звериным образом?
Ежедневно, на улицах Москвы О’Доннелл видел гуляющие парочки, видел мужчин, которые дарили цветы своим женщинам, видел тех, кто гуляет под ручку в парке, обнимается и нежно целуется. И какая-то смутная обида поднималась в душе Джека, и обида даже не столько на людей, сколько на самих лепреконов. Невольно он задавался раз за разом вопросом – «А почему у нас всё не так?».
Однажды, О’Доннелл набрался смелости, и решил сделать так, как делают люди. Перед работой он заскочил в цветочную лавку, взял там самый большой букет, и как только рабочий день начался – подошёл к Мэри и подарил ей цветы.
Он хорошо запомнил выражение её лица. Мэри стояла с выпученными глазами, смотрела на протянутый ей букет, и в глазах её читалось такое непомерное удивление, будто она только что столкнулась с чем-то невиданным, выходящим из ряда вон. Казалось, что если бы на консервный завод прямо сейчас залетел птеродактиль из Юрского Периода – она и то удивилась бы меньше. А кроме этого – в глазах у Мэри читался страх.
Продолжалась эта немая сцена никак не меньше минуты. Джек стоял с протянутым букетом, а Мэри, словно находясь в ступоре, смотрела на него, полными неподдельного изумления глазами. Наконец, она взяла у него букет, и не сказав ни слова пошла по коридору.
Вдруг отовсюду послышался хохот. Джек оглянулся и увидел, что все лепреконы, находившиеся в тот момент в цеху – смеялись над ним. Особенно зубоскалил О’Брайан, местный шутник и балагур:
– Ну О’Доннелл, ха-ха-ха, ну ты даёшь! – гоготал О’Брайан. – Может ты ещё и жениться на Мэри надумал? Жених!
Хохот достиг своего апогея. Лепреконы хохотали так, что казалось – стены цеха от хохота сейчас рухнут, подобно стене Иерихона. Со всех сторон доносилось – «Жених! И впрямь – жених!».
Джек был довольно высокого роста для лепрекона, и крепко сложен. А потому он без лишних слов, сжал кулаки – и двинулся на О’Брайана.
– Эй! Ты чё это? Ты чё? – крикнул тут же прекративший смеяться О’Брайан¸ и поспешил ретироваться.
А смех между тем нарастал. Любившие позубоскалить (особенно в рабочее время) лепреконы – стали смеяться теперь уже над струсившим О’Брайаном. О’Доннелл же, увидев, что его больше никто не трогает – развернулся, и не сказав ни единого слова, пошёл на своё рабочее место.
Где-то неделю после этого, О’Доннелл на заводе называли женихом. Но он неизменно, каждый раз кидался в драку – и в конце концов от него отстали. Однако же прозвище «Жених», осталось за Джеком навсегда. В глаза называть его так опасались, зато за глаза, лепреконы всегда говорили друг другу – «Жених вчера был?» или «Жених – то где? Заболел что ли?». Лепреконы вообще любили давать друг другу различные прозвища, которые называли «погоняла».
С Мэри Келли – О’Доннелл больше не общался. Пару раз он пытался поговорить с ней, но она старалась всячески его избегать. Да и зоркие глаза коллег – не давали им поговорить, и ни на секунду не оставляли их наедине.
Однако же, чтобы совсем не отрываться от коллектива и не быть белой вороной – О’Доннелл решил перенять привычки своих коллег. Начал нагло клеиться к лепреконшам, курить папиросы и пить эль уже не один, а в компании. Пить в компании, однако – он старался не допьяна. Однажды, его попробовали напоить на корпоративе, но О’Доннелл сымитировал рвоту – и от него отстали. Дескать – «Ладно, пусть хоть понемногу пьёт, главное – чтобы хоть как-то пил».
Так же, О’Доннелл объявил всем на заводе, что болеет в гэльском футболе за московский «Спартак», и даже пару раз ходил с другими лепреконами на матчи. Хотя на самом деле к гэльскому футболу, равно как и к любому другому виду спорта – он был абсолютно равнодушен.
Гэльский футбол – считался чисто лепреконским видом спорта. А потому – для гэльского футбола были созданы отдельные команды и построены отдельные стадионы. В футбольных командах там играли одни лепреконы, и болели за них тоже одни лепреконы. В принципе – люди и гномы тоже могли бы смотреть гэльский футбол, быть его болельщиками и даже ходить на стадионы – но так уж получилось, что на трибунах никого кроме лепреконов не было, и в глазах так и рябило от ярко-зелёных пиджаков и цилиндров.
Специально для лепреконов и был создан чемпионат по гэльскому футболу. Команды в нём, так же, как и команды в обычном футболе – традиционно носили названия советских команд из XX века – «Спартак», «Локомотив», «Торпедо», «Динамо», «ЦСКА» и другие.
Те из коллег О’Доннелла, которые так же болели за «Спартак» – восприняли это известие с энтузиазмом, дескать «наш человек», и в выходные позвали его на матч. О’Доннелл пошёл, и даже выучил несколько кричалок, но всё же, после матча, когда лепреконы отправились в паб пить пиво – он, чтобы не слишком часто ходить на стадионы – сказал, что предпочитает смотреть футбол дома. Лепреконы усмехнулись, назвали его «кузьмичом», но мало-помалу отстали и тут. И дома он действительно стал время от времени смотреть гэльский футбол, хотя болельщиком так и не стал. Делал он это только для того, чтобы было что обсудить с коллегами на заводе после выходных, и чтобы его не заподозрили в том, что на самом деле он не является болельщиком.
Так, О’Доннелл с горем пополам, но всё же стал на работе «своим парнем». Лепреконы считали его несколько странноватым, но в общем и целом – вполне нормальным, таким же, как все.
А вот Джек О’Доннелл – не считал лепреконов нормальными. И хотя постепенно – курить папиросы и пить эль вошло у него в привычку, однако же он всё равно не считал, что ведёт правильный, нормальный образ жизни, равно как и не считал, что нормальный образ жизни ведут другие лепреконы. Но тем не менее, как именно надо жить – он не знал.
О’Доннелл видел, что окружающие его люди, ведут совершенно иной образ жизни, нежели лепреконы. Он видел, как люди общаются на улицах города, как гуляют парках, как занимаются любимым делом – читают книги, в парках играют в шахматы, настольный теннис или бадминтон, гуляют с детьми, а некоторые – устраивают настоящие интеллектуальные игры или диспуты. Словом, О’Доннелл видел, что большинство людей – саморазвиваются, не курят, не употребляют алкоголь и не сквернословят.
Разумеется, видел О’Доннелл и других людей – например тех, кто пил пиво в беседках во дворах. Но даже эти люди – казались ему верхом интеллигентности и здравого смысла, так как поведение пьяных людей – ни шло ни в какое сравнение с поведением пьяных лепреконов.
И вот однажды в выходной, когда Джек О’Доннелл, как обычно валялся на диване и пил ирландский эль – он вдруг, неожиданно даже для самого себя – решил почитать книгу. Решение это так удивило его – что он не смог ему противиться. Джек поставил пивную бутылку в холодильник, и зашёл в интернет на литературный сайт. Так как, все книги в XXVI веке были давным-давно оцифрованы и абсолютно бесплатны – то с чтением проблем не было никаких.
С какой книги начать – О’Доннелл не имел ни малейшего представления. Он не читал в своей жизни, ни одной книги кроме букваря, благодаря которому, собственно, и научился читать и писать.
На литературном сайте – О’Доннелл увидел огромный список авторов, и названий книг. Ни авторы, ни названия эти – ни о чём О’Доннеллу не говорили. Поэтому он закрыл глаза, и наугад ткнул в первую попавшуюся книгу.
Книга эта называлась – «Мёртвые души», и автором был, некий Николай Васильевич Гоголь. Кто такой этот Гоголь, и что это за «Мёртвые души» такие – О’Доннелл не имел ни малейшего представления, поэтому для начала, решил прочитать о нём в энциклопедии. Оказалось, что Гоголь – это такой классик русской литературы, живший 700 с лишним лет назад. Такая древняя, можно даже сказать архаичная книга, сначала не слишком заинтересовала О’Доннелла. Но его заинтересовало словосочетание «классическая литература», и он решил прочитать, что же это за литература такая.
В энциклопедии же, он наткнулся и на другое выражение – «золотой век русской литературы». Словосочетание «золотой век», заинтересовало О’Доннелла ещё больше. Как всякий лепрекон – он любил золото, а потому, при выражении «золотой век» – сразу представил себе огромный город из золота, где все здания сверкали и переливались золотом на солнце, а все жители города – были обвешаны золотыми украшениями с ног до головы.
Джек слышал о том, что «золотым веком» был прозван в уничижительном смысле какой-то из предыдущих веков, кажется, это был век двадцать третий. Однако тут словосочетание «золотой век» – явно обозначало что-то другое.
О’Доннелл так размечтался, представляя себе золотой город, что совсем почти позабыл о своей первоначальной цели. Однако, наконец он вспомнил, что собирался делать в начале, и стал читать в энциклопедии про русскую классическую литературу. Так он узнал про Пушкина, Некрасова, Достоевского, Тургенева и многих других писателей и поэтов.
Но начать он решил всё-таки с Гоголя, так как именно Гоголь попался ему первым на глаза. И О’Доннелл начал читать «Мёртвые души». После «Мёртвых душ» – он уже не мог остановиться, пока не прочитал всего Гоголя «от» и «до». За «Мёртвыми душами» последовали все повести из «Вечеров на хуторе близ Диканьки», за ними – «Миргород», потом – «Петербургские повести», потом – драматургия.
О’Доннелл был в восхищении. Он сразу же увидел, насколько отличается язык классической литературы от того грубого и примитивного языка, на котором говорили он и другие лепреконы.
Прочитав всего Гоголя – Джек не собирался останавливаться. За Гоголем последовал Пушкин, за ним – Лев Толстой, потом – Достоевский, потом – Чехов.
Именно за книгами теперь проводил все выходные дни Джек О’Доннелл. Он больше не пил дома эль, не играл в видеоигры и вообще не занимался ерундой – он только читал, читал и читал.
Постепенно он стал замечать, что от чтения книг его речь стала меняться. Из неё практически исчезла матершина, словарный запас увеличился в несколько раз. О’Доннелл заметил, что разговаривает теперь примерно так же, как люди, которых он видел гуляющими в парках.
К сожалению, изменения в речи О’Доннелла заметил не только он один, но и другие лепреконы. Мало-помалу, он начал замечать, что лепреконы сторонятся его, но пока что не понимал почему.
Но в один прекрасный момент, когда он пытался объяснить что-то нарядчику, тот сказал Джеку:
– Ты чё, самый умный что ли, О’Доннелл? Разговаривай попроще, а то на человека похож, а не на лепрекона!
Джек тут же смекнул, что его речь, его манера выражать свои мысли – становятся слишком подозрительными. Ещё немного – и его тайна будет раскрыта. А потому, чтобы не допустить этого – он стал на работе материться с утроенной силой. Тогда все подозрения – как по волшебству испарились, и Джек снова превратился в этакого «нашенского рубаху-парня».
Так он и жил, работая на консервном заводе, читая книги и пытаясь мимикрировать под общество, которое его окружало. Всё шло по накатанной. Но пришёл день, который полностью изменил жизнь Джека О’Доннелла.
Начинался тот день, как все прочие, и на первый взгляд – ничем от них не отличался. Был обычный вторник, похожий на все другие. Джек пришёл на своё рабочее место, и спокойно проработал два часа до обеда.
Но в обеденный перерыв к нему подошёл О’Брайан (тот самый зубоскал, который прозвал Джека «женихом»), и сказал:
– Слышь, О’Доннелл, пошли отойдём, поговорить надо.
Они пошли по коридору и зашли в один из многочисленных глухих закутков завода. Кода они пришли туда, О’Брайан шёпотом сказал:
– О’Доннелл, сегодня в 7 вечера на собрание приходи.
Джек не понял, зачем об этом говорить шёпотом, так как собрания на заводе проводились регулярно, и потому спросил:
– Какое собрание? Производственное?
– Тшш, тихо ты! – приложил палец к губам О’Брайан. – Какое производственное? Сегодня «Клуб СЛ» собирается!
– «Клуб СЛ»? – удивился О’Доннелл. Никогда прежде ему не доводилось слышать о таком.
– Ну да. «Клуб СЛ», собрание сегодня. Приезжай в 7 вечера на метро «Дмитровская».
– А что такое «Клуб СЛ»? – спросил Джек.
Глаза у О’Брайана, стали круглыми как плошки, и казалось, что они вот-вот выскочат из орбит.
– Как? Разве ты не состоишь в клубе? – спросил О’Брайан почти с ужасом.
– Нет, не состою. – ответил Джек. – Честно говоря, я сейчас впервые о нём услышал от тебя.
О’Брайан пошатнулся. Казалось, что ноги у него в один момент стали ватными, и он вот-вот рухнет на пол.
– Кккккак? – спросил он заплетающимся языком. – Ты даже о нём не слышал?
– Нет, не слышал.
На лбу у О’Брайана выступил холодный пот. Он стоял, смотрел на Джека и молчал. Казалось, что в данный момент, он напряжённо о чём-то думал. Наконец он сказал:
– Вот что, О’Доннелл. Мне сейчас надо отойти, посоветоваться кое с кем. Ты подожди меня тут, никуда не уходи, хорошо?
– Хорошо. – сказал Джек. Вид О’Брайана, его замешательство и неподдельный ужас в глазах – вызывали у Джека даже некоторую жалость.
Между тем, О’Брайан развернулся, и понёсся по коридору с такой скоростью, что на бегу даже потерял свой зелёный цилиндр. Он остановился, поднял цилиндр и побежал дальше.
Прошло около четверти часа. Обеденное время подходило к концу, а Джек всё стоял на одном и том же месте и ждал. Он твёрдо решил ждать до конца обеда, а потом идти работать. Если О’Брайан захочет ему что-либо передать, то передать может и после работы.
Но О’Брайан появился раньше. Он брёл по коридору, и выглядел каким-то осунувшимся и побледневшим. Он подошёл к Джеку и сказал:
– Вот что, О’Доннелл – ситуация получилась нехорошая. Я сказал тебе то, чего говорить не должен был. Я тебе случайно выболтал тайну – и меня за это – по головке не погладят.
– А мне что теперь делать? – спросил Джек.
– Тебе-то? А да! – О’Брайан, казалось, сейчас только и думал, что о своей будущей судьбе, и даже забыл про Джека. – Тебе, О’Доннелл вот что – я переговорил тут с кем надо – и мне сказали, что и сами рано или поздно, собирались принять тебя в «Клуб СЛ». Так что всё остаётся в силе – в 7 часов на метро «Дмитровская» приезжай.
Джек, думая, что разговор окончен, развернулся и пошёл работать. Но О’Брайан окликнул его:
– О’Доннелл!
– Чего? – Джек обернулся.
– Только чтобы никому больше ни слова, понял? НИ-КО-МУ!
– Ладно. – сказал Джек, и пошёл по коридору.
После окончания рабочего дня, он сел в метро, и поехал на «Дмитровскую».
ЧАСТЬ ВТОРАЯ. ХРОНИКА ВЕКОВ ПРЕДЫДУЩИХ
Глава четвёртая. Хроника веков предыдущих. Вторая столетняя война.
А теперь, прежде чем продолжить наше повествование, следует перенестись на несколько веков назад, чтобы подробно осветить все те многочисленные события, которые предшествовали тому 200-летнему юбилею, к которому готовились вся планета готовилась в 2526 году.
XXI век от Рождества Христова, оказался не менее страшен для человечества, чем предшествующий ему век ХХ. И много испытаний выпало на долю людей, живших в те далёкие времена. Именно в двадцать первом веке началась Третья Мировая Война, которая забрала множество жизней, пролила много человеческой крови и принесла людям неисчислимые беды и страдания. Только лишь чудом удалось в веке двадцать первом избежать ядерного апокалипсиса и уничтожения планеты Земля.
Да, миллионы жизней забрала Третья Мировая, но как оказалось впоследствии – была эта война совершенно бесполезной, и не закончилась, по сути, ничем. Победителей в этой войне не было, были только проигравшие. Население всех стран земного шара значительно уменьшилось, многие страны были разорены, а некоторые страны – даже сожжены дотла. Действительно, после Третьей Мировой было и такое, что в запустение приходили территории целых стран. В некоторых местах, где шли особо упорные бои, на месте целых стран, где раньше стояли города и жили люди – теперь была лишь выжженная пустыня.
Экономика многих стран, особенно так называемых «стран третьего мира» – была фактически уничтожена. Есть было нечего, доступа к нормальной питьевой воде – тоже не было. И тогда начался процесс, который историки поздних веков, назвали «Второе Великое переселение народов».
Сотни миллионов людей, собрав уцелевшее имущество – эмигрировали в страны, где всё ещё оставалась какая-никакая экономика, а правильнее говоря – какая-никакая еда и вода.
Эмигранты летели в уцелевшие страны на самолётах, плыли на кораблях, лодках и плотах, ехали на машинах, мотоциклах, велосипедах, или просто брели пешком тысячи и тысячи километров.
Как и всегда – больше всего повезло тем из эмигрантов, которые успели приехать первыми – их приняли. Но настал момент, когда эмигрантов стало слишком много, а они всё прибывали и прибывали. Для начала – страны закрыли воздушное сообщение, перестали принимать поезда и корабли. Но эмигранты всё прибывали.
Тогда-то и началось самое страшное – эмигрантов стали убивать. Страны строили стены на своих границах, минировали дороги, по которым ехали и шли люди, расстреливали прибывающих людей из пулемётов.
Разумеется, всё это не могло понравится тем, кто прибыл раньше. Они не могли допустить такого варварского отношения к своим соотечественникам. И тогда в странах начали вспыхивать восстания, начались гражданские войны. Не одно правительство было скинуто в результате этих войн, не один город был утоплен в крови.
В итоге – лихорадочно начали искать выходы. Где-то эмигрантов попросту вышвыривали из страны, где-то для них строили в чистом поле палаточные городки, а позже – и целые деревни. А кое-где – даже стали давать им жильё на окраинах, в бедных городских кварталах, которые постепенно начали превращаться в трущобы.
Судьбы эмигрантов сложились по-разному – кто-то благополучно приехал и поселился в другой стране, кто-то умер в пути, кого-то убили прямо на границе. Были и те, кто образовал новые поселения. А некоторые развернулись – и ушли куда глаза глядят, искать дальше счастья неведомо где.
Словом, эмигранты всё прибывали и прибывали, и те из них, кто выживал – где-то селились и как-то жили. Только одной категории людей не было среди эмигрантов – тех, кто вернулся в свою родную страну. Ибо такой небывалый в истории наплыв пришлых людей был связан с тем, что страны, из которых они пришли – представляли собой пустыню с воронками от бомб, и идти назад – означало идти на верную смерть. Именно поэтому – назад не возвращался никто, и скоро многие страны – попросту опустели.
Словом, конец приходит всему, и пришёл конец и «Второму Великому переселению народов». По своей протяжённости во времени – оно, конечно, сильно уступало первому, и длилось всего около двадцати, или двадцати пяти лет, однако же –вовлекло в себя гораздо большие массы людей, нежели первое великое переселение народов – счёт шёл на сотни и сотни миллионов человеческих жизней.
Беспокойный двадцать первый век кое-как, с горем пополам подошёл к своему концу, начался век двадцать второй. И вот, в самом начале XXII века, когда только-только успело закончиться Второе Великое переселение народов – началась Вторая Холодная война.
В начале XXII века – мир представлял собой две огромные противоборствующие коалиции. Назывались они незамысловато – Западная коалиция и Восточная коалиция. Западная коалиция включала в себя – всю Северную Америку, северную половину Южной Америки (примерно до юга Бразилии и Уругвая), южную и центральную часть Африки (до Эфиопии и Южного Судана), всю Австралию и Океанию, Японию, почти весь полуостров Индокитай (все государства находящиеся в Индокитае, за исключением Вьетнама – принадлежали к западной коалиции), а кроме того – всю западную и центральную Европу (граница проходила примерно там же – где проходила и в XX веке между западным и восточным блоком, за исключением того, что Германия разделена не была, и целиком относилась к Западной коалиции).
Восточная коалиция включала в себя все остальные территории, и превосходила Западную – как по площади, так и по населению, Она включала в себя Россию, все государства бывшего СССР, всю восточную Европу, почти всю Азию (за исключением Японии и Индокитая), в том числе – Вьетнам, весь Китай, всю Индию, весь Ближний восток и всю Северную Африку, а так же южную часть Южной Америки и многие островные государства, например Индонезию и Филиппины.
Именно так выглядел мир к началу XXII века, именно так выглядели силы противников, перед Второй Холодной войной. В дальнейшем – Вторую Холодную войну, стали ещё и «Второй Столетней войной».
В последнем названии не было ничего удивительного, так как – начавшись в самом начале двадцать второго века, вторая холодная война – закончилась только в двадцать третьем, и продолжалась более ста лет.
Итак, XXI век закончился, и на смену ему – пришёл век XXII. Век, который в дальнейшем стали называть «век холодной войны». Весь двадцать второй век, от первого его года и до последнего – шла холодная война. Люди рождались и умирали, сменялись поколения – а война и не думала заканчиваться. Ощетинившись ядерным оружием, стояли друг на против друга две мировых коалиции, и никто не решался первым начать горячую фазу войны. Историки тех времён, особенно в России очень часто вспоминали «Стояние на Угре», когда две армии так и не решились вступить в друг с другом в бой, и разошлись.
И действительно, однажды холодная война закончилась. Произошло это 6 июля 2203 года. К тому времени – выросло несколько поколений людей, которые родились и всю жизнь прожили во времена Второй Холодной войны, и кроме противостояния между странами – не знали и не видели другой жизни.
Однако же – если в начале XXII века, Холодная война воспринималась почти всеми людьми планеты – как некая данность, как нечто, что необходимо пережить, то к началу века XXIII-го – противостояние шло уже больше ста лет, а потому – всем основательно надоело.
Ближе к концу XXII века – родилось и уже выросло новое поколение людей, с иными взглядами и жизненными ориентирами, которые были прямо противоположны взглядам и ориентирам их отцов и дедов.
Как раз именно в это время, вспыхнул с новой силой, старый как мир конфликт «отцов и детей», только на этот раз – он носил уже практически всепланетный характер. «Дети» обвиняли «отцов» в том, что те поддерживали всю жизнь военный конфликт, не давая людям спокойно жить, и называли их «милитаристами», «убийцами» и «псами войны». «Отцы» же, как и во все времена – говорили о том, что «молодёжь нынче пошла не та», называли «детей» в свою очередь – «безвольными соплежуями», «пацифистами» и «маменькиными сынками».
Слово «пацифист», однако же – прижилось в скором времени и среди самого поколения «детей» – и в скором времени, они и сами стали так называть себя, тем самым сведя на нет тот уничижительный оттенок данного слова, который вкладывало в слово «пацифист» – поколение «отцов».
В это же время, в лексиконе всплыло и другое, давно забытое слово из далёкого XX века – «хиппи». До конца XXII века – они были практически забыты, и никто о них и не думал. Но тут вдруг снова движение хиппи – приобрело всеобщий характер, причём размах этого движения в XXII веке – был гораздо больший, чем веке в XX.
Поколение «отцов» – не пускало к управлению мировыми рычагами и государствами поколение «детей» столь долго, сколько могло. До последнего они цеплялись за власть и мировое господство, до последнего пытались усидеть на своих местах, даже будучи уже дряхлыми стариками. Но все люди смертны, и настал тот момент, когда почти все из поколения «отцов» либо умерли, либо были настолько старыми – что не могли уже ни на что влиять.
И тогда, в конце XXII века – к власти наконец пришло поколение «детей». Конечно, эти люди, воспитанные в духе пацифизма – давно уже никакими «детьми» не были, а сами давно уже были «отцами». Но так как их собственные дети и внуки были точно так же воспитаны в духе пацифизма – конфликт «отцов и детей» сам собой сошёл на нет.
Словом, Вторую Холодную войну – закончили совершенно другие люди, чем те – которые её начинали. С другими взглядами на мир, и на то, как надо жить дальше.
Вторая Столетняя война – завершилась так быстро, легко и бескровно, что многие и потом, спустя долгие годы – просто диву давались. Многие даже не вполне могли себе ответить на вопрос – «Как же такое получилось?». У всех было ощущение, что люди двух коалиций, просто убрали свои руки с ядерных кнопок, встретились для переговоров, подписали нужные бумаги, а после этого – зарыли всем миром «топор войны», выкурили «трубку мира», и зажили всей планетой Земля – в мире и согласии. Так начался век двадцать третий.
Глава пятая. Хроника веков предыдущих. «Золотой век».
Так начался XXIII век. Тот самый век, который в дальнейшей историографии именовался «золотой век». Причём, именовался он золотым веком именно в кавычках. Хотя, поначалу люди, жившие три с лишним века назад – и в самом деле считали, что настало золотое время. Что холодная война, продолжавшаяся больше ста лет – наконец закончилась, и что нынче наступило время мира, добра и человеколюбия, и люди всей Земли – наконец заживут одной большой семьёй.
В реальности же – XXIII веку было суждено стать одним из самых гадких времён в истории человечества. Глобальной Войны в XXIII веке – и в самом деле не было. Однако же – тут и там постоянно вспыхивали военные конфликты, особенно – в так называемых «странах третьего мира». Где-то – их тут же подавляли силой, а где-то они длились годами, и даже десятилетиями. Однако же XXIII век – и в самом деле, стал по большому счёту веком без мировой войны. Но хорошее ли было это время?
Ответ на это был диалектический – то есть, время это было хорошее, но не для всех. И более того – хорошее очень для немногих. Двадцать третьему веку – было суждено стать веком наивысшего расцвета капитализма.
XXIII век – был веком невиданных до этого глобальных проектов, веком строительства гигантских, тоже невиданных ранее зданий и комплексов, веком такой роскоши, которую в прежние века – не могли себе позволить даже короли, веком богатейших людей, когда-либо живших на планете Земля.
Эти люди были богаты настолько, что богатейшие люди предыдущих веков – выглядели на их фоне жалкими бедняками. Состояние богатейших людей «золотого века» – оценивалось не миллионами, не миллиардами, и даже не триллионами чего бы то ни было, в пересчёте на главные мировые валюты того времени, а уже перевалило за квадриллионы. Именно в XXIII веке появился новый термин – «квадриллионер».
Более того – квадриллионов этих, у некоторых из них было не один, и не два, а пару-тройку сотен. А так как – состояние своё эти люди постоянно приумножали, то постепенно в мире стали поговаривать о том, что возможно лет через 20-30, состояние богатейшего человека планеты – будет составлять уже тысячу квадриллионов, то есть – один квинтиллион. Для этого пресса, заранее придумала ещё один термин – «квинтиллионер». Забегая вперёд, заметим – что стать квинтиллионером так никому и не было суждено. На момент начала Четвёртой мировой войны – состояние самого богатого человека Земли – составляло всего лишь чуть больше пятисот квадриллионов, то есть – 0,5 квинтиллиона.
Совершенно естественно, что такое гигантское количество денег – надо было куда-то тратить. И их тратили. Вчерашние мегакорпорации разбухли настолько, что в XXIII веке уже подминали под себя не только целые страны, но даже целые континенты. На корпорации эти – работали за нищенскую зарплату миллиарды человек во всём мире. Население Земли в XXIII веке – составляло около 35 миллиардов человек – а потому, недостатка в людских ресурсах не было совершенно никакого. Если вспыхивали рабочие забастовки из-за низкой зарплаты и плохих условий труда – тут же нанимались тысячи штрейкбрехеров. Только поделать с этим ничего рабочие не могли, так как количество штрейкбрехеров – кратно превышало количество самих рабочих.
XXIII век стал веком максимального расцвета капитализма, благодаря, в том числе, как раз такому большому количеству населения. Да, как уже было сказано – на корпорации работали миллиарды человек, однако же при этом – десятки миллиардов людей сидели без работы. Для «золотого века» – вполне нормальной была ситуация, когда люди стояли «в очереди на работу». То есть ждали, когда кто-нибудь из работников корпорации – уволится, заболеет или умрёт, чтобы встать на его место. Люди ждали своей очереди месяцами и годами, перебиваясь случайными заработками или прося милостыню.
Именно поэтому, в XXIII веке – рабочие забастовки постепенно сошли на нет и полностью исчезли профсоюзы. Люди зубами цеплялись за свою работу, и больше всего – боялись потерять своё рабочее место. Каждый работник знал, что он не является незаменимым, он знал, что на его место – претендуют многие другие, сидящие без работы. Поэтому никто не роптал даже тогда, когда работникам понижали зарплату. Многие были готовы работать даже вдвое больше за те же деньги, лишь бы только не потерять своё место.
И как следствие этого – XXIII век стал для большинства населения планеты – веком нищеты, голода, небывалого разгула преступности и разрешения всего, что до этого запрещалось хоть какими-то законами, и хоть какими-то нормами человеческой морали. В «золотом веке» были узаконены абсолютно все наркотики, в том числе – и самые тяжёлые. Так же, как когда-то были распространены алкогольные магазины – теперь стали распространены магазины наркотические, в которых стало можно купить абсолютно разные наркотики – от марихуаны до героина.
Разумеется, принадлежали наркотические магазины, как и алкогольные – тем же самым корпорациям, которые обеспечивали миллиарды людей работой. Днём финансовые воротилы отбирали здоровье людей на тяжёлой работе, а вечером – отбирали ещё больше здоровья, превращая своих же работников в алкоголиков и наркоманов. В XXIII веке подобные магазины и палатки – стояли прямо возле каждой проходной любого завода или фабрики, чтобы пролетариат мог «отдохнуть и расслабиться» после тяжёлого рабочего дня.
Поначалу – возле проходных ставили по три магазина – табачный, алкогольный и наркотический. Но потом поняли – что это выходит слишком накладно, и вместо того, чтобы нанимать трёх продавцов – гораздо проще нанять одного. Были даже предложения – обойтись и вовсе без продавца – и поставить автомат, который бы выдавал покупателям всё, что нужно. Но подсчитав расходы – пришли к выводу, что автомат и его обслуживание обойдутся дороже. Гораздо дешевле было – поставить возле проходной завода палатку, сбитую из горбыля, и посадить туда одного продавца (или лучше – продавщицу) за нищенскую зарплату. В таких палатках продавалось абсолютно всё, и часто, после окончания рабочего дня, когда возле палатки выстраивалась очередь из рабочих, можно было услышать, что просили у продавца:
– Здравствуйте! Мне дайте бутылку водки.
– А мне – пол грамма крэка.
– Мне – пачку сигарет.
– Мне – пачку чипсов.
– Мне – шприц с героином.
– Мне – тоже шприц с героином.
– Мне – бутылку минералки.
После этого – рабочие расходились по ближайшим дворам, чтобы съесть, выпить, выкурить, вынюхать и выколоть всё, что было ими куплено.
Как правило – жило большинство рабочих рядом с заводами. Для них были построены огромные трущобы, состоящие из жалких лачуг, без света, отопления и канализации. По ночам – эти трущобы, а также – ближайшие к заводам городские улицы – становились оплотом уличной преступности и находиться там – было крайне опасно для жизни и здоровья людей. Рабочие, находясь в состоянии алкогольного и/или наркотического опьянения – постоянно устраивали драки с поножовщиной, убивали случайных прохожих, насиловали женщин. А потом, не добравшись до дома – засыпали прямо на лавочках во дворах, где зимой – благополучно замерзали насмерть.
Кроме того, во дворах и на улицах ночного города – рабочих подстерегали уже настоящие преступники. То есть не те, кто совершал бытовые преступления в состоянии опьянения, а те – кто сознательно жил разбоем и грабежом. Они шныряли ночью по дворам возле заводов целыми бандами, находили рабочих, которые были уже в отключке грабили и убивали, часто – с особой жестокостью. Они вполне могли просто от скуки забить спящего на лавке рабочего арматурой, или же – перерезать ему горло.
Утром каждого дня, работники коммунальных служб, которые в предыдущие века занимались в основном вывозом мусора – в «золотом веке» занимались ещё и сбором трупов. Каждый день, во дворах находили хотя бы двух-трёх убитых, а в выходные и праздничные дни – счёт убитых, замёрзших, или просто умерших от последствий употребления – шёл на десятки.
Из-за огромной численности населения – кладбища в XXIII веке были переполнены, а потому – уже давно предназначались только для зажиточных людей. Простых же работяг – хоронить никто не собирался. Более того – никто не собирался их трупы даже сжигать, потому что для этого – пришлось бы создавать специальную службу, которая занималась бы сбором трупов, и везла их в крематории. А это было бы слишком накладно.
Поэтому, трупы бедных людей в XXIII веке – не хоронили и не сжигали. Дворники, найдя во дворе трупы людей – просто выкидывали их в мусорные баки. После чего – баки вываливали в мусоровозы, и везли их на свалку. А на свалках – трупы людей лежали и гнили, среди груд нечистот.
Из всего вышесказанного становится очевидным – что никаких расследований, по поводу убийств людей – в XXIII веке правоохранительными органами не проводилось. Расследования в «золотом веке» – были такой же роскошью, как и похороны. Расследования проводились только тогда – когда умирал более-менее зажиточный человек. Если же умирал кто-то совсем богатый – расследования проводились с особой тщательностью и к ним подключались уже более серьёзные структуры.
Убийства же простых людей – никто в XXIII веке не расследовал и расследовать не собирался. Ну умер – и умер, туда ему и дорога.
В результате всего этого – бесчисленное количество родителей XXIII века не дождались однажды с работы своих детей, бесчисленное количество детей – не дождались своих родителей, бесчисленное количество жён – не дождались своих мужей. Ушёл человек на работу – и пропал, как и не было его.
Поэтому бедняки «золотого века», когда собирались дома каждый день на работу, вполне осознавали – что именно этот день, может стать для них последним.
Однако – к этой постоянно стоящей за спиной старухе с косой, люди XXIII века относились на удивление спокойно и даже безразлично. Ну то есть поначалу, когда «золотой век» только начинался – такое положение вещей многих шокировало, и не одна женщина горько плакала о не вернувшемся домой мужчине. Но время шло, проходили года и десятилетия, люди рождались и умирали, а «золотой век» и не думал заканчиваться, а только разворачивался всё шире и представал «во всей красе».
Сменялись поколения, и постепенно бедняки XXIII века – закостенели и эмоционально выгорели. Так как все они жили в трущобах, где всё на виду – то со смертью они сталкивались с самого раннего детства, и сталкивались с ней десятки, и даже сотни раз. У многих не вернулись с работы их деды, отцы, дядьки и братья. Те же, кому повезло больше, и чью семью не затронуло подобное горе – всё равно видели, как лишались родных людей их соседи и друзья.
Постепенно, в трущобах выработалось неписанное правило – если человек не вернулся с работы в течении трёх дней, то все знали, что он не вернётся уже никогда. А правилом это стало потому, что всегда происходило именно так.
Если человек не пришёл с работы в тот же день – была надежда, что он проспится где-нибудь под забором никем не замеченный, и вернётся на следующий день. Такие случаи бывали – когда люди возвращались домой через сутки живые и здоровые. И сами эти люди, и их родственники – считали это огромным везением.
Но если человек отсутствовал больше трёх суток, то все понимали, что человека этого – уже нет в живых. В XXIII веке нельзя было просто «уйти в запой» и загулять на несколько дней. Человеку просто не давали загулять всё те же уличные банды. Таковы были реалии «золотого века».
Исключение было лишь одно, и эта история облетела весь земной шар, став среди бедняков XXIII века настоящей легендой. Однажды, в 2257 году – небывалый случай произошёл в трущобах индийского Бомбея. Один бедный рабочий ушёл на завод, и не вернулся ни в тот же день, ни на второй, ни на третий. Все заочно похоронили его, однако прошло целых восемь дней, и вдруг он вернулся в трущобы к своей семье, бледный и трясущийся с дикого похмелья, но абсолютно целый и невредимый.
Родные и друзья сочли это настоящим чудом, и стали расспрашивать рабочего, где он был и что произошло. Оказалось, что, когда закончилась смена – он подобно сотням других работяг пошёл к ларьку, и купил себе несколько бутылок самого плохого и дешёвого крепкого алкоголя. Первую бутылку он выпил тут же, не отходя от ларька, и сразу же открыл вторую. Совершенно очевидно, что от этого он почти сразу же окосел, и пьяный пошёл куда глаза глядят.
Тем временем стемнело, а рабочий всё шёл и шёл шатаясь. На счастье пьяного рабочего, в тот день ему не попались навстречу грабители и убийцы. Более того, дорога была совершенно пуста. Но так как он уже лыка не вязал – то далеко ему уйти всё же не удалось. Впереди, возле дороги была канава, а так как ноги его заплетались, то естественно он споткнулся, и полетел в канаву вверх тормашками вместе со своим пакетом, в котором лежали купленные бутылки с алкоголем.
Тут рабочему повезло сразу в нескольких вещах. Во-первых, сезон дождей в Индии ещё не начался, а потому – в канаве было абсолютно сухо. Во-вторых, хотя в канаве и лежал разный мусор и металлолом – упал он на мягкую траву, росшую на дне канавы, а потому – отделался лишь лёгкими ушибами. В-третьих – пакет с бутылками не упал ему на голову, а приземлился тут же рядом, на траву. В-четвёртых – ни одна бутылка не разбилась и не разлилась. В-пятых – на дне канавы валялось какое-то старое тряпьё и лист железа, а потому – пьяный рабочий залез под лист железа, спрятал под него же свой пакет, накрылся тряпьём и уснул. И наконец, в-шестых – на его счастье, во время сна он не издавал никаких звуков, не разговаривал и не храпел. Это и спасло ему жизнь, ибо в XXIII веке – банды шныряли не только по дворам городских окраин, но и по бомбейскому пляжу на берегу океана, лесопаркам в городской черте и даже по городским свалкам, заглядывая в том числе и в канавы. И если бы рабочий храпел во сне – не приходится сомневаться, что его храп был бы услышан, а потом его достали бы из-под листа железа и убили.
Надо сказать, что и в тот день, и в последующие – мимо канавы, где спал пьяный рабочий, действительно не раз проходили банды преступников, и даже заглядывали в ту самую канаву. Но рабочий спал под листом железа совершенно бесшумно, и потому его не заметили. Когда же наступило утро, рабочий проснулся и увидел – что он жив и невредим. И ещё больше он удивился, когда увидел рядом свой пакет, полный купленных накануне бутылок. Мучаясь с похмелья, он открыл одну из них, выпил залпом и снова сразу же уснул. Когда он проснулся во второй раз – был уже вечер. Он снова открыл бутылку, выпил и уснул.
Так прошло восемь дней. И все восемь дней, рабочий пил, а напившись – спал под листом железа в канаве. Но в конце концов – алкоголь закончился. Причём закончился, по словам рабочего – ночью, когда он проснулся и обнаружил, что все бутылки – пустые. Однако же – он благоразумно продолжал лежать под листом железа мучаясь с похмелья, дожидаясь утра. По его же собственным словам – за ту ночь он испытал больше страха, чем за всю остальную жизнь до этого. Он слышал, как кругом шныряли банды, он слышал звуки выстрелов, он слышал крики несчастных, попавших в лапы преступников и тщетные мольбы о помощи. Но он всё продолжал лежать под листом железа и ждать утра.
Ближе к рассвету – в канаву рядом с ним упал труп зарезанного человека. Но рабочий даже не пошевелился. Он лежал тихо и слушал, как переговаривались стоя на краю канавы его убийцы.
Наконец убийцы ушли, шаги их затихли вдали. Но рабочий ещё несколько часов лежал неподвижно, не издавая ни звука.
Настало раннее утро, скоро люди должны были выйти на работу. И рабочий, мучаясь с похмелья – выбрался из канавы и пошёл домой. Дома – его возвращение сочли настоящим чудом. Ведь все давным-давно считали его мёртвым и заочно похоронили. В тот день – в трущобах был настоящий праздник, на который пришли все родственники, друзья и соседи. Сам рабочий – тоже склонен был считать случившееся чудом и решил, что боги дали ему второй шанс, а потому – на празднике дал семье торжественный зарок, что больше никогда не будет пить.
Новость о его возвращении – скоро облетела все трущобы, потом весь Бомбей, потом всю Индию, а потом и весь земной шар, хотя в СМИ об этой новости не говорили ни слова. И не мудрено – ведь власти запрещали журналистам освещать масштабы преступности, которые были в XXIII веке. В тому времени в СМИ, XXIII век уже называли «золотым веком», а в «золотом веке» – никакой преступности нет и быть не может, в «золотом веке» – всё должно быть всегда хорошо.
***
Таковы были жестокие и безрадостные реалии бедняков XXIII века. Теперь следует сказать несколько слов о людях богатых.
Именно для них, XXIII век – и стал в самом деле золотым веком. Денег, как уже было сказано – у этих людей было столько, что их просто было некуда девать, а отдавать их бедным, чтобы накормить нуждающихся – богачи «золотого века» естественно, не собирались.
Поэтому – XXIII век стал веком масштабных проектов, в которые – богатые люди инвестировали свои деньги, предполагая в дальнейшем – вернуть их с лихвой.
Первым из них – стал проект под названием «Семь чудес света», который стартовал в 2225 году. Дело в том, что в XXIII веке из первоначальных семи чудес света – «в живых» не осталось ни одного. Египетские пирамиды, долгие века, остававшиеся последним сохранившимся чудом света – были взорваны в XXII веке, во времена Второй холодной войны. В 2165 году – группа злоумышленников прокралась ночью к пирамидам и перебила всю охрану. После чего – злоумышленники заложили под пирамидами несколько тонн взрывчатки – и взорвали их. Так погибло последнее из чудес света и более 100 лет мир жил без древних семи чудес. Впрочем, нельзя сказать – чтобы это кого-нибудь так уж сильно беспокоило. В весь XXII век – на Земле шла мировая война, а потому – людям было не до таких «высоких материй», как какие-то там чудеса света.
Но война закончилась, и на смену ей, пришёл «золотой век», ставший золотым веком капитализма. И однажды некому инженеру, имя которого история не сохранила – пришла в голову идея воссоздать все семь чудес света в их первозданном их виде. Он долго занимался изучением семи чудес, исследуя то, как именно и из чего они были построены, делал многочисленные чертежи. Это заняло у него не один год, но наконец – его работа была завершена, и он стал пробиваться к богатым мира сего – дабы представить им свой проект.
Неизвестно, какими именно способами инженеру удалось добиться своего, но в конце концов, он добился-таки аудиенции у богачей, и с чертежами в руках представил им свой проект.
Когда инженер закончил свою презентацию – то с удивлением увидел, что его проект, над которым он работал не один год – никого не впечатлил. Лишь один из богачей сказал ему – «Да вы мечтатель, дорогой друг!», после чего инженера выпроводили вон.
Однако – идея уже была подана, а так как идеи, как известно – «витают в воздухе», то мало-помалу – началось масштабное обсуждение того, что и в самом деле неплохо было бы восстановить в первозданном виде все семь чудес света, так как на этом можно было неплохо заработать.
Дискуссия, как говорят, была довольно долгой и упорной, но наконец победила точка зрения – что за проект всё-таки следует взяться. Многие богачи вложились в нег, но главным инвестором, которому принадлежал контрольный пакет акций – был англичанин Джон Уэйн. Поэтому проект «Семь чудес света» – часто стали называть «Семь чудес Джона Уэйна».
Инженеру же, придумавшему данный проект – разумеется, никто ничего не заплатил, так как никаких авторских прав или патента на это – у него не было. К проекту были привлечены совсем другие люди.
Сам же инженер, когда узнал об этом – пришёл в ярость, однако его праведный гнев никаких результатов не дал, и один человек оказался абсолютно бессилен, чтобы идти против капиталистической машины.
Для начала – инженер пошёл в суд, однако в суде его иск отклонили, так как все суды в «золотом веке» уже давным-давно контролировались финансовыми воротилами и суды выносили лишь те решения, которые были этим самым воротилам выгодны.
Потерпев неудачу в суде – инженер решил поднять общественность и привлечь внимание к своей проблеме в СМИ. Однако СМИ – тоже давным-давно контролировались всё теми же воротилами – и потому, никто ничего об этом печатать не стал.
И в интернете о своей проблеме инженер тоже написать не мог, так как интернет в XXIII веке почти полностью вышел из «массового употребления». Теперь им пользовались лишь немногие, самые элитарные слои населения, а что касается простолюдинов – то для них в «золотом веке» интернета не существовало. В один прекрасный момент он просто исчез, будто его и не было никогда.
Собственно говоря – инженеру оставалось только выйти на улицу, и начать рассказывать о своей проблеме случайным прохожим. Инженер ходил по улицам своего города и кричал о том, что именно он и никто другой – придумал проект возрождения семи чудес света. А в качестве доказательства – совал под нос прохожим свои чертежи.
Совершенно очевидно, что с таким подходом к делу – инженер довольно быстро превратился в своём городе в посмешище и городского сумасшедшего. Над ним смеялись, на него показывали пальцем, а мальчишки – даже швыряли в него камнями.
Наконец инженер понял, что все его попытки что-либо кому-либо доказать – обречены на провал. И сколь бы не было велико негодование – ему придётся смириться с этим. Поэтому вместо того, чтобы ходить по улицам и размахивать чертежами – инженер закрылся дома и стал пить. Когда он пропил все свои сбережения – он попытался устроиться на работу по специальности. Однако, в «золотом веке» была столь большая конкуренция на одно рабочее место, что инженером ему было стать не суждено.
Поэтому он перебивался работой чертёжника, беря на дом заказы. А так как алкогольная зависимость продолжала прогрессировать – то работать ему приходилось исключительно в подвыпившем состоянии, так как в трезвом состоянии – у него сильно тряслись руки, что для чертёжника было недопустимо. Так проходили годы, и инженер катился по наклонной всё дальше, перебиваясь случайными заработками. В итоге – он спился и умер, в нужде и полной безвестности.
А его проект семи чудес света – тем временем шёл полным ходом. К моменту смерти инженера – были уже построены храм Артемиды, Александрийский маяк и Галикарнасский мавзолей. Позже – были возрождены и остальные чудеса. Дольше всего времени, конечно же – заняло строительство пирамид, однако настал день – когда и они были построены.
Разумеется, как только все семь чудес света «возродились» и были открыты с большой помпой – сразу же стартовала мощнейшая рекламная компания, для привлечения туристов, а вокруг чудес света – стали строиться отели, магазины, развлекательные парки. Вокруг чудес света – была создана мощнейшая инфраструктура, начиная с проложенных к ним дорог, и заканчивая находящимися по соседству барами, казино, опиумными курильнями и публичными домами.
И к чудесам света – и в самом деле потянулись зажиточные люди, которые оставляли тут миллионы и миллиарды долларов. Словом – проект «Семь чудес света» – удался на славу, а об инженере, создавшем его – никто и не вспоминал.
Вторым крупным проектом – стал «Оазис». Это был гигантский, невиданных доселе размеров развлекательный комплекс, построенный в пустыне Сахара. «Оазис» был столь огромен, что располагался на территории сразу трёх стран – Алжира, Ливии и Египта. Он протянулся с севера на юг и с запада на восток – на многие сотни километров. Внутри комплекса посреди пустыни – всегда была комфортная температура, поддерживаемая с помощью тысяч кондиционеров, располагались всё те же бассейны, спа, клубы, казино и рестораны. Однако же – всего этого было полно и в других местах, а потому – финансовые воротилы сразу поняли, что следует создать некую фишку, чтобы люди потянулись именно в «Оазис» и оставили там свои деньги.
Решение было найдено довольно быстро – «Оазис» было решено сделать примерно тем же, чем в XX веке была Международная зона Танжер в Марокко. То есть сделать местом, в котором не действовало большинство законов, принятых в мире в XXIII веке.
Так как в «золотом веке» были полностью легализованы наркотики и проституция – этим было уже никого не удивить. Однако, свободный оборот оружия – так легализован и не был, и оно по-прежнему оставалось под запретом для большинства населения. Причина запрета на оружие была проста – сильные мира сего очень опасались, что, если у каждого бедняка появится оружие – рано или поздно они поднимут восстание и сметут существующий строй. Поэтому – гайки были закручены ещё сильнее – и любое огнестрельное оружие было вне закона. Под запретом находились ещё и охотничьи ружья, травматические пистолеты и даже пневматика. Поэтому, единственным оружием, доступным беднякам XXIII века – были, разве что кухонные ножи.
В «Оазисе» же, куда по определению могли приехать лишь зажиточные люди, любое оружие было в свободном доступе и продаже. Кроме того – здесь создали комфортабельные условия для людей, склонных к различным сексуальным девиациям, например – к садизму. В публичных домах «Оазиса» – официально разрешено было мучить, пытать и убивать проституток, не опасаясь каких-либо последствий со стороны закона. Причём девушек, для публичных домов – никто не волок туда насильно. На эту работу каждая из них шла по собственной воле, и с каждой заключался контракт, в котором было прописано, что в процессе «работы» – вполне можно потерять здоровье, остаться калекой или быть убитой. И как ни странно – условия эти отнюдь не отпугивали. Напротив – девушки стояли в очереди, чтобы получить желанное место и стать проституткой в «Оазисе».
Ничего удивительного в этом не было, так как бедняки Африки, равно как и бедняки остальных стран и континентов – были доведены до крайней степени нищеты, и готовы были браться за любую работу, даже если эта работа – несла в себе прямую угрозу их жизни и здоровью. А так как зарабатывали проститутки «Оазиса» – довольно большие деньги, то от желающих устроиться туда работать – не было отбоя.
План сработал и на этот раз. «Оазис» был широко распиарен по всему миру, и очень скоро – в Сахару потянулись на «отдых» маньяки, садисты и прочие мерзавцы всех мастей. Проституток – убивали десятками и сотнями. Каждый божий день – из «Оазиса» вывозили на грузовиках трупы искалеченных женщин – и зарывали их в песках, а то и просто бросали на съедение стервятникам. Но на смену им – приходили всё новые и новые молодые и красивые девушки.
Когда «Оазис» только строили, встал вопрос – что делать с бедуинами, кочующими по пустыне. Сначала их хотели прогнать, однако потом – решено было не трогать их и оставить всё как есть. А сам «Оазис» – сделать со стеклянными стенами. Предполагалось, что это придаст заведению больший колорит – ведь пресыщенные удовольствиями люди – смогут любоваться через стекло на нищих пустынных странников.
Сами же бедуины – мало обращали внимания на «Оазис» и его посетителей, и спокойно устраивали стоянки вблизи него. Однако, впоследствии – это обернулось для них катастрофой.
Как-то раз, один пьяный негодяй, долго наблюдал в окно за бедуинами, расположившимися вблизи. После чего, он, шатаясь подошёл к администраторам «Оазиса» и сказал, что хотел бы «пострелять в бедуинов».
Ему поначалу старались объяснить – что оружие разрешено лишь в пределах комплекса, а стрелять в пустыне – нельзя. Однако он не успокаивался – и снова и снова заявлял, что раз бедуины тут, рядом – значит и стрелять в них можно. Под конец, негодяй достал пухлую пачку денег, и стал расшвыривать банкноты по полу, и кричать, что «готов заплатить любые деньги».
Закончилось это тем, что его всё же отволокли в номер, где он уснул пьяным сном, однако, как и в случае с инженером – идея была уже подана.
Что произошло далее – догадаться совсем нетрудно. На бедуинов была открыта настоящая охота. Теперь из «Оазиса» часто выезжали большие машины, в которых сидели люди с автоматами, ружьями, дробовиками и даже пулемётами. Как нетрудно догадаться – эти вооружённые люди, были просто богатыми посетителями «Оазиса», которые заплатили за охоту на людей.
Наткнувшись на кочевья бедуинов, они набрасывались на людей, и убивали всех без разбора, пока в живых не оставалось ни одного живого человека. А потом садились на машины и уезжали либо назад в «Оазис», либо искать других бедуинов.
Но вслед за этим, чудовищным злодеянием, наступал черёд другого, ещё более омерзительного – о котором, заплатившие за охоту на бедуинов и не подозревали. Наступала пора мародёрства.
Владельцы «Оазиса» не были бы истинными капиталистами, если бы не догадались извлечь из охоты на бедуинов – двойную прибыль. Первая и она же главная прибыль – была от денег богачей, заплативших за охоту. Но она была не последняя.
После того, как убийцы уезжали – мёртвые тела бедуинов, так и лежали посреди пустыни, так как никто и не думал их хоронить. Однако на бедуинах оставалась их одежда, рядом стояли их временные жилища и их верблюды.
Поэтому, правительство «Оазиса» – специально создало бригады мародёров, которые тоже выезжали на машинах в том же направлении, а когда приезжали на место убийства – принимались за своё мерзкое дело. Они стаскивали с трупов бедуинов одежду, тщательно искали в их жилищах ценные вещи и деньги. А так как ни того, ни другого, у бедуинов как правило не было – забирали абсолютно всё. Все их продуктовые запасы, походный скарб и даже самые примитивные орудия, вроде огнива, которым бедуины XXIII века – всё ещё разжигали огонь. Потом всё, что смогли найти – мародёры собирали, навьючивали на бедуинских верблюдов и гнали караван в «Оазис».
В подвалах «Оазиса» – вещи эти тщательно осматривались – тогда решалось, на что их можно употребить. Как правило – одежда бедуинов шла на продажу на различных африканских рынках, где её покупали бедняки. Скарб бедуинов – тоже шёл на бедняцкие рынки. Верблюды же – забивались на мясо и либо шли на продажу в мясные лавки, либо на кухню того же «Оазиса», где частенько в виде экзотики – посетителям предлагали попробовать «изысканные восточные блюда из верблюжатины». И посетители ели верблюжатину и платили за красиво сервированные блюда большие деньги, и никому даже в голову не приходило – что всего пару часов назад – эти верблюды принадлежали людям, которых зверски убили забавы ради.
Иногда, очень редко бывало – что с караваном пригоняли и одного или двух живых бедуинов – которым удалось спрятаться в песках во время налёта. Но если такого человека не смогли найти охотники на людей – их неизбежно находили ищейки – мародёры. Тогда оставшимся в живых – скручивали руки за спиной, и вслед за караваном – пешком гнали в «Оазис», где решалась судьба пленника.
Чаше всего – пленник был молодым мужчиной, которому удалось издали увидеть налётчиков – и спрятаться в песках. Реже – это были подростки и дети от 5 лет. Ещё реже – женщины.
Судьба пленников была разной, в зависимости от пола, но всегда – незавидная. Мужчин, подростков и детей мужского пола – сковывали по рукам и ногам – грузили в машины и отправляли на невольничьи рынки, чтобы продать в рабство, так как рабство в XXIII веке – было абсолютно легальным. Женщинам же везло меньше. Их оставляли тут же, в «Оазисе», где некоторое время хорошо кормили и обучали нехитрому ремеслу древнейшей профессии. Потом их выпускали «на работу» – и работа эта была очень короткой, так как клиенты «Оазиса», как уже было сказано – по большей части состояли из богатых маньяков и садистов. И скоро – женщины, ещё недавно кочевавшие по пустыне со своими мужьями и детьми – были мертвы.
Но как оказалось – эти зверства, были ещё далеко не самым ужасным преступлением хозяев «Оазиса», так как существовали вещи настолько чудовищные – что до них не смогли додуматься даже финансовые воротилы, готовые ради денег абсолютно на всё. Однако же – судя по всему, персонал «Оазиса», совершенно не уступал своим руководителям по своей гнусности, а кое-где – даже превосходил их в этом. Поэтому до той немыслимой вещи, о которой речь пойдёт ниже – додумался не убийца и мародёр, а самый обычный шеф-повар, работающий в одном из многочисленных ресторанов «Оазиса».
Однажды, шеф-повар попросился на приём к руководству, как он сказал – «по важному делу». Поначалу, его не хотели принимать, но повар настаивал, говоря, что придумал «нечто совершенно новое, что может заинтересовать клиентов».
Когда же наконец его приняли – шеф-повар показал руководству «Оазиса» свою небольшую презентацию и рассказал о своей «идее». Он предлагал, «разнообразить меню» в своём ресторане, и предлагал, расширить ассортимент «экзотического мяса». Помимо дичи и верблюжатины – ввести в меню ещё и блюда из человечины. Он утверждал, что если грамотно прорекламировать эти блюда, то от клиентов не будет отбоя, и ресторан заработает на этом очень хорошие деньги. Так же, повар утверждал, что человечина – очень вкусное мясо, если его правильно приготовить, а готовить его – он готов был взяться лично сам.
Тут даже у руководства «Оазиса» глаза на лоб полезли, и повара попытались побыстрее спровадить, сказав ему, однако, что подумают. После чего, руководство «Оазиса» решило связаться с финансовыми воротилами для того, чтобы обсудить эту идею.
Как и в прошлые разы – идея была подана, и в данном случае – воротилы не колебались ни одной минуты. Идея показалась им просто великолепной. Так уж получилось, что от «деятельности» клиентов – в «Оазисе» оставалось довольно много трупов. Во-первых, обезображенные трупы девушек, убитых клиентами-садистами, а во-вторых – трупы бедуинов, убитых теми же садистами во время охоты на людей. Ну как было воротилам отказаться от того, чтобы заработать на этом?
Тут же, в СМИ с размахом стартовала рекламная компания, в которой говорилось о том, что отныне в ресторанах «Оазиса» – в качестве экзотического деликатеса – будет подаваться человечина. Новость эта нашла живейший отклик, и скоро в «Оазис» потянулись новые толпы богатых маньяков.
В договор, заключаемый с девушками, при приёме на работу, был добавлен пункт, что теперь их тело, даже после их смерти является собственностью «Оазиса», и что его хозяева – имеют право располагать мёртвым телом так, как считают нужным.
Тут же поползли слухи, и в скором времени – всем всё стало известно, и все уже были в курсе, что именно будут делать с их телами после смерти. Девушки, устраиваясь на работу знали, что теперь даже умерев – они на найдут последний приют в земле, а будут разделаны, зажарены, поданы на стол ресторана и съедены. Однако же – большинство девушек не останавливало даже это, потому что вокруг царила слишком ужасающая нищета. Трупы бедуинов – так же волокли в «Оазис» для того, чтобы подать их к столу.
Разумеется – долго продолжаться подобная охота на людей не могла. Как известно – слухами земля помнится, и бедуины, всё ещё остававшиеся в пустыне – быстро узнали о том, что творилось вблизи «Оазиса». Бедуины, естественно сразу поняли – что пребывание здесь, вблизи этого непонятного сооружения – несёт прямую угрозу для их жизни, а потому, собрав свой нехитрый скарб и нагрузив его на верблюдов – быстро стали откочёвывать подальше от «Оазиса». Сначала они откочевали на самый юг Сахары, но потом, от греха подальше – многие из них двинулись ещё дальше на юг, вглубь африканского континента.
Словом, прошло некоторое время – и вблизи «Оазиса» не осталось ни одного бедуина. Ближайшие из них – находились за сотни миль к югу. Поначалу – рейды пытались устраивать на юг Сахары, но быстро отказались от этой идеи. Во-первых – клиенты не хотели тратить несколько часов на дорогу туда и обратно, а во-вторых, самое главное – это выходило слишком накладно, ибо приходилось тратить на поездки большое количество бензина. Кроме того, в песках машина могла сломаться, а все, кто на ней ехал – погибнуть посреди пустыни от голода и жажды, а так как клиентами «Оазиса» были люди богатые – руководство опасалось скандала и излишней шумихи.
И тогда в «Оазисе» подсчитали – что если нанять для охоты на людей бедняков, которые будут изображать в пустыне бедуинов, то это выйдет гораздо дешевле, чем каждый раз устраивать рейды за сотни километров.
В итоге – настоящих бедуинов, к счастью для них, оставили в покое, а их место заняли бедные люди, изображавшие бедуинов. С бедняками точно так же заключались контракты, в которых подробно расписывались все риски, а также то, что в случае смерти – их тела переходят в собственность «Оазиса».
И бедняков, как и девушек, устраивающихся в «Оазис» – такая перспектива тоже отнюдь не пугала. Они шли изображать бедуинов целыми семьями, с жёнами и детьми. Их убивали – но на их место сразу же приходили новые бедняки.
Одним словом, недостатка в мёртвых – «Оазис» не испытывал. В его номерах – богатые садисты убивали девушек, а из пустыни волокли трупы целых семей, убитых во время охоты на людей.
Все трупы теперь – попадали сначала в подвалы – где их разделывали, а потом – человечина попадала на кухню к тому самому шеф-повару, который предложил сделать всё это. Если сначала – человечину хотели подавать во всех ресторанах «Оазиса» – то в дальнейшем было принято решение подавать её только в одном ресторане, чтобы превратить этот ресторан в некую «изюминку» для VIP-клиентов, где подавались бы блюда на любой, самый извращённый вкус. Во всех же остальных ресторанах – посетителей, как и раньше, кормили только мясом животных.
В меню ресторана, не таясь писали названия блюд, вроде – «Стейк из человечины с кровью», «Фрикасе из человечины с белыми грибами», «Печень человеческая, тушёная в сметане», «Гирос по-гречески, с человечиной и картофелем фри».
Тут же, в меню стояли рекомендации по напиткам, сопровождающим эти чудовищные блюда. Под «Пасту карбонара с человечиной» – предлагалось сухое белое итальянское вино, под «Тушёную человечину с кислой капустой» – светлый немецкий лагер, а под «Щи из человечины» – русская водка.
И хитрость сработала как нельзя лучше – в ресторане отбоя не было от посетителей. Столик в ресторане приходилось заказывать минимум за два дня. Каждый день, особенно по вечерам – ресторан был битком набит людьми. Публика в ресторане была вполне ожидаемой – это были богатые маньяки и порочные женщины, дошедшие до последней стадии своего развращения. Глаза у всех посетителей – были мутными от многолетнего употребления алкоголя и наркотиков, в них не было даже намёка на какую-либо мысль.
И тем не менее, публика ресторана – всеми силами пыталась корчить из себя аристократов. Мужчины пытались изображать из себя видных интеллектуалов, а женщины – светских львиц.
Сидя за богато накрытыми столами с блюдами из человечины, заливая в себя в немыслимых количествах алкоголь и нюхая кокаин, публика пыталась поддерживать высокоинтеллектуальную беседу:
– Рекомендую вам, дорогая моя, попробовать вот это рагу. Мясо нежнейшее, так и тает во рту. А к нему – рекомендую вам вот это красное вино.
– О, рагу из человечины? Charmant! – отвечала женщина с мутными глазами, убирая носом очередную «дорожку» белого порошка.
Другой богач, надутый как индюк и по-свински пьяный, сидя за соседним столом, говорил своим собутыльникам с важным видом:
– А вы знали, что человечина – очень полезное мясо? Я слышал, что в человечине – много витаминов и микроэ…ээээээ…
И он тут же отворачивал голову от стола, и блевал на дорогой ковёр. Тут же прибегал персонал с тряпками, и начинал возиться около стола, наводя чистоту.
А индюк, проблевавшись, вытирал слезящиеся глаза, опрокидывал в себя залпом полный стакан водки, и продолжал:
– Да, много витаминов и микроэлементов! Недаром говорят, что древние индейцы, приносившие людей в жертву и питавшиеся человеческим мясом – жили до ста пятидесяти лет!
– Да что вы? Правда? До ста пятидесяти лет? – с деланным удивлением восклицали его собеседники заплетающимися языками, совершенно не замечавшие, что минуту назад – их собеседника выворачивало на роскошный персидский ковёр.
В ресторане играла живая музыка, в центре был установлен красивый фонтан. В целом – место выглядело бы довольно приличным и даже респектабельным, если бы не его публика, находившаяся под сильным действием алкоголя и наркотиков, и пожиравшая человечину подобно диким зверям.
Заканчивались такие вечера вполне прозаично – те из посетителей, кто ещё мог хоть как-то держаться на ногах – добредали шатающейся походкой до своих номеров, и валились там спать. Остальные же, напившись до полного бесчувствия – валились спать прямо в ресторане, и их растаскивали по номерам сотрудники «Оазиса».
Словом, этот комплекс посреди пустыни – для многих превратился в настоящий филиал ада на земле. Но сделать с ним – было нельзя абсолютно ничего. Поэтому «Оазис» процветал, и деньги в нём лились рекой, набивая и без того полные карманы финансовых воротил.
Если бы даже кто-нибудь, какой-нибудь одинокий вершитель правосудия и захотел бы напасть на «Оазис» или взорвать его – сделать это было бы абсолютно невозможно. Комплекс стоял посреди пустыни, на крыше его по всему многокилометровому периметру были установлены пулемёты, и все подходы к нему хорошо простреливались. Ночью же – по пустыне шарили десятки прожекторов, поэтому вздумай кто подойти к «Оазису» близко – он неминуемо был бы застрелен на месте.
Поэтому – проходили года и десятилетия, а «Оазис» стоял всё на том же месте, и ничего с этим поделать было нельзя. Таков был «золотой век» во всей красе.
***
Были в XXIII веке и другие «глобальные проекты», о которых трубили на весь мир. Однако – далеко не все из них были реализованы.
Например, одним из таких нереализованных проектов, был проект «Мосты». Идея его была в том, чтобы построить на всём земном шаре гигантские по протяжённости мосты через океаны, чтобы соединить мостами все континенты. Предполагалось, что мосты будут соединять Старый и Новый свет и через Атлантику, и через Северный Ледовитый Океан, кроме того, будет построен мост, соединяющий Евразию и Австралию, огромнейший по своим размерам мост через Тихий Океан, соединяющий Австралию с американским континентом, и даже мост через Индийский океан в Антарктиду, для нужд экспедиций.
Изначально предполагалось, создать вокруг мостов огромную инфраструктуру, особенно там, где люди будут ехать не на поездах, а на машинах. Мосты должны были быть столь огромными по ширине, чтобы на них могли разместиться не только автомобильные и железные дороги, но нашлось бы место и для автозаправочных станций, ремонтных мастерских, магазинов, отелей, в которых люди могли бы остановиться на ночь, и даже целых небольших посёлков.
Все мировые СМИ не один месяц трубили об этой новости, рассказывая о «невероятном прорыве» и «новом слове», однако подсчитав убытки на строительство мостов и инфраструктуры – от этой идеи все стали потихонечку открещиваться. Слишком уж большие затраты предполагал этот проект, а когда он окупится и окупится ли вообще – было не ясно.
Поэтому проект «Мосты» – посчитали нерентабельным и труднодостижимым, а потому – стали понемногу убирать с карт, предполагаемые циклопические сооружения.
От моста в Антарктиду отказались сразу же – ибо сразу было понятно, что он не окупится, так как если даже разрекламировать на весь мир туры в Антарктиду, и создать там, нечто вроде «Оазиса» – туда всё равно мало кто поедет. А те, кто всё-таки решит туда поехать – вполне могут долететь туда и на самолётах.
Далее отказались от моста через Тихий океан. Оно и понятно – мост был слишком велик. Отказались и от мостов в Австралию. И хотя на тот момент на австралийском континенте проживало 150 миллионов человек – это точно так же было признано нерентабельным. А следом – отказались и от моста через Северный Ледовитый океан.
В общем, в конце концов – из всех планируемых мостов – в проекте остался только один – мост из Европы в Северную Америку через Атлантический Океан. Этот мост, так же, как и все остальные – был признан нерентабельным, однако слишком много было людей, которые ухватились за этот проект зубами, и никак не хотели его прекращать. Эти люди были готовы вкладывать свои деньги в этот проект, так как им казалось, что мост через Атлантику – сделает два далёких континента чуть ли не единым целым, и тогда уж… А что именно – «тогда уж…» они и сами не знали.
В итоге – необходимость строительства данного моста вылилась в обширную дискуссию, продолжавшуюся годами. Одни с пеной у рта доказывали, что мост совершенно необходим, другие – так же с пеной у рта доказывали – что он не нужен.
В итоге, дискуссию затянулась, а ни к какому общему мнению никто прийти не мог. Каждый стоял на своём и уступать никто не хотел. Наконец – те, кто выступали ЗА строительство моста – сказали, что разберутся и без тех, кто был ПРОТИВ – и сами построят мост.
Проект стартовал и мост начали строить. Однако и этому мосту не суждено было быть построенным. Разумеется, что при желании – денег тех, кто высказался за строительство – вполне бы могло хватить для завершения проекта, если бы не повсеместно имевшее место в «золотом веке» – тотальное воровство.
Строители и проектировщики экономили буквально на всём, пытаясь надуть своих заказчиков. Те, кто должны были наблюдать за ними – тоже были «в доле» и закрывали на всё глаза. В итоге – материалы для строительства покупали самые дешёвые, делали всё «тяп-ляп», но кое-как – несколько сот километров моста всё же построили за несколько лет.
Однако, поскольку материалы для строительства были низкого качества – вода постепенно разъедала их и сваи моста покрывались ржавчиной.
И тут, примерно лет через 7 после начала строительства, произошло то, чего никто не ждал. А именно – один из первых построенных участков моста взял, да и рухнул прямо в океан, недалеко от побережья Португалии.
Работы по строительству тут же остановили, и начался дикий скандал и шумиха. В то время – СМИ только и трубили об этой новости. Было начато расследование и заведено уголовное дело. В итоге было выяснено – что материалы для строительства были некачественными, работы выполнялись халатно и без соблюдения норм техники безопасности.
Дальше был суд, и несколько человек даже посадили. Впрочем – посадили в основном найденных тут же «козлов отпущения», коими стали простые рабочие и некоторые из инженеров, занимавшие невысокие должности. Однако главные виновные – как и всегда было в «золотом веке» – избежали ответственности, заплатив кому надо и сколько надо.
На этом проект «Мосты» был закрыт. Строительство остановилось, работы никто не продолжал, а те, кто выступал против строительства моста – вдоволь нахохотались над теми, кто выступил за него и потратил на это свои деньги. В итоге – недостроенный мост стоял и ржавел посреди океана, и каждый год – под воду уходили всё новые и новые его участки.
Впрочем, нельзя сказать, чтобы проект «Мосты» закончился совсем уж ничем. Да, глобальных изменений от него не было, тем более – что проект окончился полным провалом. Однако же, некоторые страны, услышав об этом проекте – решили в частном порядке построить свои мосты.
И как ни странно – строительство небольших, по сравнению с океанскими гигантами мостов – окончилось гораздо успешнее. Россия – построила мост через Татарский пролив, соединив Сахалин с континентом. Япония – соединила мостами все свои острова, а также – построила совместно с Китаем мост, соединявший эти две страны. Был построен мост, соединявший Китай и Тайвань, другой мост соединял Индию и Шри-Ланку, а также мост, соединявший Мадагаскар и континентальную Африку.
Но самый, пожалуй, грандиозный проект – был предпринят страной, под названием Индонезия. Население этой страны, расположенной на многочисленных островах – к 23 веку составило почти 800 миллионов человек. Самые же населённые острова при этом – находились отнюдь не рядом друг с другом, а за сотни, и даже тысячи километров.
И власти Индонезии, услышав о проекте «Мосты» – задумали свой проект, и решили соединить мостами все острова своего государства. Стройка длилась долго – без малого 20 лет, однако в конечном счёте – строительство мостов в Индонезии увенчалось успехом, и все острова этого государства – были действительно соединены мостами между собой.
Глобальный же проект «Мосты» – потерпел полное фиаско, и с тех пор – проектов такого масштаба на Земле больше не было вплоть до XXIV века, когда к власти на Земле пришли коммунисты.
***
Следует сказать пару слов и об общественно-политической жизни «золотого века». Сильные мира сего, для управления населением подконтрольных им стран и континентов – не придумали в XXIII веке ничего нового. Они всего лишь использовали старинную римскую формулу – «разделяй и властвуй».
Простых людей, чтобы они не объединились и вдруг не восстали – старались раздробить на как можно большее количество групп и подгрупп, а эти самые группы и подгруппы – перессорить между собой. Для этого – простым людям подпихивались нужные взгляды, строго противоположные взглядам других простых людей.
Разбивали людей на группы тоже крайне незатейливо. Как и раньше – большую роль в раздроблении играли цвет кожи, национальность и вероисповедание. Однако же – в XXIII веке пошли ещё дальше, и перессорили между собой не только разные страны и народы, но даже жителей одной страны, одной национальности и вероисповедания.
Например, в России времён «золотого века» – приобрёл большую популярность вопрос, который давно был забыт, и не употреблялся уже долгие века – «Ты какого же роду-племени?». Причём принадлежность к племени – имела в данном вопросе ключевое значение.
Иными словами – русские, в XXIII веке перестали быть единым народом, с единой историей, культурой и религией. Русский народ, посредством пропаганды удалось раздробить на племена, враждовавшие и даже воевавшие между собой.
Когда надо было указать свою национальность, например в переписи населения, никто уже не говорил, что он «русский». Вместо этого, человек, которого спросили о его национальности, отвечал, что он «кривич», «вятич», «дрегович», или представитель какого-нибудь другого племени.
В следствии этого – в каждой области России того времени, существовал свой учебник истории, в котором главный упор делался именно на древние времена. Учебник этот, как правило – состоял из псевдоисторических рассказов, сказок и легенд, в которых рассказывалось о племени, к которому относили себя люди данной области. Люди данного племени, разумеется – показывались как единственные хорошие, благородные и честные люди, которых окружали невежественные, грубые и злые враги.
Ниже приведён типичный пример из учебника XXIII века, написанного для школьников из племени вятичей, к коим относило себя население Московской, Калужской, Тульской и Рязанской областей:
«Племя вятичей – является древнейшим из славянских племён. Недавние археологические находки подтверждают, что уже в далёкие времена – племя вятичей в своём культурном развитии стояло значительно выше, чем соседние ему племена. Уже к девятому веку нашей эры, на землях вятичей было создано развитое государство, города в землях вятичей – были только с каменными стенами, а внутри городов – люди жили в каменных домах. Город вятичей девятого века – ничем не уступал городам Римской империи, а столица вятичей – Москва, была по населению больше, чем сам Рим. В Москве того времени – были построены библиотеки, театры, музеи. В Москве, даже в крестьянских домах уже был водопровод. Существовали, впрочем, и общественные бани – термы, после позаимствованные у москвичей римлянами. В термах – москвичи обсуждали последние новости, читали газеты и устраивали философские диспуты. Москва имела хорошо обученную и прекрасно вооружённую армию с многочисленной кавалерией. Москва – считалась главным культурным и экономическим центром не только земель вятичей, но и всей Древней Руси, а в Европе с Москвой – могли бы посоревноваться разве что Рим и Константинополь, которые, впрочем – сильно уступали Москве как в культурном плане, так и в плане развития городской инфраструктуры.
Другие города вятичей – Калуга, Тула и Рязань – были меньше Москвы, однако же – тоже были очень развитыми городами. Стены их так же были каменными, в городах был проведён водопровод, а население их – никогда не знало голода.
Окружали же земли вятичей – дикие леса, населённые дикими людьми, которые, как писал летописец Нестор – «Жили звериным образом». К западу от вятичей жили кривичи, к юго-западу – радимичи, к югу – северяне. У всех этих племён каменных городов не было, да и вообще не было никаких городов. Жили они в лесных землянках, занимались охотой, а мясо убитых зверей – всегда ели сырым, так как не умели разводить огонь. Все они – были жестокими и нецивилизованными варварами, ходили в звериных шкурах, у них не было бань, а все орудия труда – были каменными, как у первобытных людей. Всё время посягали эти дикие племена на земли вятичей, не раз приходили в их земли, разоряли деревни и убивали людей. Однако из-за огромной разницы в культурно-промышленном плане – вятичи всегда побеждали своих врагов, так как дикие и неорганизованные племена с каменным оружием – не могли ничего противопоставить хорошо вооружённой пехоте и кавалерии вятичей.
Недавно, при раскопках, археологами была найдена летопись девятого века, в которой рассказывается о быте вятичей и соседних племён. В частности, в летописи говорится:
«А и жило в те времена на наших землях племя вятичей. Жили вятичи в Москве-граде, да в Калуге-граде, да в Туле-граде, да в Рязани-граде. Жили вятичи ладно и города каменные строили, книги читали да в театры ходили. А и жили возле вятичей племена дикие да опасные, и не было у тех племён ничего, а и жили они в землянках лесных, а и на вятичей мирных войною ходили. А и вятичи мирные шли на ворогов-супостатов своих, а и били вятичи своих ворогов смертным боем, а и бежали вороги в страхе от вятичей…»
(с) Учебник истории для средних и старших классов школы под ред. А. М. Горохова, издательство «Русский топор», Москва, 2248 год.
Несмотря на всю эту несусветнейшую ахинею, с закосом под славянские былины – школьники этих четырёх областей учились именно по этому учебнику, и именно такие вот пассажи – и принимали за чистую монету.
Надо ли говорить, что такие же учебники издавались и для других областей, только с небольшими изменениями. Для кривичей, радимичей, дреговичей или любых других племён – издавали тот же самый учебник истории, меняя лишь названия племён и городов.
Например, в тех областях, где население считало себя кривичами (Тверская, Псковская и Смоленская области) – в том же самом куске из учебника и в отрывке из псевдолетописи – Москва заменялась на Тверь, а вятичи – на кривичей. Остальной же отрывок – оставался почти таким же слово в слово. Только в учебниках для кривичей сообщалось, разумеется – что каменные города и развитая культура – были только у племени кривичей, а все остальные племена – были дикими нецивилизованными варварами.
Разумеется, ни к чему хорошему привести такая практика не могла. А она и не привела. Ибо стоило в XXIII веке, встретиться где-нибудь, например жителям Московской и Тверской областей, или же – Рязанской и Смоленской, это неизбежно приводило к конфликтам.
Люди того времени, предпочитали не держаться по одиночке, а сбивались в группы по племенному признаку, и напоровшись случайно на «вражеское племя», неизменно принимались выкрикивать оскорбления и лезть в драку. Особенно часто – подобные конфликты возникали на границах областей.
Если группа вятичей, например, натыкалась где-нибудь на группу кривичей (ну хотя бы в клубе на деревенской дискотеке), то неизменно начинали выкрикиваться ругательства, подражавшие древнерусской речи, как-то:
– Эй вы, кривичи! Вот то-то и оно, что кривичи! Черти кривые, косые! А ну идите сюда, супостаты! Каиново отродье!
Ругательства эти, обильно сдабривались трёхэтажным матом и прямыми оскорблениями «вражеского племени». Кривичи, в свою очередь – не оставались в долгу – и точно так же выкрикивали ругательства в адрес вятичей. Дальше – обе толпы лезли в драку, а драка – довольно часто перерастала в поножовщину, с увечьями и убийствами.
Поэтому – простые люди «золотого века» – предпочитали не выезжать за пределы своих областей, и сидели на одном месте всю свою жизнь. Со временем – всё это неизбежно должно было привести к тому – что люди соседних областей – говорили бы на разных языках, а в дальнейшем – привело бы и к разному менталитету, разной культуре, разному укладу жизни. Но пока что – для этого прошло слишком мало времени.
Во всех других странах – происходило то же самое, но часто – с ещё более серьёзными последствиями чем в России. Люди усиленно дробились на группы и подгруппы, неизменно настроенные враждебно друг к другу.
Особенно хорошо это удавалось в тех странах, где население от региона к региону и в самом деле сильно различалось и имело разные языки и культуру. Например, в Индии – подобная практика «дробления» – вылилась в полноценную гражданскую войну, с миллионами убитых и покалеченных.
Многие страны перестали существовать как единое целое и подробились на большое количество областей, республик или штатов – с местными князьками во главе. В разных странах тут и там – вспыхивали локальные конфликты и междоусобицы, часто перераставшие в резню, с убийством мирных жителей. Деревни, посёлки и целые города, захваченные неприятелем – уходили в небытие, прекращали своё существование и сжигались, а население при этом – вырезалось под ноль. Те же – кто эту самую раздробленность устроил – сидели при этом, и в ус не дули. Подобное положение вещей – было им только на руку.
Таков в общих чертах был «золотой век» истории человечества, который для большинства населения планеты – стал веком ужасающей нищеты и ужасающего же бесправия. Но время шло, проходили года и десятилетия, и вот мало-помалу – двадцать третий век подошёл к концу, и на смену ему пришёл век двадцать четвёртый.
Тогда-то всё и началось.
Глава шестая. Хроника веков предыдущих. Фёдор Щукин
Фёдор Фёдорович Щукин родился 12 апреля 2286 года, в небольшом городе Алзамай Иркутской области (ныне – город Щукинград, Щукинградская область, РСФСР).
Отец его работал на заводе, мать – медсестрой в больнице. В семье было трое детей, Фёдор – был средним. У него был старший брат и младшая сестра. Семья была бедной, все пятеро – ютились в однокомнатной квартире.
Маленькие города, в «золотом веке» – представляли собой очень печальное зрелище. Все многоквартирные дома в таких городах, были построены в лучшем случае – в XXI веке, ещё до начала Второй столетней войны. Однако, что было самым удивительным – были в таких городах, даже так называемые «хрущёвки», построенные ещё в XX веке.
Словом – дома все были старые и ветхие, многие из них – давно нуждались в капитальном ремонте, а большинству домов – не помог бы никакой ремонт, их можно было только сносить – и строить вместо них новые. Но никто в XXIII веке – этим заниматься, естественно, не собирался.
В домах, которые стояли на одном месте уже 200-300 лет – особенно тяжко было зимой. В щелях стен гулял ледяной ветер, нередко – от морозов лопались батареи, окна кое-как заклеивали на зиму газетами и поролоном – но это помогало мало. Холод в квартире был просто собачий. По квартире зимой – ходили в лучшем случае в свитерах, а то и прямо в зимних куртках. Ночью спали всегда в шапках.
Жизнь в городе – ничем не отличалась от жизни в миллионах других городов по всему миру. В городе была беспросветная нищета, люди кое-как сводили концы с концами, многие люди сильно пили. А так как в России, как и во всех других странах – в XXIII веке были легальны абсолютно любые наркотики, то естественно – многие употребляли и их. Как и везде – на улице крайне не рекомендовалось оставаться после наступления темноты, потому что опять-таки «как и везде» – по Алзамаю шныряли банды.
Многих друзей, родственников и знакомых похоронила за это время семья Щукиных – многие из них не вернулись с работы домой и были зарезаны ночью в подворотне. Однако самой семье Фёдора повезло – его отец, Фёдор Степанович – был малопьющим, выпивал в основном по праздникам и только дома, а потому – дожил уже до 60 с лишним лет, чего подавляющему большинству мужиков – не удавалось.
До поры до времени жили ещё более-менее, хотя и бедно, но не голодали. В народе такой образ жизни назывался – «от получки до получки». Но вот однажды, пришла в их дом беда.
В то время – Фёдору исполнилось 15 лет, он учился в десятом классе. Было зимнее январское утро 2301 года. Двадцать третий век подошёл к концу – и на смену ему пришёл двадцать четвёртый.
Новогодние праздники закончились. Понурые люди, многие из которых были с помятыми от похмелья лицами – выходили на улицу и разбредались кто куда.
Так и в семье Щукиных – квартира пустела до второй половины дня. Взрослые шли на работу – дети в школу. Фёдор с младшей сестрой – отправились в школу, их мама – в больницу, а отец и старший брат – на работу. Брат Фёдора, Иван Фёдорович – был старше его на 4 года, а потому – уже закончил школу и работал на том же заводе, что и его отец.
Когда вечером отец и брат Фёдора пришли вечером с завода домой – вся семья увидела, что лица их – стали бледными от ужаса.
– Надя… – сказал Фёдор Степанович, обращаясь к жене. – Надя, завод закрывают.
Надежда Сергеевна – как раз накрывала на стол к ужину. Но услышав новость, она даже не села, а прямо-таки рухнула на стул. В изнеможении глядя на мужа она спросила:
– Как же так?
– Сказали, что этот год – последний. До декабря работаем, а со следующего года завод закрыт.
– А почему его закрывают? Почему? – допытывалась Надежда Сергеевна.
– Почему? Сказали – «не-рен-та-бель-но».
– Ах нерентабельно?! Нерентабельно?! – вскипела Надежа Сергеевна. – А о нас они подумали?! Нам-то жить на что?!
– Надя, чего ты на меня кричишь? – грустно улыбнулся Фёдор Степанович. – Не я же закрываю его.
Гнев Надежды Сергеевны прошёл так же быстро, как и начался. Глаза её наполнились слезами, и она тихо спросила у мужа:
– Как жить-то будем, Федя?
Её вопрос был вполне резонным. Ремонтно-механический завод – был единственным промышленным предприятием в Алзамае, именно он и давал большинству населения города работу. Однако, как и везде в XXIII веке – количество народу на одно рабочее место превышало все разумные пределы, и чтобы устроиться работать на завод – многие годами ждали своей очереди. Люди, как и везде – держались за своё место руками и ногами, были готовы работать сверхурочно за те же деньги, были готовы работать даже за пол зарплаты.
И вот – завод закрывали. Слушавший этот разговор Фёдор – живо представил картину – как вулкан, выплёвывает из жерла лаву во время извержения, так и завод, выбрасывает, выплёвывает, из себя на улицу сотни людей, которые отныне – станут безработными. Он представил – к каким последствиям для города это приведёт. Разгул преступности – и так был немалый, но, если закроют завод – можно было не сомневаться – это приведёт для города к катастрофическим последствиям.
Фёдор явно представил десятки банд, которые орудуют уже не под покровом ночи – а и среди бела дня. Он представил, как бандиты врываются в дома, убивают людей и выносят всё имущество. Он представил, как на улицах – день и ночь гремит стрельба и идёт криминальная война за сферы влияния. Словом – он представил Алзамай, который погружался в хаос.
Эта трагедия маленьких городов – была в «золотом веке» повсеместной и была известна всем. То тут, то там – закрывались предприятия, признанные нерентабельными, то тут, то там – тысячи людей оставались без работы, и соответственно то тут, то там – города погружались в пучину криминальных войн.
Очень сильно везло тем городам, в которых помимо единственного предприятия, было ещё что-нибудь, например большой водоём. Тогда был шанс – пережить закрытие предприятия относительно бескровно. Так, например, было в Байкальске – другом городе родной Фёдору Иркутской области. В Байкальске – несколько лет назад был закрыт единственный бумажный комбинат, однако в силу близости к городу Байкала – хаоса и настоящей трагедии в городе удалось избежать. Когда комбинат закрыли – большинство работавших там людей – стали ловить рыбу, а многие – и браконьерничать. Так и стали выживать.
Зато на всю страну отгремела трагедия другого сибирского города. Город Калтан был расположен на Кузбассе, и почти всё его население – работало на единственной в городе шахте. Но вот, около 10 лет назад, в 90-х годах XXIII века – шахта была закрыта. И Калтан сразу же, как по щелчку – превратился в арену для боевых действий местных ОПГ. Причём это были именно «боевые действия» в прямом смысле этого слова. В городе шла настоящая война.
Однако у Калтана тоже было одно преимущество. Рядом с ним находился крупный город – Новокузнецк. Туда-то и побежали мирные жители, спасая свои жизни, а банды между тем – продолжали войну. В итоге – мирные жители или убежали из города, или были убиты в ходе криминальных разборок. Когда же война за передел собственности между бандитами в Калтане, была наконец закончена – внезапно все увидели, что делить уже больше и нечего, ибо в городе – ничего собственно и не осталось. В ходе войны ОПГ – город был практически стёрт с лица земли.
В итоге – даже после окончания войны, мирные жители в Калтан так и не вернулись, ибо возвращаться на пепелище, где ничего нет и никогда уже не будет – желающих не нашлось. Бандиты же, увидев, что в ходе своей войны уничтожили город – тоже уехали оттуда и перебрались в другие города. В итоге – Калтан превратился в настоящий город-призрак. Немногочисленные, оставшиеся целыми здания – разрушались, улицы зарастали травой, а там, где ещё недавно ходили люди – теперь бегали дикие звери. Такова была трагедия этого сибирского города, к которой привело то, что в Калтане закрыли последнюю шахту, и тысячи людей остались без работы.
Впрочем, в Алзамае – всё обещало быть ещё хуже для жителей, ибо Алзамай не обладал преимуществами Байкальска и Калтана. Возле Байкальска – находилось огромное озеро, кишащее рыбой, а от Калтана – было совсем недалеко до крупного города. Ни того ни другого – в Алзамае не было, а областной центр – находился от него на расстоянии более шестисот километров. Поэтому – закрытие последнего завода, грозило обернуться для города настоящей катастрофой.
Между тем, Фёдор Степанович ответил жене:
– Они посоветовали, после того как завод закроют – всем из города уезжать.
– Как уезжать? – не поняла Надежда Сергеевна.
– Ну вот так – уезжать. Они сразу предупредили, что в Алзамае скоро – совсем худо станет, советовали продавать всё, да уезжать из города.
– Уезжать?! Как это уезжать?! – возмутилась Надежда Сергеевна. – Вот так всё продавать и уезжать?!
– Да, вот так продавать и уезжать. А что ещё делать, если работы нет?
– И куда же нам ехать?
– Ну они советовали в Иркутск ехать. Или если не хотим в Иркутск – в Красноярск, Барнаул, Новосибирск, Новокузнецк. Это города крупные, там без работы никогда не останешься. Даже если там какие предприятия и закроют – всё равно их много, все не позакрывают.
– И что на заводе об этом говорят? – спросила Надежда Сергеевна.
– Говорят-то? А что говорят? Что тут скажешь? Закроют – значит закроют. Что мы сделать-то можем? Не можем же мы заставить их завод не закрывать?
– И что же? Все собираются уезжать?
– Собираются. А как иначе-то?
– И куда мы все отсюда поедем?
– А кто куда. В разные стороны разъедемся – Россия большая. У кого где родственники есть – тот туда и поедет. Вон Витька Петров говорит – что у него родственники в Ставрополе есть, поэтому, говорит – «на юга подамся». А у Семёныча – аж в самой Москве, оказывается, родственники есть. Вот в Москву ехать собирается.
– Да, Москва… Где она, Москва-то? – сказала задумчиво Надежда Сергеевна, глядя из окна их пятиэтажки. – А у нас ведь Федя, никого нигде нет, родственников – то.
– Ну так может и хорошо, что нету. Раз нету – значит все пути нам открыты. Мы куда хочешь можем поехать! Соберёмся, и поедем в Иркутск! А не в Иркутск – так куда захотим! – с оптимизмом говорил Фёдор Степанович, пытаясь успокоить жену.
Однако, помогло это мало. Надежда Сергеевна понимала, что им с тремя детьми, пусть уже и взрослыми – придётся совсем скоро срываться и ехать не пойми куда, чтобы там как-то продолжать жить.
Словом, начало нового, XXIV века – стало для Алзамая роковым. Всё получилось так, как и предсказывал Фёдор – город начал погружаться в хаос. Разница была только в том, что как оказалось – в хаос город погрузился не после закрытия завода, а гораздо раньше.
После того, как все узнали, что через год завод закрывают – в городе сразу же начался невиданный доселе разгул преступности. А вместе с тем – в город сразу же откуда ни возьмись пожаловали какие-то непонятные и явно нездешние люди, которые стали скупать у местных жителей их жилплощадь. Цену эти люди предлагали очень маленькую, раза в 3, а то и в 4 ниже рыночной стоимости квартир. Да ещё предлагали её они с таким видом, будто делают жителям одолжение. Мол – «Продавай, пока хоть какую-то цену даём, скоро и этого не будет – придётся просто так бросать жильё и уезжать». И многие действительно продавали жильё, и разъезжались кто куда, не дожидаясь закрытия завода.
Семья же Щукиных решила – оставаться в Алзамае до последнего. Мол – вот когда закроют завод, тогда и подумаем, что и как. Уехать планировали уже после закрытия завода – следующей зимой или ранней весной.
Однако – сбыться этим планам было не суждено. Начало XXIV века – обернулось для семьи Щукиных настоящей катастрофой.
Началось с того, что старший сын – Иван Фёдорович, вдруг начал пить. Неизвестно, стало ли причиной его пьянства закрытие завода, или что-то другое, однако же факт остаётся фактом – до этого малопьющий Иван начал пить по-чёрному.
Деньги на водку уходили стремительно, и вся зарплата Ивана – пропивалась им же самим. На работе, обо всём этом, естественно, знали, но не увольняли его. Да и зачем – все знали, что завод в любом случае скоро закроют.
Дома у Щукиных каждый день были скандалы. Ивана ругали на чём свет стоит. Особенно кричал на него Фёдор Степанович. Он кричал, что Иван – подвёл всю семью, и запил именно в такой момент, когда деньги нужны как никогда, в тот момент, когда совсем скоро придётся продавать всё что есть и уезжать неизвестно куда. Иван в свою очередь кричал – чтобы его оставили в покое и уходил на улицу пьянствовать.
Атмосфера в семье была накалена до предела, а Иван между тем – спивался всё больше и больше. Спаивание происходило это у него какими-то семимильными шагами, и тот путь, на который другим требуются годы и даже десятилетия – Иван пролетел стремительно. Через три месяца такой разгульной жизни – он уже превратился в настоящего запойного алкоголика.
Продолжалось всё это около пяти месяцев. Зима закончилась, заканчивалась и весна. На дворе стоял май. Развязка наступила разом – одним майским вечером, Иван не вернулся домой ночевать. Не вернулся он ни на следующий день, ни через день.
В семье сразу всё поняли. Как говорилось ранее – в «золотом веке», с его разгулом уличной преступности, «не прийти домой» – почти наверняка означало смерть.
Щукины написали заявление в правоохранительные органы, Ивана начали искать. Нашли его труп только через неделю – кто-то проломил Ивану голову, и скинул его тело в канализационный люк.
Ивана похоронили, и стали жить как прежде. Надо сказать, что несмотря на то, что все Ивана любили и жалели – но от его смерти – почувствовали даже некоторое облегчение. Слишком уж тяжёлые времена предстояли впереди, а пьянство Ивана – только усугубило бы ситуацию.
Прошёл месяц. На дворе был конец июня. Фёдор закончил десятый класс, его сестра Света – девятый. Света решила не идти в десятый класс, ушла из школы после девятого. Планировала поступать в техникум. Фёдор же – корил себя за то, что пошёл в десятый. Теперь ему предстояло доучиваться в школе ещё один год, чтобы получить аттестат о полном среднем образовании. Но заканчивать школу – ему предстояло не в Алзамае, а где-то ещё, на новом месте. Зачем ему нужен был этот аттестат, и будет ли он учиться дальше – Фёдор не знал, однако мать с отцом уверяли его, что закончить школу и получить аттестат – необходимо. Надежда Сергеевна говорила ему – «Иди Федя, в одиннадцатый класс. Иди, не думай. Что же мы с отцом – немощные какие, не прокормим вас со Светой? Иди, тебе школу надо закончить».
И тут, в конце июня, в семье Щукиных случилась новая трагедия – умер Фёдор Степанович. После смерти Ивана он сильно сдал, то и дело жаловался на сердце. Видимо, он так и не смог смириться с пьянством и ранней смертью своего первенца, на которого в семье возлагали большие надежды.
После смерти Ивана – Фёдор Степанович стал неразговорчив, замкнулся в себе. Он мог часам смотреть в окно, не произнося при этом ни слова. В семье видели, что ему очень плохо – и старались лишний раз не трогать Фёдора Степановича и не беспокоить.
Однако же – Фёдор Степанович по-прежнему ходил на работу, дорабатывая последний год существования завода. Что делать после его закрытия – он решительно не знал. И всё чаще и чаще жаловался на сердце, всё чаще щупал у себя пульс, всё чаще сидел у окна и о чём-то думал.
И вот, как гром среди ясного неба – инфаркт. Однажды вечером, когда все ложились спать, Фёдор Степанович сказал, что ещё немного посидит у окна. Никто ему не противоречил, все, как и всегда решили, что ему надо побыть одному. Вся семья пошла спать, а Фёдор Степанович всё так же сидел на стуле и смотрел на ночную улицу.
Таким его и нашла семья утром – он всё так же сидел на стуле у окна. Мёртвый. Ночью у Фёдора Степановича отказало сердце.
Это была настоящая трагедия. Надежда Сергеевна, после смерти мужа – впала в какую-то прострацию. Она молча ходила по квартире как привидение и ничего не делала. Фёдор и Света не тревожили мать, и сами стали вести домашнее хозяйство.
Прошёл месяц после смерти Фёдора Степановича. Заканчивался июль. Надежда Сергеевна всё так же бесцельно бродила по квартире. Но вот однажды, она вдруг поймала себя на том, что так же, как и её ныне покойный муж – сидит у окна и смотрит на улицу.
Это подействовало на Надежду Сергеевну так, будто ей на голову выплеснули ведро холодной воды. Она словно увидела себя со стороны и сразу же пришла в себя.
«Да что же я делаю-то?! – вдруг подумала Надежда Сергеевна. – Я же мать, у меня же двое детей! Лето через месяц закончится, а нам надо ещё квартиру продать, переехать неизвестно куда, Федю в школу устроить в одиннадцатый класс, Свету – в техникум, самой на работу устроиться. Дел по горло, а я уже месяц тут бесцельно брожу и ничего не делаю. Нет, всё! Хватит!».
И в квартире Щукиных закипела работа. Надежда Сергеевна сказала своим детям собирать и паковать вещи, а сама пошла искать покупателя на квартиру. За этим долго ходить не пришлось, этих неизвестно откуда взявшихся «покупателей» – было в Алзамае хоть отбавляй. Покупатели нашлись сразу, в тот же день, правда цену за квартиру предложили совсем маленькую – меньше трети её настоящей стоимости.
Надежда Сергеевна не стала торговаться, так как понимала, что скоро, возможно – за квартиры в Алзамае нельзя будет получить даже столько. Она согласилась, правда настояла, чтобы ей и детям – дали неделю на сборы.
За эту неделю предстояло сделать немало. Надежда Сергеевна уволилась с работы, забрала из школы Фёдора, вместе с детьми – уложила в чемоданы всё, что Щукины увозили с собой. А потом, Надежда Сергеевна пошла к торговцам оружием – и купила пистолет.
Пистолет и в самом деле был необходим. Правда, в «золотом веке» – огнестрельное оружие было вне закона, а его покупка, хранение, ношение и использование – карались очень строго, вплоть до пожизненного заключения. Но надо ли говорить, что несмотря на то, что в «золотом веке» огнестрельное оружие было под строжайшим запретом – при желании его вполне себе можно было достать.
И всё же зная, что оружие находится вне закона, Надежда Сергеевна купила пистолет. Купила его, осознавая, что, если его найдут правоохранительные органы – ей придётся провести в тюрьме как минимум долгие годы и десятилетия, а скорее всего – всю оставшуюся жизнь. Однако же, риск быть арестованными – был всё же не так страшен, как риск быть убитыми. А в те времена – пускаться в путь-дорогу женщине с двумя детьми (пусть уже и взрослыми детьми), да ещё и с деньгами за проданную квартиру – было почти что равносильно самоубийству. Разгул преступности был столь велик, что скорее всего – путешествие закончилось бы даже не начавшись, и Надежду Сергеевну с её детьми – нашли бы в какой-нибудь придорожной канаве мёртвыми. С пистолетом же – появлялся шанс отбиться от лиходеев.
Собрав вещи – Щукины стали думать, куда им перебираться и в каком городе России продолжать свою непростую жизнь. Маленькие города они отбросили сразу – так как боялись повторения того, что произошло в Алзамае. Нельзя было снова допустить, чтобы закрытие какого-либо предприятия – фактически ставило крест на самом городе, в котором это предприятие находилось.
Поэтому – город надо было выбирать крупный, желательно – вообще мегаполис. Однако же такие крупные города как Москва и Санкт-Петербург – были Щукиными тут же отброшены. Эти города находились слишком далеко, и жизнь в них была слишком дорога. Щукины сразу поняли – что жить там – им не по карману, и денег, которые они выручат за квартиру – надолго не хватит.
Кроме того – для переезда в Центральную Россию возникали серьёзные препятствия. Первое из них – уже упомянутое разделение по племенам, которого в Сибири не было. В той же Москве – большинство населения относило себя к племени вятичей, а потому, как и положено при родоплеменном строе – чужаков они не жаловали. Всех же сибиряков в те времена, в Центральной России называли «чалдонами» и, хотя и относились к ним лучше, чем к племенам из соседних областей, но тоже не так чтобы очень привечали.
Однако же – в крупные мегаполисы, как и в предыдущие века – продолжали отовсюду ехать люди. И в итоге это привело к тому, что однажды настал момент, когда даже такие огромные города как Москва – не смогли «переварить» всех, кто хотел в них поселиться. Население Москвы, к началу XXIV века – составляло более 40 миллионов человек, а население Санкт-Петербурга – около 19 миллионов.
Это привело к тому, что к началу XXIV века – вокруг мегаполисов российских городов выросли настоящие трущобы. Такие трущобы раньше были в основном только в южных, тёплых странах Азии, Африки и Латинской Америки. Теперь же они появились и в России.
Самые большие трущобы в России, были, конечно, вокруг Москвы. Тысячи людей, приехавших в Москву и не нашедших в ней места – селились в трущобах, находившихся в непосредственной близости от города. Все поля и луга вокруг мегаполиса – были утыканы самодельными жилищами, а многие из них – стояли прямо возле МКАДа.
Так как зиму в России никто не отменял – то и трущобы вокруг российских городов – выглядели несколько иначе, чем трущобы в Индии, Кении или Бразилии. Тут одним домиком из фанеры дело ограничиться не могло – превратиться при первых заморозках в окоченевший труп – никто желания не испытывал.
Именно поэтому – трущобы вокруг Москвы и других крупных городов – по своему внешнему виду больше напоминали одновременно селища северных народов и стоянки кочевников. Тремя основными типами жилища в российских трущобах – были чум, юрта и яранга. Только такие строения – помогали живущим в трущобах пережить российскую зиму. Были, правда и те, кто строил себе в трущобах настоящие русские избы – но таких было мало. К тому времени лес уже основательно повырубили, а потому – оставшийся ещё вокруг трущоб лес – шёл на растопку печей, а не на строительство.
Строили северные жилища в трущобах из чего попало – делали каркас, укрывали брезентом и разными тряпками, конопатили щели мхом и глиной. Многие – устраивали в подмосковных лесах настоящую охоту на животных, чтобы их шкурами укрыть своё жилище, а мясо – съесть. Поэтому – к началу XXIV века, в подмосковных лесах не осталось ни волков, ни медведей, а потом – повыбили и почти всех бродячих собак. И всё равно – шкур на всех не хватало, и многим людям было практически нечем укрыться от холода.
Каждую зиму, в трущобах умирали как минимум несколько сотен, а кое-где – и несколько тысяч людей. И всё равно – трущобы ширились день ото дня, а на место умерших людей – приходили новые.
Надо ли говорить, что в трущобах цвели пышным цветом такие вещи как преступность, проституция, наркомания и алкоголизм. Всё это, впрочем, имело место везде, кроме самых богатых районов и посёлков, куда не пускали чужаков. Однако же в трущобах – всё это приобрело поистине ужасающий размах.
Каждый день можно было видеть картину – как сотни людей, живших в трущобах – плетутся к ближайшим автобусным остановкам – и едут в город, а вечером – возвращаются обратно. Но лишь немногие из них, ехали в город для того, чтобы там честно зарабатывать себе на хлеб. Большинство ехавших в город женщин – занимались проституцией, а большинство мужчин – грабежом и разбоем. Вечером же – те и другие возвращались домой с деньгами или без денег. Или не возвращались уже никогда, так как были к тому моменту мертвы.
Словом, жизнь в городских трущобах – никак не устраивала семью Щукиных. Надежда Сергеевна прекрасно понимала, какое будущее ждёт там её детей. Потому – решено было не перебираться на другой конец страны, а остаться жить в Сибири, в каком-нибудь крупном городе.
Из сибирских городов – трущобы были только вокруг Новосибирска. Слишком суров был климат, слишком холодны зимние морозы. Поэтому в Сибири люди, как и раньше – жили в квартирах или частных домах. Однако население Новосибирска – к XXIV веку перевалило за 10 миллионов человек, а потому – вокруг города несколько лет назад уже начали появляться юрты и яранги. Поэтому – в Новосибирск решили не ехать, тем более – что и находился он далековато.
Решено было ехать в один из ближайших городов-миллионников. И таких было два – столица их области, Иркутск, а также – Красноярск. Оба находились от Алзамая на примерно одинаковом расстоянии – около шестисот километров, что по меркам Сибири, подходило под категорию «недалеко».
Стали думать, в какой из двух городов поехать. Иркутск находился в той же области, что и Алзамай, однако Красноярск – был ближе к Алзамаю, и населения в Красноярске было больше. К началу XXIV века – население Красноярска составляло 4 миллиона человек, а населения Иркутска – 2,5 миллиона. Как следствие – в Красноярске было больше возможностей, больше предприятий (а значит – больше работы), и больше учебных заведений, в которые скоро предстояло поступать детям Надежды Сергеевны. Трущоб же не было ни в том, ни в другом городе.
Однако в случае с Красноярском – возникала всё та же пресловутая проблема «золотого века», когда люди из соседних регионов – часто относились друг к другу с неприкрытой ненавистью и враждой. И поэтому для XXIII-XXIV веков вопрос нахождения того или иного города в одном с тобой регионе – часто был жизненно важен.
Иркутск находился в одном регионе с Алзамаем, а Красноярск – нет. И этим всё было сказано.
Впрочем, в Сибири – весь этот местечковый национал-шовинизм – был выражен в гораздо меньшей степени, чем в Центральной России. Как всех жителей Сибири в Центральной России часто называли чалдонами, так и в самой Сибири – её жители часто говорили, дескать – «Все мы сибиряки, и не важно их какого ты региона. Будь ты хоть из Томска, хоть из Новосибирска, хоть из Красноярска, хоть из Иркутска – всё одно сибиряк».
И тем не менее – даже такой, казалось бы, в целом дружелюбный подход – не спасал сибирские регионы от погромов. Погромы в те времена – происходили во всех городах и странах. Так как наплыв людей в мегаполисы – подразумевал огромный приток в города людей из других регионов и даже – других стран. Поэтому время от времени – на улицах крупных городов появлялись агрессивно настроенные толпы, и начинали «искать чужаков».
Толпы эти – подходили к случайным прохожим и требовали у них паспорта. В паспортах они смотрели только одну графу – место рождения. Если место рождения совпадало с тем городом, где сейчас находился человек – ему возвращали паспорт и отпускали. Если нет – были варианты.
Варианты эти зависели главным образом от двух вещей. Первое – как далеко от места рождения он сейчас находился, и второе – насколько агрессивной и отмороженной была толпа, на которую он напоролся.
Если человек родился неподалёку, например на момент погрома человек находился в Москве, а родился в Люберцах или в Орехово-Зуево, словом – в Подмосковье – их как правило тоже отпускали. Если местом рождения была указана, например Рязань или Калуга – обычно тоже всё обходилось мирно, так как эти города – считались землями вятичей. Максимум что ждало гостей столицы из этих городов – их могли отвезти на вокзал и посадить на электричку или поезд до родного города.
Если же человек родился в городе, который в землях вятичей не находился – то дело приобретало более серьёзный оборот. Традиционно, к жителям дальних регионов – в Москве относились более терпимо, чем к жителям ближних. Если в результате погрома выяснялось, что человек родился на Урале, в Сибири или на Дальнем востоке – то это была русская рулетка. Их вполне могли избить, но могли и не тронуть «на первый раз», могли же – насильно выдворить из города. Этим как правило всё и ограничивалось.
Но горе тем, кто оказался в Москве во время погрома с паспортом, в котором в графе «Место рождения» – были указаны, например Тверь или Смоленск. Города эти – относились к землям кривичей, а потому, ничего хорошего в землях соседних племён – в XXIV веке их не ждало. То же самое, разумеется – относилось и к представителям всех остальных племён, рискнувших появиться в землях вятичей.
Иноплеменников – в самом лучшем случае избивали и грабили, но как правило – убивали. После погромов – в городах находили десятки, а иногда даже и сотни трупов. Органы же правопорядка – смотрели на всё это сквозь пальцы по трём причинам. Во-первых – в связи с разгулом преступности в «золотом веке», трупы на улицах находили ежедневно. Посему, результаты погромов – были хоть и более заметны на общем фоне, но кардинально ничем не отличались от того, что происходило тогда в мегаполисах каждый день. Во-вторых, многие из представителей правоохранительных органов – и сами придерживались национал-шовинистических взглядов и искренне считали, что после погромов «город становится чище». Но самой главной была третья причина. Она заключалась в том – что им просто-напросто ЗАПРЕЩАЛИ вмешиваться в погромы и беспорядки, а также запрещали искать тех, кто принимал в них участие.
Причина такого запрещения была всё та же – «разделяй и властвуй». Людям ни в коем случае нельзя было дать объединиться в единый народ. Потому эта вражда и раздувалась с такой силой, чтобы люди из соседних областей – как можно яростней ненавидели друг друга.
Но то было в Центральной России, где погромы происходили стабильно раз в год, а бывало – что и по нескольку раз в год. Сибирь в этом плане – была гораздо спокойнее. Погромы здесь тоже происходили, но не носили систематический характер, так что люди из разных регионов – могли спокойно жить в крупных городах не один год.
Например, в Красноярске, который Щукины рассматривали в качестве одного из вариантов своего дальнейшего проживания – погромов не было вот уже больше пятнадцати лет. Вот потому – там вполне можно было попробовать обосноваться.
«Риск конечно есть. – рассуждала Надежда Сергеевна. – Но ведь сколько лет прошло уже, после последнего погрома. А что, если тот погром – и впрямь был последним? Может ещё не один год там будет тихо и мирно, а потом – Федя и Света станут взрослыми, можно будет и ещё куда-нибудь переехать».
Она поделилась своими мыслями с детьми, и немного подумав и взвесив все за и против – Щукины всё же решили ехать в Красноярск.
Фёдор пошёл на вокзал Алзамая и купил три билета на поезд до Красноярска. Продажу квартиры Надежда Сергеевна назначила на то же самое число, на которое были билеты. Делать по-другому и ночевать на вокзале было смертельно опасно.
С продажей квартиры управились быстро, а потом – взяв деньги за квартиру и сумки с вещами – Щукины пешком отправились на вокзал. До отхода поезда было ещё несколько часов.
Деньги за квартиру Надежда Сергеевна спрятала в пояс, а в боковой карман сумочки положила пистолет. Карман закрывать не стала, чтобы в случае опасности – можно было тут же выхватить оружие.
Впрочем – в глубине души она надеялась, что всё обойдётся. Для нападения лиходеев было слишком рано, вряд ли кто-нибудь рискнёт нападать среди бела дня.
Щукины пришли на вокзал, сели и стали ждать. По станции шныряли какие-то подозрительные личности, изредка кто-то зыркал на них, но в общем – всё было тихо.
Поезд отходил в шесть часов вечера. Время это было самым удобным. Во-первых, в шесть вечера летом ещё светло, а во-вторых, именно в это время заканчивается смена на заводе. Работяги пойдут домой, а чуть позже банды – будут вылавливать их во дворах. Поэтому – всё внимание в это время будет приковано не к вокзалу, а к проходной завода.
Вокзал постепенно заполнялся людьми. В те дни – многие продавали свои квартиры и уезжали из Алзамая. Люди собирались на вокзале кучками, охраняли свои вещи, и готовились, если что – вступить в схватку.
Но, как и ожидалось – на вокзале в это время было тихо. Наконец, все услышали звук приближающегося поезда. Щукины взяли свои вещи, и вместе с другими людьми пошли на платформу.
Тут надо сказать, что представляли собой поезда XXIII-XXIV веков. Первое, что может прийти на ум, при мысли о таком далёком будущем – это, разумеется, высокоскоростные поезда, мчащиеся по рельсам с невероятной скоростью.
Однако же, не следует забывать, что речь идёт о «золотом веке». А значит – комфортабельные поезда, развивающие огромную скорость – конечно были, но далеко не везде и далеко не для всех.
Например, в России – высокоскоростные поезда ходили только между Москвой и некоторыми ближайшими мегаполисами, например Петербургом и Нижним Новгородом. Поезд между Москвой и Петербургом назывался «Ястреб» и проезжал расстояние между городами всего за 1 час. Вокруг железнодорожного полотна на все 700 км пути – был построен высокий забор с колючей проволокой под напряжением. Причина этого была всё та же – путь между двумя столицами – проходил через земли кривичей. Пока что, правда – штурмовать стену никто не пытался и железнодорожные пути не взрывал, конфликт между племенами ещё не достиг такого размаха.
А вот кроме «Ястреба», да ещё пары его аналогов – больше во всей России не было не только высокоскоростных поездов, но и пассажирских поездов вообще в полном смысле этого слова. В поездах «золотого века» – не было ни плацкартных вагонов, ни купейных. Там не было полок, как и не было вообще лежачих мест.
Поезда предыдущих веков – к началу XXIV века сгнили, сломались или просто пришли в полную негодность. Однако делать новые поезда по старым лекалам – сочли нерентабельным. Вместо этого сделали и пустили по всем городам и весям поезда, которые больше всего напоминали обычные электрички. В каждом вагоне стояли приваренные к стенам железные лавки – и всё, больше в вагоне не было ничего. И лавки – это в лучшем случае. Были и такие поезда, где вагон представлял собой полностью пустое пространство и в нём было некуда даже сесть. В таких вот поездах люди ездили часто по нескольку суток.
И вот раздался гудок – и к вокзалу Алзамая подкатил наконец поезд. Он и правда больше напоминал не поезд, а электричку. Разница была только в том, что двери в вагон были с ручками, и открывались не автоматически, а проводником. Поезд был старый и ветхий, скорее всего – он был собран в самом начале XXIII века, и ему было уже около ста лет.
Поезд-долгожитель был весь изрисован граффити, исписан непристойными надписями. Окна его были выбиты, двери держались на соплях. Чтобы в вагон не дул ветер – оконные отверстия были заколочены досками. И как следствие – в вагон не проникал солнечный свет, а значит – в вагоне царила полная темнота почти на всём времени пути. Точнее говоря – в вагоне была одна лампочка, освещавшая вагон, но её включали только во время стоянок, когда люди загружались в вагон. Как только все рассаживались – поезд трогался и свет выключался. Сквозь щёлки между заколоченными досками окнами – пробивались лишь слабые полоски света, не давая тьме сгуститься окончательно. Когда же поезд доезжал до следующей станции – свет снова на короткое время включался. Обычно в эти короткие промежутки – люди, зашедшие в вагон ранее – старались быстро поесть, пока снова не выключился свет. Поэтому – пока одни пассажиры заходили в вагон и рассаживались – другие, зашедшие ранее, быстро доставали еду, быстро-быстро ели что придётся и запивали водой. Потом поезд снова трогался, свет выключался, и пассажиры снова ехали в темноте. До следующей станции.
Внешне же – поезд, повторимся, напоминал собой обычную старую электричку. Собственно, от электрички он отличался только двумя вещами – вагонными дверями и установленными на крыше пулемётами.
Пулемёты на крыше поезда – в «золотом веке» были не прихотью, а суровой необходимостью. Так как нигде, кроме немногочисленных дорог для скоростных поездов, вроде дороги между двумя столицами – стены с колючей проволокой не было, то и не было ничего удивительного в том, что на поезда – часто нападали банды.
Собственно банды в те времена – были не только в городах, они были везде. И в посёлках, и в сёлах, и в деревнях, и на дорогах, и на полях, и в лесах. И в этом не было ничего удивительного – населения в «золотом веке» становилось всё больше, а работы – не прибавлялось. Предприятия закрывались, людей увольняли, а новую работу найти себе могли далеко не все. Поэтому люди, потеряв работу – часто либо примыкали к одной из городских банд, либо уходили из города куда глаза глядят. Многие из них подавались в леса и жили там, образовывая разбойничьи шайки. Лиходеи эти – часто выходили из леса на большую дорогу (в том числе – и дорогу железную), и организовывали нападения на машины и поезда.
Если же лиходеям удавалось захватить поезд – то дальше могло произойти что угодно, в зависимости от того, кто на них напал. В лучшем случае – пассажиров обирали до нитки, но оставляли в живых. Если напавшая шайка была немногочисленна – могли предложить пассажирам вступить в их ряды. И среди пассажиров находились те, кто действительно вступал в шайку. Это было совершенно неудивительно, учитывая, что много безработных людей, ехало на поездах куда глаза глядят, искать лучшей доли. Что делать дальше в своей жизни – многие из них не представляли совершенно. Поэтому – когда им вдруг предлагали вступить в шайку и заниматься грабежами и убийствами – некоторые из людей соглашались, так как это хотя бы была не голодная смерть.
Но это в лучшем случае. Если же напавшая банда была многочисленна, и новые люди были им не нужны – всех пассажиров поезда могли просто убить. Не раз и не два в те времена находили на железных дорогах поезда с мёртвыми людьми. Мертвы были все – и машинисты, и проводники, и пассажиры от мала до велика.
Именно для того, чтобы защититься от внезапного нападения – на крышах вагонов и стали ставить пулемёты, а каждый поезд, даже самый ветхий и старый – сопровождал усиленный конвой.
Итак, Щукины зашли в вагон. На счастье – вагон был не стоячий, в нём были железные лавки. Надежда Сергеевна, Фёдор и Света заняли полностью одну лавку. Это было очень удобно, так как можно было спать лёжа по очереди. Двое сидят – а один лежит у них на коленях и спит. Так делали многие, поэтому идеальное количество попутчиков в поездах – было трое или шестеро.
Посадка закончилась, поезд тронулся и свет выключился. Люди копошились в полной темноте как тараканы, многие прильнули к заколоченным окнам, пытаясь сквозь щёлки рассмотреть, где они сейчас.
Время шло, а поезд с черепашьей скоростью продолжал тащиться вперёд. Неизвестно, сколько прошло времени – может два, может три или четыре часа, в темноте чувство времени словно куда-то исчезало. И вот наконец – поезд подошёл к первой станции – это был город Тайшет.
Тайшет к тому времени – разросся и разбух как на дрожжах. Из относительно небольшого городка – он превратился в по-настоящему крупный город. К началу XXIV века – население Тайшета составляло более трёхсот тысяч человек. Оно было и понятно – ведь именно в Тайшете сходились БАМ и Транссибирская магистраль, именно через этот город лежал путь в Центральную Россию и на Дальний Восток.
Поезд подошёл к тайшетскому вокзалу и остановился. В вагоне загорелся свет. Но в вагон никто не входил.
И вдруг с улицы раздался крик:
– Эй, все кто есть в вагоне! Выходи на улицу!
И чей-то хриплый голос добавил:
– С вещами на выход!
Надежда Сергеевна так и похолодела. Происходило что-то непонятное. Люди тревожно переглядывались. Выходить из вагона, однако, никто не спешил.
С улицы снова послышался крик:
– Я сказал, выйти всем из поезда! Быстро!
И, как и в первый раз, вслед за первым голосом, послышался второй:
– Сами выйдете, или вас силой из выгонов выкинуть?
Наконец, вагон пришёл в движение. Напуганные люди, стали брать трясущимися руками свои вещи и выходить из вагона. Выходили в полном неведении – не зная, с чем они столкнутся на улице. Если бы поезд остановился в чистом поле – у людей не было никаких сомнений, что поезд захвачен бандитами. Однако сейчас – они находились не в поле, а в городе. Впрочем, в те лихие времена случалось и такое, что банды объединялись между собой, и устраивали налёты на населённые пункты. Конечно, большой город такие банды захватить не могли, а вот взять под свой контроль деревню, посёлок или небольшой городок – вполне могли. Правда трёхсоттысячный Тайшет был для такого налёта великоват – но кто знает, что могло произойти?
Люди вышли с вещами на платформу. Вместе со всеми вышли и Щукины. На перроне стояло большое количество вооружённых людей. Надежда Сергеевна с облегчением отметила, что на бандитов эти люди явно не походили. Все они были в форме вооружённых сил и полиции Иркутской области. Из-за разногласий и вражды между регионами одной страны – в «золотом веке» у каждого региона страны была своя армия и полиция, а их форма – в каждом регионе была своя собственная.
Вперёд вышел человек в кожанке. На кокарде его фуражки был герб Иркутской области, а на боку в кобуре висел «Маузер».
Человек обвёл недовольным взглядом толпу, и сурово сказал:
– Всем приготовить документы!
Люди стали нехотя доставать паспорта. Прямо на перроне стоял письменный стол, за которым сидел немолодой штабной офицер в очках. Люди построились в очередь и стали по одному подходить к столу. Штабной подробно записывал паспортные данные в большую общую тетрадь, и всё равно спрашивал у каждого:
– Фамилия-имя-отчество? Год рождения? Место рождения? Адрес проживания?
Когда он записывал паспортные данные Щукиных, то так же, как и всем, задавал эти стандартные вопросы. Когда же подошёл черёд вопроса об адресе проживания, Надежда Сергеевна сказала:
– Нет у нас адреса проживания!
Офицер удивлённо поднял на неё глаза:
– Как нет?
– А вот так вот – нет!
Офицер снял очки, протёр их и снова надел. В графе адрес он поставил прочерк, встал и пошёл к человеку в кожанке:
– Товарищ майор, разрешите обратиться! Тут это…
И он стал что-то негромко говорить, указывая на Надежду Сергеевну.
Человек в кожанке, который как оказалось, носил звание майора, подошёл к Надежде Сергеевне, цепко взял её за руку, отвёл её в сторону и спросил:
– Адреса проживания нет?
– Нет!
– Бездомные? Бичи?
– Никакие мы не бичи! – запальчиво, с обидой выкрикнула Надежда Сергеевна.
– Тогда почему адреса нет?
– Был адрес, да весь вышел! – снова с обидой проговорила она.
Очень не хотелось Надежде Сергеевне, разговаривать сейчас с этим майором с маузером на боку. Однако немного подумав она решила, что лучше будет всё-таки рассказать ему.
И она рассказала ему обо всём – о жизни в Алзамае, о закрытии завода, о смерти сына и мужа, о продаже квартиры за бесценок и о том, как двинулись они из города на поиски лучшей жизни куда глаза глядят.
А майор стоял и слушал, иногда приговаривая:
– А, Алзамай стало быть? Гм… ну да – ну да… слышал… гм…
Когда Надежда Сергеевна закончила свой нехитрый рассказ, майор спросил:
– И куда же вы теперь едете?
– В Красноярск.
– В Красноярск? – удивлённо переспросил майор. – А почему в Красноярск?
И действительно – Красноярск находился в другом регионе, а потому вопрос этот для «золотого века» с его местечковым шовинизмом – был далеко не праздный.
Надежда Сергеевна объяснила, что детям надо продолжать учёбу, а так как Красноярск больше Иркутска, а погромов там не было уже много лет – выбрали его для дальнейшего проживания.
– Ну тогда спешу вас разочаровать. – сказал майор. – Погромов не было, а теперь есть.
– Как?! В Красноярске погромы?! – на Надежду Сергеевну словно ведро холодной воды вылили.
– Пока что в Новосибирске. – ответил майор. – До Красноярска ещё не добрались. – Но то, что доберутся – в этом можно не сомневаться. Волна погромов движется на восток и захватывает всё новые города. Сегодня пришла новость – что в Барнауле тоже начались.
Тут к майору подбежал молодой старлей:
– Товарищ майор, разрешите обратиться!
– Ну что там ещё?
– Только что новость пришла – в Кемерово и Новокузнецке тоже погромы начались.
– Начались? Гм… Ну ничего удивительного, к тому всё и шло. – сказал майор.
– Так что же нам теперь делать? – спросила Надежда Сергеевна. В том, что волна погромов докатится и до Красноярска, причём в самом ближайшем времени – теперь не оставалось ни малейших сомнений.
– Оставаться в своём регионе. – отрезал майор.
– Но у нас же билеты на поезд до Красноярска! Мы же на них, деньги потратили! – чуть не плача сказала Надежда Сергеевна.
– Билеты? Гм… Ладно, подождите, что-нибудь придумаем. – сказал майор. Стойте пока здесь, никуда не уходите.
Надежда Сергеевна горько усмехнулась, услышав это «никуда не уходите». Если бы она и хотела уйти – то всё равно не смогла бы. Куда идти? Тайшет для них – совершенно чужой город – родственников, знакомых и друзей тут у Щукиных не было.
Тем временем, проверка документов была закончена. Пассажиров поезда разделили на две неравные группы – тех, кто родился в Иркутской области, и тех, кто родился в других регионах. Первых было немного – около двадцати человек, вторые же составляли почти весь поезд.
Майор пошёл к пассажирам и громогласно объявил то, что несколькими минутами ранее сказал Надежде Сергеевне. В связи с начавшимися погромами – жителям Иркутской области рекомендовалось остаться в своём регионе, а всем остальным – побыстрее возвращаться с тот регион, который был указан у них в паспорте.
Пассажиры стояли на перроне с вещами, чесали затылки, переговаривались и обсуждали последние известия – решали, что им теперь делать. Тут поезд дал гудок на отправление, и людская масса, похватав свои вещи, кинулась в вагоны занимать места.
Через несколько минут поезд поехал и исчез вдали, оставив на перроне два десятка уроженцев Иркутской области, включая и семью Щукиных.
Майор поручил людей старлею, а сам пошёл к Щукиным. Надежда Сергеевна, Фёдор и Света стояли чуть в отдалении, и переговаривались, решая, что делать дальше.
– Ну и куда вы дальше? – коротко спросил майор.
– Поедем в Иркутск, больше нам ничего не остаётся. – сказала Надежда Сергеевна.
– Родственники в Иркутске есть?
– Нет.
– Гм… – снова неопределённо сказал майор. – Ладно, пойдёмте на вокзал, попробуем что-то придумать.
И он широкими шагами двинулся в сторону старого здания тайшетского вокзала. Щукины, похватав свои вещи – пошли за ним.
Майор привёл Щукиных на вокзал и велел подождать. Они сели на лавки в маленьком зале ожидания, а майор пошёл в привокзальной кассе и долго о чём-то переговаривался с женщиной в окошке. Наконец, он подошёл к Щукиным и сказал:
– Идите в кассу, обменяйте свои билеты на поезд до Иркутска. Я договорился, билеты вам продадут за пол цены.
– Спасибо вам большое. – сказала Надежда Сергеевна и пошла к кассе.
Билеты им действительно продали за пол цены, но тут же возникла новая проблема – ближайший поезд до Иркутска, шёл через Тайшет только через пять дней.
Пять дней в незнакомом городе! Как прожить эти пять дней, где прожить? О том, чтобы остаться на это время на вокзале – не могло быть и речи. С разгулом преступности в «золотом веке» – это было бы смерти подобно.
Впрочем, Надежда Сергеевна сразу успокоилась. «Ничего, квартиру снимем, или номер в гостинице – решила она. – Тайшет – большой город, тут наверняка многие квартиры посуточно сдают. Главное – снять у нормальных людей, чтобы проблем не возникло. А вот как раз сейчас и узнаю».
И Надежда Сергеевна направилась к майору, чтобы узнать, не знает ли он в Тайшете людей, которые смогут сдать им на пять суток квартиру.
А майор. Словно угадав её мысли, спросил первый:
– Вам жить есть где?
– Нет, откуда же? – ответила Надежда Сергеевна. – Я как раз и хотела спросить, не знаете ли Вы…
– Если негде – можете остановиться у меня. – не дал ей договорить майор.
– У Вас? – Надежда Сергеевна так и ахнула от удивления.
– Да, у меня. Живу я один, места всем хватит. Согласны?
Надежда Сергеевна снова посовещалась с детьми, и наконец все решили, что остановиться у майора – было бы наилучшим вариантом. Главным образом потому, что его звание и должность – были лучшей зашитой от нападений. Всем было понятно, что вряд ли кто-то из бандитов – стал бы нападать на представителя правоохранительных органов. К тому же – у майора было оружие.
Словом, Щукины согласились остановиться у майора, и тот повёл их к себе домой. Идти было совсем недалеко, как оказалось – майор жил возле вокзала в частном секторе. Дом его был старый, но это был довольно просторный и тёплый пятистенок.
Внутри – дом представлял из себя типичную холостяцкую берлогу. На столе стояла пепельница с горой окурков, на полках был слой пыли – а в раковине – гора немытой посуды.
Майор выделил всем койко-места, показал, куда поставить вещи. Потом достал буханку хлеба и несколько банок тушёнки – гостей надо было чем-то покормить, а больше у него ничего не было. В свою очередь Щукины – достали свои запасы, заготовленные в дорогу, и тоже поставили их на стол, так что ужин вышел на славу.
Во время ужина, Надежда Сергеевна сказала майору, что хочет завтра взяться за уборку дома. Майор что-то пробурчал, но кажется не возражал. В процессе разговора так же выяснилось, что звали майора – Андрей Евгеньевич Буров.
Наконец все наелись, ужин закончился. К тому времени солнце уже село, и на Тайшет опустилась ночь. Поэтому став из-за стола – все разошлись по своим кроватям и тут же уснули.
На утро – Буров ушёл на службу, а Щукины – остались у него в доме. Надежда Сергеевна, как и обещала – взялась за уборку, а Фёдор и Света ей помогали.
Наведя в доме чистоту, Надежда Сергеевна послала детей в магазин за продуктами, а потом принялась за готовку.
Когда Буров пришёл со службы – он буквально обалдел от увиденного. Дом его сверкал чистотой, пыли и грязи как не бывало. На столе дымилась тарелка куриной лапши, и тарелка с варёной картошкой и жареной рыбой. Еда была самая незамысловатая, но Бурову такой ужин – показался невиданной роскошью. Ел он быстро и жадно – аж за ушами трещало.
А на следующий день, видимо находясь под впечатлением от чистоты в доме и вкусного ужина – Буров предложил Надежде Сергеевне выйти за него замуж:
– Мужа у тебя нет, детей поднимать надо. – Буров как-то незаметно перешёл на «ты». – А у меня оклад неплохой, и жилплощадь своя. Детей поднимем, дочь пусть в техникум поступает, а сына – к нам на службу пристрою.
Однако Надежда Сергеевна ответила отказом. Мотивировала это тем, что, во-первых, муж её только что умер, и это будет не по-людски, а во-вторых, что Фёдору надо продолжать образование и поступать в институт. Поэтому – надо ехать в крупный город. Буров возражал, что Тайшет – тоже крупный город, в нём живёт больше трёхсот тысяч человек и есть один институт. Но Надежда Сергеевна уже решила, что ехать им нужно непременно в мегаполис, там возможностей было на порядок больше.
Буров, поняв, что ему отказывают наотрез, расстроился, но кажется, не обиделся. Всё же, заканчивая разговор, он сказал Надежде Сергеевне:
– Ну ладно. Раз решили ехать – езжайте. Но ты всё-таки подумай. Если что – возвращайся.
Щукины прожили в доме у Бурова все пять дней, а потом сели на поезд и поехали в Иркутск. Поезд был точно такой же, как тот, на котором они уезжали из Алзамая. С забитыми окнами и приваренными к стенам железными лавками. Точно так же в вагонах выключался свет, и люди ехали в полной темноте. Как и раньше – на перроне скопилась толпа народу, и все толкались, пытаясь побыстрее влезть в поезд и занять место на лавках. Щукины кое-как положили свои вещи, пристроились втроём на одной лавке и поехали на восток.
Долог был их путь на поезде. Расстояние от Тайшета до Иркутска было примерно таким же, как от Москвы до Санкт-Петербурга – чуть меньше 700 километров. Однако то расстояние, которое высокоскоростные поезда XXIV века проезжали между двумя столицами за 1 час, поезд-развалюха, на котором ехали Щукины – кое-как проехал за трое суток.
Путь занял бы меньше времени, если бы по дороге, поезд не подвергался нападению банд. За эти трое суток, на поезд нападали трижды – два раза за первые и сутки, и один раз на третьи, когда до Иркутска оставалось меньше пятидесяти километров.
Этот, третий налёт на поезд – оказался особенно опасным. Бандитов, судя по всему – было достаточно много, с крыши поезда без устали строчил пулемёт, кругом слышались крики и стрельба. По вагонам тоже непрестанно били пули, и потому пассажиры – сразу попадали на пол, лежали прижавшись друг к другу и молились, чтобы всё закончилось благополучно.
Наконец, стрельба утихла. Судя по всему – нападение банды было отбито и нападавшие были убиты или разбежались по лесам.
Изрешечённый пулями поезд стоял ещё несколько минут, а затем тронулся, и с той же черепашьей скоростью поехал к Иркутску.
Наконец, когда уже третьи сутки были на исходе, Щукины прибыли в конечную точку своего долгого пути. Первую ночь в Иркутске – они провели в маленькой и грязной привокзальной гостинице, отличавшейся при этом – сильно завышенными ценами.
На следующий день – они сняли двухкомнатную квартиру, и наконец-то вздохнули с облегчением. Теперь у них был хоть и съёмный – но свой угол.
И потекла неспешной рекой их жизнь в сибирском двухмиллионном мегаполисе. Надежда Сергеевна устроилась работать в больницу, Фёдор закончил школу и через год после переезда в Иркутск поступил в институт, а вечерами подрабатывал. Светлана училась в колледже.
Именно в Иркутске и узнал впервые Фёдор Щукин про то, что такое коммунизм. Учился Фёдор хорошо, много читал, среди однокурсников был, что называется – «на хорошем счету». Поэтому как-то раз, его однокурсник и тёзка Фёдор Кречетов – пригласил его однажды вечером прийти на некое собрание.
Щукин было подумал, что предстоит банальная студенческая пьянка, и потому отказался. Алкоголя он практически не употреблял. Однако Кречетов объяснил ему, что речь идёт вовсе не о пьянке, а о собрании книжного клуба.
– Что ещё за книжный клуб? – спросил Щукин.
– Мы книги читаем и обсуждаем. – неопределённо ответил ему Кречетов.
– А почему это нельзя делать в институте?
– Потому что нельзя! – чуть ли не выкрикнул Кречетов и с подозрением посмотрел на Щукина. Казалось, он не особенно хотел вдаваться в подробности.
Щукин обалдело уставился на него, а Кречетов между тем продолжал:
– И ты вот ещё что – во-первых, никому ни о чём не говори. Ни про клуб, ни про что. Не говори никому куда идёшь.
– И матери?
– И матери. Ей можешь сказать, что на студенческую вечеринку идёшь, или что-то в этом роде. И во-вторых – телефон дома оставь.
– Так мать же волноваться будет! Что ещё за конспирация?! – насупился Щукин. Ему всё меньше и меньше хотелось идти в этот «книжный клуб». Он подозревал, что тут что-то кроется.
Кречетов рассвирепел и казалось, готов был заорать на всю Ивановскую. Судя по всему – эта беседа раздражала его не меньше, чем Щукина, словно Щукин для него сейчас – был каким-то деревенским дурачком, не понимавшим элементарных вещей, а потому – раздражавшим своей глупостью.
Но Кречетов сдержал себя, не сорвался на крик. Он заговорил тихим голосом, но в каждом его слове сквозили злость и раздражение:
– Послушай, Щукин! Это всё не шутки. Всё очень серьёзно. Гораздо серьёзнее, чем ты думаешь. Ты парень вроде свойский, себя ничем не запятнал. Да и толковый, читаешь много. Вот мне и поручили тебя пригласить в клуб. А ты артачишься и на рожон лезешь, элементарных вещей не понимаешь и не хочешь понять! Короче – была бы честь предложена. Не хочешь приходить – не приходи, без тебя обойдёмся.
Но тут Щукин тоже вышел из себя, и решил дать отпор. А потому он заговорил так же тихо и зло:
– А теперь ты меня послушай, Кречетов! Ты подходишь ко мне, и приглашаешь на какое-то собрание какого-то клуба. При этом говоришь – никому не говорить – раз. И телефон дома оставить – два. А телефон видимо дома оставить – чтобы моё местоположение по нему определить нельзя было, да? И чтобы я, случись что – связаться ни с кем не мог? Думал не догадаюсь, за дурака меня держишь? Ты, Кречетов, в какое-то тёмное дело меня впутать хочешь, а мне это не надо. Поэтому никуда я не пойду!
Кречетов понял, что слегка перегнул палку. А потому, чтобы замять спор, он хлопнул Щукина по плечу и сказал:
– Да ладно, Щукин, хорош. Что-то мы действительно раздухарились. Не боись ты, всё нормально будет. Сейчас напишу тебе адрес, по нему и приходи.
С этими словами, не давая собеседнику опомниться, он схватил ручку и листок бумаги, быстро черканул там адрес, отдал листок и поспешил ретироваться. Уходя, он ещё раз сказал:
– Смотри же, Щукин! Как мы с тобой договорились, никому ни слова! Ты обещал!
С этими словами он быстро ушёл, а Фёдор продолжал стоять на том же месте, держа листок в руке. Хотя он и решительно не помнил, чтобы что-то обещал Кречетову, или о чём-то с ним договаривался, тем не менее – решил пока никому ни о чём не говорить.
Когда занятия закончились – Щукин пошёл домой и всю дорогу думал о том, что делать дальше. Главным был вопрос – идти или не идти. Скомканная бумажка с адресом лежала у него в кармане.
Сначала он не хотел идти. Слишком уж тёмным было это дело, слишком непонятным. Вдруг его и в самом деле втравят в какую-нибудь историю? Однако какой-то внутренний голос подсказывал ему, что пойти всё-таки стоит и что ничего плохого с ним не случится.
Дома Фёдор наскоро пообедал, а потом лёг на диван и стал дальше думать о том, как ему поступить. Надежда Сергеевна ещё не вернулась с работы, а Света была уже дома и смотрела в соседней комнате телевизор.
Время близилось к вечеру. Наконец Фёдор понял, что если он всё-таки решит пойти – то уйти из дома надо непременно до прихода матери. Надежда Сергеевна забросала бы его вопросами, на которые пришлось бы отвечать, а вопросы сестры – можно было оставить без ответа. Ушёл – и ушёл.
До прихода Надежды Сергеевны оставалось менее получаса, надо было срочно что-то решать. Именно эта нехватка времени, и подстегнула Фёдора принять решение, ставшее для него поистине судьбоносным. Он решил – ИДТИ!
Приняв решение, он быстро пошёл в соседнюю комнату и окликнул сестру:
– Свет!
– Чего? – сестра оторвалась от телевизора и посмотрела на него.
– Скажи матери, я сегодня поздно, я пошёл. – сумбурно сказал Фёдор и сразу же пошёл в комнату и стал собираться.
Сестра же его, как и всякая девушка, подумала о том, что идёт он, скорее всего на вечеринку, или на свидание. Впрочем, её это волновало мало. «Идёт – и пусть идёт, Мне то что» – подумала она, и продолжала смотреть телевизор.
Фёдор между тем собрался и ещё раз зашёл к сестре:
– Свет!
– Ну чего ещё?
– Ты только не забудь матери передать, хорошо? Обязательно чтобы. Если вдруг что – пусть мне звонит. Хорошо?
– Ладно.
– Ну я пошёл. Ты сиди, я сам дверь закрою. – сказал Фёдор, и пошёл в коридор. А Света – снова уткнулась в телевизор.
Фёдор зашёл второй раз к сестре специально – и специально же сказал о том, чтобы в случае чего ему звонили. Выглядеть должно всё максимально правдоподобно, чтобы не возникло ни малейших сомнений в том, что телефон он забыл совершенно случайно.
Он надел куртку, ботинки, положил в карман листок с адресом, открыл дверь. После этого достал из кармана телефон, положил его на тумбочку возле двери и вышел из квартиры. Быстро закрыв дверь на ключ, он бегом побежал по лестнице вниз, вышел из подъезда и пошёл по улице.
Времени до встречи оставалось ещё много. Правда, и дорога была неблизкой – пешком идти пришлось бы около полутора часов. Идти больше было некуда, и потому – Фёдор неспешным шагом двинулся в сторону указанного дома. Так как он никуда не торопился, дорога вместо полутора – заняла у него два с лишним часа. Но до встречи всё равно ещё оставался целый час. Делать было нечего – пришлось этот час Фёдору блуждать вокруг дома, дожидаясь, когда увидит знакомые лица.
Наконец он увидел, что к нужному подъезду идёт один из его однокурсников – Игорь Герасимов. Фёдор даже удивился, увидев его здесь. В институте, Герасимов слыл за молчуна и нелюдима, ни с кем из группы особо не общался и смотрел на людей как-то угрюмо и исподлобья. Надо ли говорить, что тем удивительнее было для Фёдора увидеть Герасимова (с его-то характером!) на каком-то собрании. Да к тому же, судя по тому, как Герасимов уверенно направлялся к подъезду – было видно, что он тут явно не в первый раз.
Фёдор вышел из-за водосточной трубы и окликнул однокурсника:
– Эй, Герасимов!
Тот вздрогнул и с быстротой молнии обернулся. Казалось, он готов был пуститься бежать без оглядки. Однако увидев однокурсника, он чуть успокоился, хотя и посмотрел на Фёдора явно неодобрительно и как всегда – исподлобья.
– Щукин? Ты чего это здесь делаешь?
– На собрание пришёл.
– На какое такое собрание? – спросил Герасимов прищурившись.
– «Книжного клуба». Оно же здесь проходит, да?
– А кто тебя позвал? – вопросом на вопрос ответил Герасимов.
– Кречетов позвал. Так это здесь, или нет?
– Кречетов стало быть? Хм… Нда… Значит наверно они решили… Угу…
Герасимов что-то бормотал, словно про себя, и казалось – что-то прикидывал в уме. Наконец он ещё раз осмотрел с ног да головы своего однокурсника и сказал:
– Ладно, Щукин, пошли.
Он зашёл в подъезд, Фёдор последовал за ним. Они поднялись по лестнице на третий этаж, и подошли к одной из дверей. Дверь была старая, ветхая, деревянная. Дверного звонка рядом не было, а на двери был нарисовал чёрной краской номер квартиры – 50. Дом этот, судя по всему – был построен в конце XXI века, перед Второй Холодной Войной, а значит – дому этому было уже больше двух веков. Герасимов что было силы затарабанил кулаком в дверь. Щукин с удивлением отметил для себя, что тарабанил Герасимов не абы как, а словно отстукивал какой-то ритм.
Когда дверь открыли – у Фёдора аж глаза на лоб полезли от изумления. Он был готов к чему угодно – готов был встретить хмурых подозрительных личностей, готов был встретить наркоманов со шприцами в руках, готов был встретить прямо-таки уголовников или бандитов, обвешанных оружием с ног до головы.
Дверь, однако, открыли отнюдь не все вышеперечисленные. На пороге стояло самое красивое существо, которое Фёдор когда-либо видел в жизни. Это была девушка лет двадцати. У девушки были длинные белые волосы, огромные глаза и великолепная улыбка, демонстрирующая ряды белоснежных зубов. Казалось, улыбка девушки могла мгновенно обезоружить кого угодно, и девушка не преминула этим воспользоваться. Она сразу же широко улыбнулась Герасимову и Фёдору. Герасимов, который явно видел девушку не в первый раз – в ответ кое-как ухмыльнулся, а Фёдор же – продолжал ошалело таращиться на девушку.
Девушка решила нарушить молчание первой. Она согнула руку в локте, сжала ладонь в кулак и сказала:
– Рот фронт, товарищи! Проходите!
Герасимов так же согнул руку в локте, и тоже сказал в ответ:
– Рот фронт! – затем обернулся к Фёдору и кивнул на дверь. – Ну что стоишь? Пошли!
Герасимов зашёл в квартиру и стал разуваться в маленькой прихожей. Фёдор последовал за ним и тоже стал машинально разуваться, при этом не переставая смотреть на девушку.
Девушка стояла недалеко от них и не переставала улыбаться. С той же обезоруживающей улыбкой она сказала:
– Берите тапочки любые!
Фёдор посмотрел на пол и увидел, что на полу стоят в большом количестве самые разные тапочки. Герасимов уже успел надеть какие-то, Фёдор тоже надел первые попавшиеся.
После этого, Герасимов, решил наконец-то представить Фёдора:
– Вот, познакомься, товарищ Ермолова – это Щукин, мой однокурсник.
Ермолова снова широко улыбнулась, подала Фёдору руку и представилась:
– Катя.
– Щ…эээ…Щукин. – кое-как выдавил из себя Фёдор, не переставая таращиться на девушку.
– Как зовут-то тебя, товарищ Щукин?
– Зовут?…эээ… л….м…в…эээ…ф… Ффффёдор. – сказал Щукин. Он смотрел на девушку так заворожено, будто увидел какое-то чудо. Казалось, что он забыл не только, зачем сюда явился, но и своё собственное имя начал забывать.
Девушка заливисто расхохоталась:
– Неужели собственное имя забыл? Прямо как в кино – « – Лида. – Петя…эээ…Саша».
– Чего? – не понял Фёдор.
– Ну в кино советском сцена похожая была. – объяснила Ермолова. – «Операция Ы» называется.
– Ы? – тупо переспросил Фёдор.
– Ну да, «Операция Ы». – объясняла Ермолова не переставая хохотать. – Советский фильм такой двадцатого века. Неужели не смотрел?
– Я… гм…эээ…нет, честно говоря, не смотрел. – снова сказал Щукин в замешательстве.
Он чувствовал себя полнейшим дураком. У него было такое ощущение, будто он маленький ребёнок, которого забрали из песочницы и привели в НИИ, где учёные пытаются ему, ребёнку – рассказать о новом научном открытии простым языком. То есть – с точки зрения учёных они рассказывают вещи элементарные, но для него – совершенно неясные.
В этой квартире – определённо творилось что-то непонятное. Ни с чем подобным Фёдору не приходилось сталкиваться до сих пор – и это странное приветствие – согнутая в локте рука и сжатый кулак, и не менее странные слова – «рот фронт» и «товарищ», которых он никогда прежде не слышал. Теперь ещё и про кино какое-то говорят, причём говорят так, будто об этом фильме обязан знать каждый уважающий себя человек.
– Ну ладно, проходите в комнату, скоро все уже должны собраться. – сказала девушка и упорхнула на кухню.
Герасимов уже было направился в комнату, но Фёдор его остановил и шёпотом спросил:
– Слушай, Герасимов – а что означает слово «товарищ»?
– Мы так обращаемся друг к другу. – начал растолковывать Герасимов. – В общем и целом, слово обозначает – «друг, приятель», но мы его используем скорее в значении «соратник, единомышленник». Привыкни сразу, что к тебе тут будут обращаться – «Товарищ Щукин».
– Хмм…– неопределённо сказал Фёдор. И повторил про себя несколько раз – «Товарищ Щукин, Товарищ Щукин, Товарищ Щукин».
Звучало это как минимум – необычно и непривычно. Но чтобы что-нибудь всё же сказать, он снова задал вопрос:
– А что означает – «Рот фронт»?
– Это приветствие такое, обозначает – «Красный фронт».
– А… – снова начал Фёдор, решив спросить и про фильм.
Но Герасимову, видимо – уже надоело отвечать на вопросы Фёдора, и потому он пошёл в комнату, бросив через плечо:
– Ладно, пошли. Тебе всё объяснят.
Фёдору ничего не оставалось, как последовать за ним. В комнате тускло горела лампочка, шторы были задёрнуты и стоял полумрак. За столом сидел незнакомый Фёдору парень в очках.
Герасимову снова пришлось представлять их друг другу:
– Познакомься, Щукин – это товарищ Ермолов.
«Ермолов! – сразу же молнией пронеслось в голове у Фёдора. И она тоже Ермолова! Муж? Неужели она замужем?!».
Парень между тем встал, и подал Щукину руку:
– Николай.
– Фёдор. – недовольно пробурчал Щукин.
– С моей сестрой ты видимо уже познакомился? – спросил Николай.
«С сестрой! Значит она его сестра!» – в один миг у Фёдора упал камень с души, навалившийся на него всего секунду назад. Во-первых – он ей не муж. Во-вторых – у Кати одна фамилия с братом, то есть – девичью фамилию она не меняла, а значит – скорее всего не замужем.
– Фуууух… – с облегчением выдохнул Фёдор, вытер рукой пот со лба. Но тут же, заметив странный взгляд Николая, быстро взял себя в руки и сказал:
– Фух, жарковато тут у вас. А сестрой-то? Да, познакомился только что.
Ермолов снова посмотрел на него как-то странно, и в некоторой степени даже подозрительно. В комнате вообще-то было довольно-таки холодно. Фёдору показалось, что его видят насквозь, и он почувствовал себя неуютно. Надо было срочно что-нибудь сказать, чтобы увести разговор в сторону.
– А что, больше никого нет? Кто-нибудь ещё придёт? – спросил он первое, что пришло в голову.
– Придут-придут. Рано ещё, подождать надо. – ответил Герасимов.
На том разговор и кончился. Они сели за стол и стали ждать. Герасимов о чём-то переговаривался с Николаем, но Щукин не слушал. Все его мысли были только о Кате. Фёдор понял – что бы дальше здесь не произошло, даже если произойдёт что-то плохое – он всё равно будет продолжать ходить в эту квартиру лишь для того, чтобы увидеться с ней.
Однако, чем дальше – тем больше опасения Фёдора развеивались. Ему решительно не верилось, что такая девушка, как Катя – может быть замешана в чём-то плохом.
Скоро и впрямь в комнату стали приходить люди. Практически все они были одного возраста с Фёдором, однако были и те – кому явно уже было за тридцать. Но основной костяк составляла молодёжь, и были среди них как парни, так и девушки. Всех вновь прибывших – представляли Фёдору, а его представляли им. Причём неизменно перед тем, как сказать фамилию человека, говорили всё то же необычное слово «товарищ».
– Вот, познакомься. Это – товарищ Измайлов – говорил Фёдору Герасимов. – Это – товарищ Соболев, это – товарищ Кучумов, это – товарищ Лебедева, это – товарищ Ялова, это – товарищ Рубанов, это товарищ Максимов.
Фёдор жал всем руки, а Герасимов представлял его, называя «товарищ Щукин».
Последним в комнату зашёл Кречетов.
– Ну а с товарищем Кречетовым ты уже, я думаю ты уже знаком, товарищ Щукин. – закончил Герасимов с саркастической ухмылкой.
Фёдор пожал Кречетову руку и снова сел. Все кое-как разместились за столом. Хоть стол и был огромный и занимал чуть ли не пол комнаты, всё равно места было впритык, ибо слишком уж много набилось в комнату людей.
Когда все кое-как расселись, в комнату с кухни впорхнула Катя, принесла чай и стала разливать его по стоящим на столе чашкам.
Когда через пару минут все сидели и прихлёбывали ароматный горячий напиток, со стула поднялся Ермолов и сказал:
– Рот фронт, товарищи! Открывается очередное собрание нашего книжного клуба. Сегодня с нами наш новый товарищ – Фёдор Щукин.
Все посмотрели на Фёдора. Фёдор решил, что лучше будет встать. Вслед за ним встал и Ермолов, и сказал:
– Пока что товарищ Щукин, многого от тебя мы требовать не будем. Пока нам нужно только одно – чтобы ты поклялся, что не расскажешь ни одному человеку о том, что видел в этой квартире, не расскажешь никому, где был сегодня, не расскажешь ни про кого из нас и про наш клуб. Клянёшься ли ты, что ни одна живая душа об этом не узнает?
– И маме тоже не рассказывать? – спросил Фёдор, так как очень доверял Надежде Сергеевне.
– И маме тоже. Никому.
– «Никто не должен знать. – И Надя? – НИК-ТО.» – сказала Ермолова и засмеялась.
Фёдор удивлённо посмотрел на неё. «Откуда она знает, как зовут мою маму?» – подумал он. Ермолова же, увидев его удивлённое лицо, сказала ему:
– Это тоже цитата из фильма. – и снова засмеялась.
А её брат тем временем снова спросил:
– Ну так что же, товарищ Щукин, клянёшься ли ты, что ни одна живая душа не узнает о нас?
Фёдор между тем взял себя в руки, и с крайним воодушевлением сказал:
– Клянусь! – и словно бы на всякий случай повторил ещё раз. – Да, клянусь!
– Ну что ж, пока этого вполне достаточно. – сказал Ермолов и обратился ко всем собравшимся. – Теперь, товарищи, не откладывая в долгий ящик, мы с вами продолжим чтение замечательного романа советского писателя, моего тёзки, Николая Островского – «Как закалялась сталь».
Он подошёл к шкафу, достал оттуда книгу и положил на стол.
Фёдор сидел ближе всех, а потому, сумел хорошо рассмотреть книгу. Книга была старая-престарая, вся потрёпанная и с выцветшими жёлтыми страницами. Обложка книги была тёмно-зелёной, и на ней был нарисован человек в довольно странном одеянии.
Это было какое-то длинное пальто с довольно нелепыми полосками ткани посередине. На голове у человека был удивительный, никогда прежде не виданный Фёдором конусообразный головной убор. В руках человек держал какое-то древнее оружие, коим пользовались в далёкие века, и именно по этому оружию Фёдор догадался, что человек этот – скорее всего военный, а странная одежда его – это ни что иное, как военная форма предыдущих веков.
Но это были лишь догадки. Фёдор решил до поры до времени ни о чём не спрашивать и просто слушать. Так же, на обложке книги, помимо вооружённого человека имелась и надпись – «Н. Островский – Как закалялась сталь». Ни имя автора, ни название книги – ни о чём не говорили Фёдору, но и об этом он тоже решил не спрашивать.
Всё-таки тут происходило что-то удивительное. У Фёдора было ощущение, будто данная квартира находится вне пространства и времени, и будто он сейчас находится не в Иркутске XXIV века, а в каком-то совершенно другом месте. Но как ни странно – Фёдор понемногу уже начал к этому привыкать.
Ермолов же спросил у собравшихся:
– Чья сегодня очередь читать?
– Товарища Измайлова. – ответил Герасимов.
«Значит тут читают по очереди» – снова пронеслось в голове у Фёдора.
Ермолов отдал книгу Измайлову. Тот пролистал книгу примерно на треть, и начал читать:
«
Глава седьмая
Целую неделю городок, опоясанный окопами и опутанный паутиной колючих заграждений, просыпался и засыпал под оханье орудий и клекот ружейной перестрелки. Лишь глубокой ночью становилось тихо. Изредка срывали тишину испуганные залпы: щупали друг друга секреты. А на заре на вокзале у батарей начинали копошиться люди. Черная пасть орудия злобно и страшно кашляла. Люди спешили накормить его новой порцией свинца. Бомбардир дергал за шнур, земля вздрагивала. В трех верстах от города, над деревней, занятой красными, снаряды неслись с воем и свистом, заглушая все, и падая, взметали вверх разорванные глыбы земли. …»
Измайлов читал и читал. А все остальные сидели и слушали. Фёдор тоже слушал и пытался вникнуть в суть книги. Было очевидно, что речь в ней шла о какой-то далёкой войне прошлого. Главный герой её – был некто Павел Корчагин, сражавшийся за одну из воюющих сторон. Кстати, в книге часто употреблялось то самое, впервые сегодня услышанное им слово – «товарищ». Но так как слушать Фёдор начал книгу не с начала – он ещё не совсем понимал, что там к чему и кто есть кто.
Чтение продолжалось около часа. Измайлов читал вслух, а остальные сидели и слушали. Наконец, прочитав две или три главы, Измайлов остановился.
Тогда Ермолов сказал:
– Ну что же, товарищи, теперь перейдём к исторической части. – и достал из того же шкафа кипу старых бумаг.
Бумаги Ермолов зачитывал уже сам, но и из них Фёдор не очень много вынес для себя. Главное, что было понятно – речь в книге шла о некой Гражданской Войне, которая происходила на территории России в далёком прошлом, и в которой воевали какие-то «красные» против каких-то «белых». Но кто были такие эти «красные» и «белые», почему они воевали друг против друга и за что конкретно каждый из них воевал – этого Фёдор пока не понял.
Зато Фёдор вдруг, посмотрев за окно ясно понял другую, очень неприятную вещь. За окном давно уже стемнело, а надо было ещё как-то добираться до дома. А учитывая ночной разгул преступности «золотого века» – выйти на улицу в это время – было практически смерти подобно.
«А завтра с утра идти в институт! Ну и ну! Что же теперь делать?» – промелькнуло в голове у Фёдора. Тут он вспомнил и те слова, которые просил сестру передать матери – «Сегодня поздно приду». Только сейчас Фёдор представил, что должна сейчас чувствовать Надежда Сергеевна – на дворе темно, сына дома нет, телефон тоже дома лежит, связаться с ним никак нельзя. Ему же самому при этом – ещё каким-то образом надо возвращаться домой.
Как только эта мысль пришла ему в голову – Фёдор сидел как на иголках. Спрашивать, однако же – ничего не стал, решив посмотреть, что будет дальше.
Собрание между тебя подходило к концу. Темноту за окном – постепенно заметили и все остальные, но никто кроме Фёдора, казалось – по этому поводу не волновался.
Герасимов, однако же, недовольно нахмурился и пробурчал:
– Да уж, опять до темноты закончить не успели… Опять ночевать тут придётся.
Фёдор по-прежнему молчал и ничего не говорил. Из слов Герасимова ему стало ясно, что видимо – ему придётся провести ночь в этой квартире. Впрочем, и вариантов-то особых тут не было. Таков уж был «золотой век» во всей его красе, что простая темнота на улицах – загоняла людей в свои дома получше любого комендантского часа. Казалось даже, в «золотом веке» существовал некий негласный договор, по которому днём улицы принадлежали обычным людям, которые шли на работу и с работы, а под покровом ночи – на улицы выползала всякая шушера, начинался разгул организованной преступности и весь город на всю ночь словно превращался в один большой адский котёл с беснующимися в нём адскими же тварями. Но ночь постепенно подходила к своему концу, наступал день – и все преступные элементы как по волшебству испарялись с улиц, снова уступая место закону и порядку. Но испарялись они – лишь до следующего наступления темноты.
Сейчас же за окном была темнота, и наступило время, когда обычные люди должны сидеть в своих домах и квартирах, не высовывая носа на улицу. Вот под окнами квартиры, где находился Фёдор – послышалась стрельба, вот кто-то закричал, моля о пощаде, вот снова стрельба. На несколько минут всё затихало, а потом снова и снова слышались крики, ругань, стрельба.
– Убили, видать кого-то. – равнодушно заметил Герасимов и спросил, обращаясь ко всем. – Ну что, может спать уже будем? Поздно, а завтра в институт идти с утра пораньше.
– Да, пора спать. – сказал Ермолов. – Собрание закончено, товарищи!
Все поднялись из-за стола. И тут Фёдор увидел, что вместо того, чтобы идти из комнаты к входной двери – все один за другим устремились на балкон. Фёдор пошёл следом, и увидел, что на балконе лежит целая гора скатанных матрасов. Каждый брал себе один матрас, шёл назад и расстилал матрас на полу, где было свободное место. Фёдор тоже взял один матрас и раскатал его недалеко от балкона. В матрасе оказалась подушка. Фёдор лёг на матрас и решил попытаться уснуть как можно скорее. Но день сегодня был слишком насыщенный, слишком много надо было переварить. Он вспомнил всё до мельчайших подробностей – и как к нему днём подошёл Кречетов и как рассказал про собрание, и как он шёл к этому дому, и как с Гарасимовым зашёл в квартиру, и как встретился с Катей. Потом познакомился со всеми остальными, потом это собрание, а теперь ещё ко всему прочему – ему предстоит ночёвка в этой странной квартире.
Наконец все кое-как улеглись. Кому не хватило места в комнате – расстелили матрасы на кухне и в коридоре. После этого Катя достала из шкафа пледы и покрывала – и стала раздавать их всем. Фёдору тоже достался плед, он поблагодарил Катю и сразу накрылся им, решив побыстрее уснуть.
Но уснуть никак не удавалось. Не давали покоя мысли. И мысли о матери, которая сейчас понятия не имеет, где он, и мысли об этом собрании, и мысли о Кате. Забылся Фёдор только под утро и спал всего часа три. Проснулся он только когда уже рассвело и почти все проснулись. Фёдор решил побыстрее уходить. Надо было идти в институт, но перед этим – он решил во что бы то ни стало забежать домой и успокоить мать.
Понемногу начали расходиться. Фёдор тоже собирался уходить. Но тут ему в голову пришла на первый взгляд довольно странная мысль. Ему почему-то очень захотелось взять домой книгу, которую они вчера читали – и прочитать её самому.
Он собрался с мыслями, и подошёл к Кате, которая хозяйничала на кухне:
– Катя… – окликнул он её.
– Что? – Катя обернулась.
– Я тут попросить хотел…эээ…а можно я…можно мне…эээ…можно мне взять домой книгу, которую мы вчера читали?
– Что, интересная книга? – улыбнулась Катя.
– Ну…эээ… видишь ли…я же сегодня в первый раз тут был, а книгу вы не с начала читали, вот я и решил к следующему собранию догнать вас, дочитать с начала и до того места, где сегодня читали.
– То есть в следующий раз тоже решил прийти? – продолжала улыбаться Катя.
– Обязательно! – заверил её Фёдор. – Обязательно приду!
– Ну что же, хорошо. – сказала Катя и принесла Фёдору старую потрёпанную книгу. – Вообще-то это книга не моя, а Николая, но думаю, что он возражать не будет.
Фёдор взял книгу, попрощался быстро и ушёл. Он очень спешил – через два часа начинались занятия в институте, а надо было ещё успеть забежать домой. Фёдор ехал до дома и прикидывал – застанет ли он мать дома или нет, по времени выходило – что если поторопится, то застанет прямо впритык, перед дверью, когда Надежда Сергеевна будет выходить на работу.
«Ладно! Впритык так впритык! – думал Фёдор. – Главное застать, показаться что живой, что со мной всё в порядке!». Пулей влетел он в квартиру и открыл дверь.
Но как оказалось – Надежда Сергеевна даже не собиралась на работу. Она сидела на кухне и плакала. Казалось, что за эту ночь она постарела на много лет.
– Феденька! Феденька, родной! – закричала она, и кинулась к сыну и стала обнимать его. – Феденька, а я уж думала, что нет тебя на этом свете!
Фёдор обнимал мать и мысленно проклинал себя на чём свет стоит за то, что попёрся неизвестно куда и пропал на всю ночь. Учитывая реалии «золотого века» – немудрено, что Надежда Сергеевна не чаяла увидеть своего сына в живых.
Фёдор успокоил мать, заверил что всё с ним в порядке, схватил свою сумку и помчался в институт. Надежда Сергеевна не пошла на работу. Она всё продолжала и продолжала плакать.
Этому дню было суждено стать поворотным днём в жизни семьи Щукиных. Надежде Сергеевне на работе засчитали прогул – и уволили её. В те времена работу пропускать было никак нельзя, даже по уважительной причине. В «золотом веке» не было больничных, не было отгулов, не было отпусков. И уж тем более – не было никакой борьбы трудящихся за свои права. В те времена закон был очень простой – не можешь работать, значит твоё место займёт другой, причём займёт тут же, ибо безработных было полно, и люди месяцами и годами стояли в очереди на бирже труда, чтобы получить хоть какое-нибудь место.
Вечером Фёдор пришёл из института, а Надежда Сергеевна так и была дома. Она накормила сына ужином, а после этого рассказала ему о том, что её уволили. Фёдор почувствовал жгучий стыд.
«И ежу понятно, почему мама не пошла сегодня на работу. Всю ночь ждала меня, плакала, гадала, где я и что со мной. Кто виноват-то кроме меня?» – подумал Фёдор.
А вслух сказал:
– Ничего страшного, мама. Уволили – и чёрт с ними. Хватит тебе работать, настало время работать мне. Как отец с Иваном померли – я главой семьи стал. Не ищи больше работу, теперь работать буду я.
– А институт-то как же, сынок? – спросила Надежда Сергеевна.
– На вечернее переведусь или на заочное. – успокоил мать Фёдор.
Поужинав, Фёдор лёг на диван и стал отдыхать. И только тут он вспомнил о книге, которую Катя дала ему утром. Он достал из сумки старую книгу и стал внимательно рассматривать её. На обложке всё так же был человек в непонятном головном уборе и надпись – «Н. Островский – Как закалялась сталь».
Фёдор начал читать книгу, но многого в ней не понял, потому что книга повествовала о слишком далёких временах и событиях.
Фёдор решил осторожно расспросить об этом Надежду Сергеевну, вдруг она что-нибудь знает об этом. Заодно и отвлечь надо мать от неприятных мыслей.
Фёдор пошёл на кухню. Надежда Сергеевна сидела на кухне и пила чай.
– Мама, я тут это… – начал Фёдор.
– Чего, сынок?
– Я тут в институте сегодня в библиотеке книгу взял. – соврал Фёдор и показал Надежде Сергеевне книгу.
Надежда Сергеевна взяла книгу посмотрела название, перелистала ветхие страницы и сказала:
– Хм, никогда о такой книге не слышала. А о чём она?
Фёдор наспех рассказал о том, что понял из книги. Когда он рассказывал про Гражданскую войну, про красных и белых, Надежда Сергеевна сказала:
– Ах да! Я вспомнила! Это мне мама в детстве рассказывала. Было когда-то такое государство – называлось…эм…как бишь его…а да! Называлось оно – «эсэсэсэр» – по слогам произнесла Надежда Сергеевна.
– А что это было за государство, мама? – спросил Фёдор.
– Это… – замялась Надежда Сергеевна. – Да я уже плохо помню, сынок. Лет-то уж сколько прошло. Почитай – я с детства до сегодняшнего дня и не слышала о нём ни разу. В школе нам про него ничего не говорили, в медучилище – и подавно, там истории вообще, как предмета не было. Только мама мне в детстве и говорила о нём.
– А что она говорила тебе? – продолжал настаивать Фёдор.
– Дай подумать. – стала вспоминать Надежда Сергеевна. – Говорила, что люди, мол, были хорошие. За счастье бедных боролись, за то, чтобы люди все равны были, и нищеты и голода на Земле не было.
– Видать, и вправду люди хорошие были. – задумчиво сказал Фёдор. – Больше ничего не помнишь, мама? Когда это государство было? Когда происходило это всё?
– Не помню, сынок. – сказала Надежда Сергеевна. – Но давно, давно. Не в XXIII веке уж точно, и даже не в XXII. Давно, лет 400 назад это было как минимум, а то и все 500.
– Спасибо мама, я пойду почитаю. – сказал Фёдор, поцеловал мать и вышел.
Не следует, однако, считать вышеприведённый разговор чем-либо странным. Незнание элементарных вещей, которое может показаться на первый взгляд дремучим невежеством Фёдора и Надежды Сергеевны – отнюдь не являлось таковым. Надежда Сергеевна была женщиной хоть и простой, но довольно умной. Даже то немногое, что она рассказала Фёдору – было уже немало для того времени. Надежда Сергеевна хотя бы когда-то что-то знала и слышала про СССР, и смогла дать Фёдору первые сведения об этой далёкой стране. Большинство же взрослых людей того времени, ровесников Надежды Сергеевны – про СССР вообще не слышали никогда и ничего.
Во-первых, следует понимать, что к тому моменту, о котором ведётся наше повествование – с момента создания СССР прошло без малого 400 лет. То есть времена СССР для Фёдора и Надежды Сергеевны – были, как для человека XXI века – времена правления Михаила Фёдоровича и Алексея Михайловича Романовых. Много ли людей смогут вспомнить хоть какие-нибудь события, которые произошли после окончания Смутного времени? Могут вспомнить про восстание Степана Разина, кто-нибудь вспомнит ещё про Медный бунт и Соляной бунт, произошедшие во время правления Алексея Михайловича. Но в общем-то на этом и всё. Из правления же Михаила Фёдоровича – среднестатистический человек, не историк – вообще скорее всего, не сможет вспомнить ни одного события. И уж почти наверняка – мало кто из людей XXI века сможет вспомнить на память даты жизни и годы правления этих двух русских царей. И те же без малого 400 лет, которые разделяли XVII и XXI века, разделяли так же и XX век и XXIV.
Интересно так же и то, что не смотря на тот же самый временной промежуток – в XXIV веке о временах СССР, люди знали и помнили ещё меньше, чем в XXI веке – о XVII-м. Это может показаться почти невероятным, так как в СССР было написано много книг, снято много фильмов, сохранилось много документов тех времён. И тем не менее – это было именно так. В «золотом веке» – про СССР почти полностью забыли. Даже о таких событиях как Великая Отечественная Война – в те времена почти никто не знал.
Почему же старые времена были почти забыты? И тут вступал в дело второй фактор, после отдалённости во времени. Дело в том, что «золотой век» – был по сути тем, что описал когда-то Хаксли в своей книге «О дивный новый мир». Разница была лишь в том, что настоящий «дивный новый мир» – был куда беднее и куда опаснее, чем это описывалось в книге. Полная легализация абсолютно всех наркотиков, тотальная нищета и разгул преступности – при такой «весёлой» жизни людям было как-то не до древних времён. А если учесть ещё и небывалый, для жителей предыдущих веков объём информации, а если быть более точным – информационной дряни, которую потребляли люди того времени, то становится понятно – что они не только не знали о том, что происходило 4 века назад, но и о том, что происходило всего один год назад – уже слабо помнили.
«Золотой век» – следует считать действительно золотым веком для масс-медиа. Контент, создаваемый даже уже не ежегодно или ежемесячно, а ежедневно и даже ежечасно – сыпался на зрителя тоннами и килотоннами, даже при отсутствии в XXIV веке интернета. Новые сериалы и ток-шоу появлялись каждый день и щедро нашпиговывались употреблением наркотиков, расчленёнкой и порнографией. Словом, в «золотом веке» – показывать зрителям можно было ВСЁ.
Совершенно естественно, что так как в сутках по-прежнему было всего 24 часа, а не 50 и не 100, то даже человек, который бы потреблял всё это каждый день с утра до вечера – не смог бы посмотреть и тысячной доли того, что показывалось по телевизору ежедневно. Поэтому как правило, люди выбирали несколько наиболее понравившихся им сериалов и ток-шоу – и смотрели именно их.
Впрочем, нет – сказать, что люди САМИ выбирали что им смотреть – конечно было бы неправдой. Выбирали, конечно, не они, выбирали за них. Тут не было ничего нового – определённым сериалам и ток-шоу искусственно накручивались рейтинги, о них выпускались многочисленные статьи в газетах с восторженными отзывами кинокритиков, а после этого – люди начинали обсуждать это уже друг с другом, и советовать друг другу что посмотреть.
Словом, общественное мнение давило так, что даже самым морально стойким людям – было очень сложно противиться ему. Если, например, выходил какой-нибудь сериал, о котором была дана установка сверху считать его гениальным и накручивать ему рейтинги – то об этом сериале начинали орать буквально из каждого утюга. А потом, об этом сериале начинали разговаривать с человеком его друзья и близкие. Услышав, что сериал этот человек не смотрел – все делали круглые глаза и так удивлялись, будто увидели живого динозавра.
Впрочем, в каком-то смысле динозавром для них этот человек и был. Если ты не посмотрел новый модный сериал – то все считали, что ты безнадёжно отстал от жизни. Ты был практически выброшен на обочину общественного сознания. Поэтому, чтобы не выпадать из информационного поля – необходимо было всегда следить за новинками (которые, напомним, выпускались каждый день) и обязательно смотреть хотя бы главные из них.
А если добавить ко всему этому ещё и неоднократно упоминаемый разгул преступности в «золотом веке», то нет ничего удивительного в том, что по вечерам за телевизорами сидели миллионы зомби и жевали снятую для них жвачку. Забежав быстренько после работы в магазин или палатку, и закупившись продуктами, алкоголем и наркотиками – люди усаживались у голубых экранов, вливали в себя стакан, вкачивали в вену содержимое «баяна» – и начинали смотреть, смотреть, смотреть.
Нельзя, впрочем, сказать, чтобы совсем никто не сопротивлялся такому массовому запудриванию мозгов. Были в «золотом веке» и свои «интеллектуалы», которые вместо того, чтобы смотреть сериалы и ток-шоу – читали книги. Как ни странно, но в те времена действительно ещё продолжали выпускать бумажные книги, причём в очень красивой обложке. И те, кто хотел «приобщиться к высокому» – их покупали и читали.
Однако же, несмотря даже на то, что некоторые люди читали книги – с ними обстояла точно такая же ситуация, как и с сериалами и ток-шоу. Писателей в «золотом веке» как таковых не было, все книги давным-давно писал искусственный интеллект. Да и книгами в привычном смысле слова – это было назвать довольно-таки затруднительно. Больших книг давно уже никто не читал, и все книги в красивой обложке – как правило были очень тоненькими, чтобы люди не слишком загружали свои мозги чтением. Да и в общепринятом смысле – их скорее не книгами даже можно было назвать, а просто брошюрами.
Выходили эти тонкие книжицы тоже очень часто, не реже раза в неделю, и выходили всегда сериями – об одном и том же персонаже было принято писать большое количество книг, чтобы люди следили за любимыми героями и покупали всё новые и новые книги. Часто книги становились бестселлерами и продавались огромными тиражами, но проходило совсем немного времени, и на смену одному бестселлеру тут же приходил другой. Книги буквально надувались популярностью как мыльные пузыри, и как мыльные же пузыри – так же быстро лопались.
Словом, чтение книг в «золотом веке» – по сути своей мало чем отличалось от просмотра сериалов и ток-шоу. Книгочеи тех лет, так же, как и все остальные, старались не выпасть из тренда, а потому, читали лишь то – что сейчас было модно читать. А так как всей этой мишуры выпускалось огромное количество, и на смену одним «шедеврам» тут же приходили другие – то людям и приходилось читать эти псевдобестселлеры раз за разом и день за днём, да ещё и покупать эти книги-брошюры в свою домашнюю библиотеку. Действительно, у многих, кто считал себя интеллектуалами, в те времена – были в квартирах домашние библиотеки, где полки были заставлены книгами, среди которых не было ни одной сколько-нибудь серьёзной. Обычное содержимое домашних библиотек – как раз и составляли те самые бестселлеры-однодневки.
По-настоящему же серьёзных книг – в «золотом веке» никто не то что не читал, а даже скорее всего не слышал о них. Никто из дутых интеллектуалов того времени, никогда не читал ни «Войну и мир», ни «Братьев Карамазовых», ни «Жизнь Клима Самгина», ни «Тихий Дон». Да и зачем было их читать? Книги написаны давно, 400-500 лет назад, поди разберись о чём там речь. Да и к тому же – по объёму они слишком большие, такого размера тома – никто давно не читал. Максимальный объём книги того времени – был максимум 100 страниц, чтобы можно было прочитать за выходной день. Но это – был именно что самый максимум, обычно книги были заметно меньше, и их объём не превышал 50 страниц. Всем было понятно, что с нынешним темпом жизни – никто никогда не будет читать ни 500-страничную, ни уж тем более 1000-страничную книгу, на это просто ни у кого не было времени.
Словом, в век сериалов, ток шоу, и книг-брошюр, не было ничего удивительного в том, что про СССР никто ничего не знал и не слышал. И не потому, что советские книги были запрещены. Нет, прямого запрета ни на что советское не было. При желании – можно было где-нибудь взять и прочитать буквально любую советскую книгу. Просто их никто не читал.
Сильные мира сего, живущие в «золотом веке» – не стали ничего запрещать, так как усвоили нехитрую формулу, что «запретный плод сладок». Разумеется, для них было нежелательно, чтобы люди стали знакомиться с трудами Маркса и Ленина, однако же они прекрасно понимали, что запрети они данные произведения – люди всё равно найдут способ их прочитать. Но чем больше их будут запрещать – тем больший интерес данные книги будут вызвать у людей.
И тогда они нашли другой способ сделать так, чтобы люди ничего такого не читали – они разрешили вообще ВСЁ. Все книги, когда-либо написанные – находились в открытом доступе, запрещённой литературы в «золотом веке» не было. Но именно потому, что она не была запрещённой – её никто не читал. А чтобы направлять людей, которые любят читать в нужное русло – им и подсовывали те самые бестселлеры-однодневки, искусственно создавая вокруг них информационный шум. Выгодная литература – усиленно пиарилась в СМИ, а про ту, которую не надо было говорить – просто молчали.
Именно поэтому Фёдор и Надежда Сергеевна никогда не слышали ни про Николая Островского, ни про книгу «Как закалялась сталь».
Кроме того, учитывая, что книги в то время старались не писать больше 100 страниц, то естественно – 350-страничная книга была для жителя того времени прямо-таки огромным произведением. Никогда в своей жизни Фёдор не читал ничего более объёмного.
И тем не менее – Фёдор решил рискнуть. Он долго медлил, держа в руках старую потрёпанную книгу, с человеком в странном головном уборе на обложке, но наконец решился – он открыл книгу и стал читать.
Поначалу читать было трудновато – действие книги происходило в далёкие времена, и Фёдору было многое непонятно. Но мало-помалу он втянулся. Проходили часы, а Фёдор всё продолжал читать, перелистывая станицы одну за одной. Сначала Фёдор хотел дочитать книгу лишь до того места, с которого сегодня началось чтение. Но дочитав, решил – что прочтёт книгу полностью, настолько сильно захватило его действие книги.
Он всё читал и читал, пока наконец к нему в комнату не зашла Надежда Сергеевна и не сказала:
– Федя, поздно уже! Тебе ведь завтра в институт!
Фёдор словно бы очнулся из забытья и посмотрел в окно. На дворе была тёмная ночь. Повествование настолько захватило его, что он даже не заметил, как пролетело время.
Фёдор дочитал главу, отложил книгу, выключил свет и уснул. Наутро, Фёдор пошёл в институт, и сказал в деканате, что хочет перевестись на заочное отделение. После чего – купил в киоске газету и стал смотреть вакансии о приёме на работу. Фёдор отметил в газете карандашом несколько вакансий, снова принялся за чтение и читал так до позднего вечера.
***
Так начался путь Фёдора. Вернее сказать – пути было два. Путь трудящегося и путь социалиста. Работы Фёдор не боялся и охотно брался за любую. Работал грузчиком, курьером, разнорабочим и наконец – устроился работать в типографию. В институте он, как и обещал матери – перевёлся на заочное. Почти всё свободное время он посвящал чтению и собраниям в книжном клубе. В скором времени, Фёдор стал настоящим знатоком советской прозы, вслед за Островским – последовал Аркадий Гайдар, за ним – Максим Горький, а потом – Шолохов, Шишков, Фадеев. На собраниях – Фёдор внимательно слушал и запоминал обо всех услышанных книгах. Постепенно – перед ним стала открываться поистине эпохальная картина – картина появления, возвышения и последующего падения великой страны. Фёдор постоянно слышал всё новые и новые фамилии живших давным-давно людей, о которых совсем недавно он и понятия не имел – Ленин, Сталин, Свердлов, Дзержинский. Поначалу – разобраться в этом было трудно, но Фёдор старался всё запомнить и часто повторял дома по памяти то, о чём говорили в «книжном клубе».
Тогда же – Фёдор впервые услышал про Гагарина, и с удивлением узнал, что его, Фёдора день рождения – 12 апреля, это ещё и день полёта первого человека в космос. Фёдор не считал это простым совпадением, наоборот – он видел в этом некое провидение, некий перст судьбы. А потому – взялся за чтение с удвоенной силой.
Фёдор работал, учился, читал, посещал собрания. Не хватало ему лишь одного – верной боевой подруги, верной спутницы жизни. Поэтому – однажды Фёдор набрался смелости и пригласил Катю на свидание. Катя, казалось, сначала удивилась, однако на свидание пошла. С этого дня и начались их отношения, продолжавшиеся до конца жизни.
Глава седьмая. Хроника веков предыдущих. Скитания молодожёнов.
Прошло больше двадцати лет. Ох, и покидала же жизнь Фёдора и Катю за это время! Где только им не довелось побывать, где только пожить не довелось!
Но сначала была свадьба. Не сказать, чтобы весёлая и не сказать, чтобы широкая и разгульная, однако же – хорошая и душевная.
Где-то год Фёдор и Катя встречались. А потом однажды, Фёдор сказал Кате:
– Катя, я люблю тебя! Выходи за меня замуж!
Вот так просто взял и сказал. Сказал, не встав на колено, не вынув из кармана бархатную коробочку с кольцом. И это, казалось, действительно немного расстроило Катю. Как и для любой женщины – свадьба для неё была целым событием, причём событием не просто торжественным, а можно сказать каким-то сакральным. Поэтому Катя надула губки и сказала:
– Замуж, Фёдор? Но где же тогда кольцо, где цветы?
Фёдор поначалу немного растерялся, так как понял, что он и в самом деле выбрал не самый удачный момент и не самую удачную форму для того, чтобы сделать предложение любимой девушке.
Однако, смутился Фёдор ненадолго, взял себя в руки и шутливо спросил:
– Товарищ Ермолова, что это ещё за мелкобуржуазные замашки?
Теперь смутилась уже Катя. Однако она тут же улыбнулась и сказала:
– Ну коли так, товарищ Щукин – то я согласна!
И они тут же пошли в ЗАГС – подавать заявление.
Свадьба была очень скромной, если не сказать больше – сделанной наспех. На свадьбе кроме жениха и невесты были лишь Надежда Сергеевна, Света, брат Кати – Николай, да несколько их товарищей по книжному клубу. Вот и всё. Родители Кати и Николая умерли, а у Фёдора в живых была только мать. Поэтому Надежда Сергеевна была единственным человеком в возрасте, всех остальных же – условно можно было отнести к категории «молодёжь».
Праздновали в квартире у Щукиных. Ни о каком ресторане, конечно, не могло быть и речи – денег было в обрез. В комнате разложили большой стол и два дня перед свадьбой – Надежда Сергеевна, Света и Катя – готовили еду на стол, а Фёдор – таскал из магазина продукты.
Встал вопрос о том – покупать ли на стол алкоголь. Фёдор и Катя были против этого, Надежда Сергеевна – тоже. Слишком свежи в её памяти были воспоминания о старшем сыне, Иване – которого сгубил зелёный змий.
Но всё же, поразмыслив, Надежда Сергеевна сказала – что, если на свадьбе совсем не будет спиртного, гости могут их неправильно понять. Фёдор и Катя тут же сказали, что все поймут их правильно, что гости – их товарищи, и никто не скажет ни единого слова. Однако Надежда Сергеевна настояла – и Фёдор, скрепя сердце, купил всё-таки к столу три бутылки водки и три бутылки красного вина.
Встала ещё другая проблема – с платьем для невесты. Фёдору и Кате – было решительно наплевать, в чём идти в ЗАГС. Однако, тут снова заспорила Надежда Сергеевна, очень уж ей хотелось, чтобы всё было «по-людски».
У Фёдора – парадного костюма не было, однако в шкафу – висел парадный костюм его отца – Фёдора Степановича, в котором тот женился на Надежде Сергеевне. Так как после этого, Фёдор Степанович надевал этот костюм всего два-три раза на юбилеи, то выглядел он как новый. Надежда Сергеевна достала костюм, надела его на Фёдора, кое-где подшила, чтобы костюм сидел на её сыне как можно лучше – и всё, вопрос с одеждой на свадьбу – для Фёдора был решён.
А вот у Кати – свадебного платья не было. Фёдору казалось – что для Кати – это настоящая проблема. Ему казалось – что любая женщина мечтает о том, чтобы надеть белое платье невесты. И он лихорадочно думал, где бы его достать. Можно было бы, конечно, взять платье напрокат – но денег и так уже оставалось совсем в обрез.
Фёдор всё думал и думал, но ничего в голову не приходило. Он ходил по дому смурной, погружённый в свои мысли. Надежда Сергеевна заметила, что с сыном её что-то не так, и спросила:
– Что с тобой, Федя?
Фёдор рассказал ей о платье для Кати. Надежда Сергеевна спросила:
– А ты говорил об этом с Катей?
– Эээ… нет, не говорил. – замялся Фёдор.
– Ну вот и поговори.
Фёдор позвонил Кате и сказал, что хочет с ней встретиться. Встретились они на лавочке, возле катиного дома. Катя выбежала к нему в лёгком летнем красно-жёлтом платьице в цветочек и обняла его:
– Здравствуй, любимый!
– Здравствуй. Катюша. Я хотел с тобой поговорить.
– Что-то случилось? – взволнованно спросила Катя.
– Да, есть одна проблема.
– Какая?
И Фёдор рассказал ей, что не знает, где взять для неё свадебное платье. В ответ на это Катя, которая только что серьёзно и сосредоточенно его слушала, стала заливисто хохотать:
– И всё, это вся проблема?
– Ну да. – ответил Фёдор.
– Ой не могу, ну насмешил, Федя! Вот уж проблема так проблема! А я-то уж такого себе надумала…
– А разве это не проблема? – насупился Фёдор. – Ты ведь, как и все женщины – наверняка хочешь в белом платье быть в ЗАГСе? А у нас на него денег нет.
Катя снова заливисто расхохоталась и сказала ему ту же самую фразу, которую ещё недавно Фёдор сказал ей:
– Товарищ Щукин, что это ещё за мелкобуржуазные замашки?
Фёдор улыбнулся и сказал:
– Один – один, товарищ Ермолова. Но как же всё-таки быть с платьем?
– А никак. – улыбнувшись ответила Катя. – Не надо мне никакого белого платья. В этом вот в ЗАГС и пойду.
Фёдор посмотрел на её лёгкое летнее платье. Хотя платье было красивым и даже нарядным – однако больше подходило для загородного пикника и летних прогулок по парку, нежели для ЗАГСа.
– В этом? – переспросил Фёдор.
– В этом. – продолжала улыбаться Катя.
– В ЗАГС?
– В ЗАГС?
– Катя, ты с ума сошла?
– Ничего я не сошла. – невозмутимо ответила Катя. – Замуж ведь в платье принято выходить? В платье. Вот и я буду в платье. Так в чём проблема?
– Ну не в таком же платье, Катя! В белом, свадебном.
– А я буду не в белом и не в свадебном. – снова расхохоталась Катя.
– Так мы же не одни там будем, будут и другие пары, которые женятся. На тебя же там все смотреть будут. – пытался увещевать её Фёдор.
– Ну и пусть смотрят! – с вызовом сказала Катя. – Пусть смотрят! Или ты что же, товарищ Щукин, будешь своей жены стыдиться, если она придёт в ЗАГС не в белом платье?
– Да нет, не буду, конечно, но всё же…
– Ну тогда и говорить не о чем! – отрезала Катя. – Пойду так, и всё тут!
Фёдору ничего не оставалось, как согласиться.
В ЗАГСе Катя действительно смотрелась несколько непривычно, так как все прочие присутствовавшие невесты – были в белых платьях. На Катю постоянно все смотрели и оглядывались, но ей было всё равно. Стоя перед регистраторшей в лёгком платье и босоножках, она сказала Фёдору «Да», обменялась с ним кольцами и поцеловалась.
Когда молодожёны и все присутствующие вышли и ЗАГСа – их, вместо роскошного лимузина – ждали два такси. Хоть денег почти не оставалось – всё же Фёдор решил, что свадьба, есть свадьба – и доехать из ЗАГСа домой надо непременно на машине, пусть это даже будет и такси. Все загрузились в машины и поехали домой, где Надежда Сергеевна и Света – быстро достали еду из холодильников и накрыли на стол.
Напрасно волновались Щукины насчёт алкоголя – он на свадьбе оказался почти не нужен. Из купленных Фёдором шести бутылок – в итоге было выпито лишь две – бутылка водки и бутылка вина. И это – на всех гостей вместе взятых. То есть – выпили чисто символически, напиваться никто не собирался. Свадьба и без этого получилась весёлой – все непрестанно смеялись и шутили. Да и засиживаться особо было некогда – по домам надо было обязательно разойтись до темноты.
После свадьбы началась будничная семейная жизнь, Катя переехала в квартиру к Фёдору. В семейной жизни – Катя показала себя с самой, что ни на есть, лучшей стороны и была прекрасной женой. Она не ругалась с Фёдором, не скандалила, ничего не требовала и охотно помогала своей свекрови в домашних делах.
Первые годы после свадьбы – молодожёны жили в Иркутске. Фёдор продолжал работать и учиться на заочном. Катя решила последовать его примеру – и тоже решила закончить институт. Училась она, правда – на очном, но при этом – подрабатывала. Света закончила колледж и тоже пошла на работу, а Надежда Сергеевна – вела хозяйство.
Вчетвером в одной квартире – было тесно, неуютно. Фёдор и Катя понимали, что им надо куда-нибудь съезжать. Однако же – они по-прежнему продолжали жить там, где жили. Ждали – пока закончиться учёба. Наконец – Фёдор закончил институт и получил диплом. Кате – ещё оставалось учиться один год.
Нелегко было четверым людям совместно жить в одной квартире. Будь на их месте кто-то другой – конфликты возникали бы неминуемо. Однако же в данном случае – все относились друг к другу доброжелательно и помогали чем могли – поэтому все они вчетвером жили в одной квартире мирно и не портили друг другу жизнь.
Однажды Фёдору в голову пришла одна идея. Фёдор обдумывал её несколько дней, поговорил о ней с Катей, а потом пошёл поговорить с Надеждой Сергеевной.
Однажды вечером, он подошёл к Надежде Сергеевне и сказал:
– Мама, мне надо тебе кое-что сказать.
Надежда Сергеевна в это время сидела и смотрела телевизор. Она повернулась к Фёдору и спросила:
– Что такое, сынок?
– Лучше пойдём на кухню, мама.
Они пришли на кухню, Надежда Сергеевна стала наливать в чашки чай, а Фёдор без обиняков начал:
– Мама, ты помнишь майора?
Надежда Сергеевна не поняла, о чём он говорит, и потому спросила:
– Какого майора, Федя?
– Майора из Тайшета. Он тебе ещё замуж предлагал за себя выйти.
– Ну да, помню. – Надежда Сергеевна крайне удивилась, что сын завёл разговор о нём.
– То ли Буров фамилия, то ли Гуров, не помню. – продолжал Фёдор.
– Буров. – сказала Надежда Сергеевна. – Ну так и что же?
– А то, что я вспомнил тут, как майор этот тебе говорил, что мы можем приезжать в Тайшет если понадобиться и обращаться к нему за помощью. Сказал, что, если вдруг чего случится – он нам поможет.
– Я помню, так и что же?
– А то, мама, что надо тебе связаться с этим майором.
– Зачем?
– Мы с Катей в Тайшет поедем.
– В Тайшет? – удивлению Надежды Сергеевны не было предела. – А зачем вы туда поедете?
– Жить поедем, мама.
Надежда Сергеевна так и осела на стул.
– Жить?
– Жить.
– В Тайшет?
– В Тайшет.
– Ты что же, сынок, бросаешь нас? Меня, Свету – свою семью?
– Я никого не бросаю, мама. – твёрдо ответил Фёдор. – Но ты же понимаешь, что дальше так продолжаться не может. Мы с Катей больше не можем жить в этой квартире.
– Почему, сынок? Тебе с нами плохо? – Надежда Сергеевна почувствовала, как её глаза наполняются слезами.
Но Фёдор уже твёрдо принял решение ехать, и отступать от него не собирался. Однако же – увидев, какое впечатление произвели его слова на мать, Фёдор понял, что Надежду Сергеевну – надо успокоить, а потому – сказал как можно мягче:
– Нет, мама, мне с вами не плохо. Я люблю и тебя и Свету, и ты это знаешь. Но ты же понимаешь, что мы с Катей молодожёны – нам надо заводить детей. Где же это делать? Уж не на этой ли съёмной квартире? Поэтому – мы посоветовались, и приняли решение уехать. Иркутск – слишком большой город и жизнь для нас тут – слишком дорога. И тогда я вспомнил про того майора, который предлагал свою помощь. Я предложил Кате уехать жить в Тайшет, и она согласилась.
Тут Надежда Сергеевна наконец взяла себя в руки и сказала:
– Детей заводить не здесь? – Надежду Сергеевну прямо-таки возмутили слова сына. – А где же ты сынок собрался заводить детей? В доме у Бурова?
– Мы не будем жить у Бурова, мама. Мы хотим приехать туда, снять квартиру или дом в Тайшете и жить там. Думаю – Буров сможет нам в этом помочь.
– И ты хочешь, чтобы я позвонила ему и попросила о том, чтобы он встретил вас в Тайшете и помог с жильём?
– Конечно.
– А если он не согласится – то вы уедете?
– Уедем.
Надежда Сергеевна задумалась – и думала она довольно долго. Очевидно, она искала аргументы для того, чтобы отговорить сына от поездки – и не находила их. Наконец она спросила в сердцах:
– А мы-то как же, сынок? Я, Света… Вы уедете, а нам-то что делать?
Но Фёдор, оказывается подумал и об этом. Поэтому он невозмутимо сказал:
– А вы, мама – потом тоже к нам в Тайшет переберётесь.
– Что-то я тебя не понимаю, сынок. – ответила Надежда Сергеевна. – Ты сам себе противоречишь. То ты говоришь, что молодожёны должны жить отдельно, то говоришь, что мы должны будем к вам переехать и вместе жить.
– Нет, мама, не противоречу. Я и не говорил, что вы в Тайшете будете жить у нас.
– А где же мы будем жить? На вокзале что ли?
– Нет, не на вокзале вы будете жить у Бурова.
– Где?!
– У Бурова?
– У Бурова?! – изумлению Надежды Сергеевны не было предела. – А с какой это радости, сынок, мы должны жить у чужого человека?
– У чужого – может и нет. – всё так же невозмутимо вещал Фёдор. – А что, если не у чужого?
– Как это?
– Помнится, когда мы были в Тайшете – Буров тебя замуж звал.
– И что же?
– Ну так вот и вышла бы может за него?
У Надежды Сергеевны, казалось, уже не было сил удивляться чему бы то ни было. Она ошарашено глядела на сына, как будто впервые его увидела. Наконец она сказала:
– Ты что, сынок, белены объелся?
– Ничего я не объелся… – весело расхохотался в ответ на это замечание Фёдор.
Его весёлый смех передался и Надежды Сергеевне и мать с сыном начали заливисто хохотать. Напряжение в разговоре спало. Однако мало-помалу, разговор снова приобрёл серьёзный характер.
– Так что же сынок, ты в самом деле хочешь, чтобы я вышла замуж за этого Бурова? – спросила Надежда Сергеевна.
– Хочу или не хочу – говорить неправильно. Это в общем не моё дело.
– Но ты не против?
– Я не против.
Надежда Сергеевна задумалась, а потом сказала:
– Я не выйду за него.
– Почему?
– Как же я выйду замуж за совсем чужого человека?
– Все поначалу чужие. – парировал Фёдор. – Разве до того, как ты отцом познакомилась, он тебе не был чужим?
– Э…эмм…ну в общем-то да…был… – замялась Надежда Сергеевна. Такая постановка вопроса явно поставила её в тупик.
– Ну а раз так – то, за чем же дело стало? – спросил Фёдор.
– Всё равно я не могу выйти за него.
– Почему?
– Ну мне кажется, что он жёсткий, грубый человек…
– Ну разумеется, мама, что он жёсткий. Он ведь не из института благородных девиц. Он военный. Вот служба и заставляет его быть жёстким. Но мне кажется, что он не злой человек.
– Почему ты так думаешь?
– Ну хотя бы потому, мама, что он приютил у себя совершенно незнакомых людей.
На это Надежде Сергеевне возразить было нечего. Однако, предложение сына – было для неё что называется «обухом по голове» и она совершенно оказалась к этому не готова. Все эти годы, она жила ради детей, поэтому ей было не до замужеств, и она почти не вспоминала о Бурове. Но теперь, с лёгкой руки Фёдора – Надежда Сергеевна всерьёз задумалась о давнем предложении руки и сердца, которое ей когда-то сделал Буров в Тайшете.
«А что, чем чёрт не шутит? – пронеслось в голове у Надежды Сергеевны. – Сколько можно одной быть, я ведь не старая ещё. А Буров этот – мужик вроде ничего себе, по крайней мере – не хуже других. А вдруг?».
Надежда Сергеевна так расхрабрилась, что тут же сказала Фёдору:
– Так что сынок? Значит звонить мне этому Бурову?
– Звони.
– И просить, чтобы он вас с Катей в Тайшете пристроил?
– Да.
– Ладно, позвоню. А какой номер-то у него? И как звать этого Бурова?
– Сейчас, у меня записано. – сказал Фёдор и пошёл в комнату.
Из комнаты он вернулся с блокнотом и стал диктовать номер.
– Вот его номер. А зовут его – Андрей Евгеньевич. – сказал Фёдор.
И Надежда Сергеевна пошла к телефону. Но лишь только она взяла телефонную трубку – вся храбрость её будто испарилась. Ей стало страшно. Но она пересилила свой страх. В конце концов – у неё была уважительная причина, чтобы позвонить.
Она стала набирать номер. В трубке пошли гудки.
– Да! – раздалось с того конца провода.
Голос у Бурова был такой же, как и всегда – резкий и грубый. Надежда Сергеевна чуть было сразу же не бросила трубку, когда услышала его. Она стояла с трубкой в руке и молчала.
– Да! Слушаю! Кто это? – снова недовольно пробурчал Буров.
Надежда Сергеевна собралась с духом и сказала:
– Здравствуйте, могу я услышать Андрея Евгеньевича Бурова?
– Я Андрей Евгеньевич Буров. Кто это?
– Меня зовут Надежда Сергеевна Щукина.
– Кто-кто? – голос Бурова сразу изменился. Казалось, что он сразу же что-то вспомнил.
– Помните, несколько лет назад мы через Тайшет проезжали, а вы нас с поезда ссадили, потому что Красноярске были погромы?
– Э…да…как же…помню… – замялся теперь уже Буров.
– Мы потом ещё вместе с сыном и дочерью у вас дома несколько дней жили.
– Как же – как же. Помню… – снова сказал Буров, только для того, чтобы сказать хоть что-нибудь. – Так это…гм…Надежда Сергеевна…чем обязан?
– Да, видите ли, Андрей Евгеньевич… у меня тут сын женился недавно.
– Гм…что же…поздравляю.
– Спасибо. Только вот они уезжать хотят из Иркутска. Говорят, что жизнь для них тут слишком дорога.
– Гм…и что же?
– И вот Фёдор попросил меня связаться с вами. Спросить, не сможете ли вы ему помочь?
– А, Фёдор попросил… – Буров был явно разочарован. Сразу было видно – он думал, что Надежда Сергеевна звонит ему совсем по другому поводу.
Надежда Сергеевна это поняла, но всё же сказала:
– Да, очень просил. Он думал, что вы сможете помочь ему.
– Так что же он…хочет в Тайшет переехать? – спросил Буров.
– Да, хотел. И думал, что Вы сможете ему помочь.
Буров задумался, но наконец сказал:
– Что же, пусть приезжает.
– Спасибо, Андрей Евгеньевич. До свидания. – сказала Надежда Сергеевна и повесила трубку.
На том и порешили. Теперь не было ни малейших сомнений, что Фёдор и Катя переедут жить в Тайшет. Оставалось лишь одно – уладить организационные вопросы.
Книжный клуб, куда Фёдор когда-то пришёл, будучи ещё молодым студентом, и где он познакомился с Катей – за эти несколько лет превратился из простой избы-читальни, в настоящую партийную организацию, пусть и пока что- ещё не очень большую.
Тем не менее – за эти годы была налажена связь с людьми из других городов. Фёдор с удивлением узнал, что подобные кружки, где читают советские книги – есть не только в Иркутске, а в любом крупном городе, и что их книжный клуб – отнюдь не уникален. Подобные клубы были и в Москве, и в Петербурге, и в Новосибирске, и в Красноярске, и в Самаре, и в Волгограде, и ещё во многих городах поменьше. Причём – многие из них пошли дальше, чем книжный клуб Иркутска – от простого чтения книг они перешли к агитации людей, распространению листовок, печатанию брошюр.
В Тайшете же – никакой подобной организации не было. Поэтому Фёдору и Кате перед отъездом было дано партийное задание – начать в Тайшете агитационную работу среди тайшетских трудящихся и создать сначала такой же книжный клуб как в Иркутске, а потом, по возможности – партийную ячейку,
И вот наконец, Фёдор с Катей отправились в Тайшет. Всё было как в прошлый раз – добирались до него почти трое суток, на поезд нападали банды, а с крыши вагонов строчили пулемёты. Но то Тайшета всё же добрались.
Буров встретил их на вокзале, как всегда – хмурый и угрюмый. Однако же – сразу отвёл Фёдора и Катю к себе домой, накормил с дороги и сказал, что пока они не найдут квартиру – могут жить у него. Поев, Фёдор и Катя повалились на кровати – и сразу уснули.
На следующий день они начали искать работу. Работы Фёдор не боялся и не отказывался ни от какой. Сначала, Буров хотел устроить Фёдора путевым обходчиком на станции. Фёдор не отказывался. Однако поговорив с Фёдором и узнав про его высшее образование – Буров почему-то передумал.
В итоге – Буров решил поспрашивать у своих, где в городе есть свободные рабочие места. Сказали – что есть свободное место чертёжника и есть свободная вакансия в библиотеке. Буров предложил Фёдору стать чертёжником. Фёдор не отказался и от этого – это ему понравилось даже больше, чем предложение стать обходчиком – всё лучше в помещении сидеть, чем и в жару, и в дождь, и в мороз – вдоль путей на вокзале ходить. Катя же – недолго думая устроилась по второй свободной вакансии – и стала работать в тайшетской библиотеке.
С жильём же всё тоже устроилось – Буров помог Фёдору и Кате снять небольшой домик на окраине Тайшета, где они и стали жить.
Жизнь в Тайшете – показалась им не то, чтобы скучной, даже вполне приемлемой. Однако же – после шумного Иркутска – Тайшет действительно казался им скучноватым. Несмотря на то, что в XXIV веке, население Тайшета составляло больше трёхсот тысяч человек – тут по-прежнему было много деревянных домов и большой частный сектор, в противовес маленькому центру города. Тайшет – словно опутывал, одурманивал приехавшего сюда человека какой-то скукой и ленью. В выходные – из дома выбираться в центр города – не хотелось. Хотелось просто завалиться на кровать и пролежать так все два дня.
Из явных же плюсов было то – что в доме, где жили Фёдор с Катей – были проведены отопление и канализация, не говоря уж об электричестве. Это сразу же решало множество проблем. Такое было не во всех домах Тайшета – во многих домах трёхсоттысячного города – и в XXIV веке, людям приходилось летом запасаться дровами и углём, чтобы топить зимой печь, а вместо канализации – во дворе у них стояли деревянные нужники.
Да, с отоплением и канализацией – Фёдору и Кате повезло, однако же – остальные заботы по дому никто не отменял. Оставались уборка, стирка, глажка, готовка. Фёдор, когда они только переехали в новый дом, предложил Кате разделить обязанности и работу по дому. И вдруг, к его немалому удивлению, Катя наотрез отказалась, заявив, что всё это – обязанности женские, и что всё это она будет делать сама.
– А что же я буду делать? – возмутился Фёдор. – Лежать да в потолок плевать?
– Ну нет, товарищ Щукин. – рассмеялась Катя. – В потолок я тебе плевать не позволю. Однако же – и по дому работу ты делать не будешь.
– А что же я буду делать?
– Как что? Тебе ведь дали партийное задание – вести агитацию и по возможности – создать в Тайшете партийную ячейку. Вот этим и занимайся.
– И правда. – сказал Фёдор. – А я за всей этой семейной жизнью – уже и забыл об этом.
Фёдор привёз из Иркутска целую сумку книг, для создания книжного клуба в Тайшете. Книги эти – перед объездом дали ему товарищи по партии, главным образом – брат Кати Николай. Все книги были – старинные, XX века, напечатанные ещё в СССР, словом – настоящие книжные раритеты. Однако же – Фёдор так замотался с поисками работы и жилья, что пока что – даже не открывал эту сумку. Она так и стояла закрытая в чулане.
Однако же – теперь настало время распаковать её. Фёдор открыл сумку и стал аккуратно, одну за другой доставать книги и ставить их на книжную полку.
Книги одна за одной, стройными рядами выстаивались в шкафу. Были тут и та самая «Как закалялась сталь» Островского, с которой у Фёдора началось знакомство с Советской литературой, и «Капитал» Карла Маркса, и «Государство и революция» Владимира Ильича Ленина, и «Мать» Максима Горького, и «Тихий Дон» Шолохова, и «Молодая Гвардия» Фадеева, и произведения многих других советских авторов, как взрослых, так и детских. Были тут Николай Носов, Шукшин, Аркадий Гайдар и многие-многие другие.
Теперь Фёдор по вечерам и выходным – всё время читал, Ему хотелось быть как можно более подкованным перед тем, как он начнёт работать с людьми. Катя же – работала по дому, иногда тоже читала и обсуждала с Фёдором прочитанное.
Так прошло около трёх месяцев. Наконец, Фёдор решил, что материал он изучил достаточно хорошо, и может приступать к работе с людьми. Перво-наперво, Фёдор начал присматриваться к тем людям, которые окружали его.
Во-первых, как и везде, у Фёдора и Кати были соседи. Однако от того, чтобы вовлечь в работу соседей – Фёдор отказался сразу. Слева от него – в старом и ветхом доме жила восьмидесятипятилетняя Анна Филипповна, такая же старая и ветхая, как и её дом. Анна Филипповна была хорошая и добрая старушка, с которой Фёдор и Катя сразу нашли общий язык, и по возможности – помогали ей по хозяйству. Однако о том, чтобы вовлечь столь пожилого человека в партийную работу – нечего было и думать, и потому – Фёдор решил понапрасну не тревожить старушку и ничего ей не рассказывать.
Хуже обстояли дела с соседом справа. Справа от них жил какой-то угрюмый и подозрительный мужик лет сорока пяти, по имени Никита. Никита Фёдору не понравился с первого взгляда – смотрел всегда волком, ни с кем из соседей почти не общался, а если общаться всё же приходилось – то при общении сразу возникало ощущение, что он за кем-то следит и что-то вынюхивает. Словом – никакого доверия и расположения к себе – Никита не вызывал, более того – производил впечатление доносчика и информатора.
Сначала Фёдор думал, что Никита – обычный алкоголик. Он нигде не работал, и ходил всё время, одетый в одну и ту же одежду – стоптанные ботинки, старые штаны, старую куртку и старую же кожаную кепку на меху. Так одевался Никита и зимой, и летом, да и в целом выглядел – как обычный забулдыга. Но вот что странно – пьяным, либо же покупающим в магазине алкоголь – никто никогда Никиту не видел. Фёдор специально поспрашивал о своём соседе у тех, кто рядом жил, в том числе и у Анны Филипповны, но как оказалось – никто про Никиту толком ничего не знал. Сам он ничего о себе не рассказывал, а из соседей – никто им особо и не интересовался. Только в одном все уверенно сходились во мнениях – когда Фёдор спрашивал, пьёт ли Никита, все в один голос говорили – «Да нет, вроде не замечал за ним». Спросил Фёдор и продавщицу из магазина. Та сказала, что ни разу не видела, чтобы Никита покупал алкоголь – мол, когда заходит, покупает только продукты, а алкоголь – никогда.
Словом, из всех этих разговоров и пересудов Фёдор понял, что Никита – скорее всего не пьёт и алкоголиком не является. Но именно это и вызывало у Фёдора ещё больше опасений. Будь Никита алкоголиком – всё было бы с ним понятно, а так – было совершенно не ясно кто он такой и чем живёт.
Да, Никита определённо вызывал у Фёдора опасения. Организовать хотя бы книжный клуб – дело, с одной стороны, не такое уж трудное – всё что нужно для этого – книги, которые будут читать, и помещение, где можно собраться. Ну и конечно же – сами люди, которые будут приходить в этот клуб. Поначалу, Фёдор хотел организовать книжный клуб у себя дома. Однако же – наличие под боком такого вот соседа как Никита – значительно усложняло дело. Если Никита следит за ним – значит он непременно заметит, что в дом к Фёдору будут ходить на собрания разные люди. А заметив это – кто знает, кому он об этом расскажет и чем это обернётся?
Нет, как уже было сказано – в «золотом веке» коммунизм не был вне закона. Труды Маркса, труды Энгельса, труды Ленина и вообще советская литература – ничто из этого не находилось под запретом. Но лишь потому – что благодаря огромным объёмам потребляемого контента, новым ток-шоу и сериалам – никто про коммунизм попросту не думал. Более того – про него почти никто ничего и не знал.
Поэтому с одной стороны – собрания клуба, где будут читать литературу XIX и XX веков – уж явно не вне закона. Мол – ну собираются люди, ну книги читают – что такого-то? Однако Фёдор не мог не понимать, что если они перейдут от чтения книг к чему-то большему (а к этому «большему» – НАДО было переходить рано или поздно, иначе все эти собрания просто не имели смысла) – то проблемы будут неминуемо.
Пока что – про них никто ничего не знал, благодаря конспирации, однако же – наличие под боком такого подозрительного субъекта как Никита – всё могло разрушить.
И тем не менее – Фёдор решил рискнуть. Прежде всего – он начал присматриваться к людям на работе. Присмотревшись как следует, Фёдор сделал вывод, что чертёжники – ничем не отличаются от всех остальных людей. Среди чертёжников у него на работе – были люди хорошие и плохие, добрые и злые, умные и глупые. Но было мало того, чтобы человек был хорошим, добрым и умным, он как минимум – должен быть ещё и не болтлив, чтобы не трепаться на каждом углу о клубе.
Словом присмотревшись, Фёдор решил сделать свою ставку на молодёжь, и выбрал из всех, с кем общался по работе двух человек, с которыми можно начать вести работу – водителя Васю и чертёжницу Вику.
Вася, как уже было сказано – был водителем, возил он начальника Фёдора, а кроме того – постоянно выполнял мелкие поручения и постоянно отвозил по делам то одного то другого сотрудника. По характеру Вася был весёлый и жизнерадостный парень, который никому никогда не делал зла, а наоборот –по возможности всем пытался помочь.
«Вот верный и надёжный товарищ, как раз такой, какой нам и нужен» – подумал Фёдор и стал внимательнее наблюдать за Васей.
Вика же – на рабочем месте сидела недалеко от Фёдора. По характеру, в отличии от жизнерадостного Васи – Вика наоборот была тихая, молчаливая, и можно даже сказать – робкая девушка. Однако же – Фёдор не раз был свидетелем тому, что не смотря на свой тихий характер, Вика могла за себя постоять и не давала себя в обиду. Не раз случалось так, что более сильные и наглые сотрудники, пытались нагрузить Вику дополнительной работой, однако же – Вика давала решительный отпор и отказывалась делать чужую работу. Впрочем, если Вику просили об этом по-доброму – она, как и Вася, никогда не отказывалась помочь.
Итак, решив начать работу с Васей и Викой, Фёдор некоторое время ещё присматривался к ним. А потом однажды, после рабочего дня, решил заговорить-таки с ними и рассказать о книжном клубе.
Произошло это так. Однажды в пятницу, после окончания рабочего дня, когда Фёдор выходил с работы, он увидел, как на крыльце стоит Вася и курит сигарету. Вика же – ещё не выходила с работы. Случай подвернулся удобный. Фёдор подошёл к Васе, и завёл с ним обычный разговор ни о чём. Словоохотливый Вася с радостью разговор поддержал. Завёл Фёдор этот разговор с ним лишь для того, чтобы подождать, пока Вика выйдет из здания, чтобы поговорить потом с ними обоими. Фёдор решил, что говорить о книжном клубе надо не с каждым по отдельности, а с обоими сразу. Причина тому была проста – Фёдор решил, что так как Вася и Вика будут вроде как вдвоём, а он, Фёдор – один, то психологически получится, что они вроде как «двое против одного», а потому – им будет сложнее отказаться. Например, если бы он заговорил об этом с Васей с глазу на глаз – Вася мог бы испугаться и отказаться. А в присутствии девушки – Васе будет стыдно показать, что он чего-то боится, и потому, он согласится наверняка. Вика же – тоже будет ощущать некую поддержку со стороны Васи, и потому – тоже согласится легче.
Словом, надо было дождаться Вику. Прошло пять минут, десять, а Вика всё не шла. А между тем – на улице понемногу начинало смеркаться. В Тайшете, как и во всех других городах, в те времена по городу ходить ночью было категорически нельзя, ибо разгул преступности был тут ничуть не меньше, чем в Иркутске или Алзамае.
Но тут он увидел, что Вика наконец выходит из дверей. И когда она проходила мимо них, Фёдор сказал:
– Вика, можно тебя на минутку?
Вика оглянулась, увидела Фёдора и стоящего рядом Васю. Она не очень поняла, чего от неё хотят, но подошла.
Фёдор тут же, не откладывая в долгий ящик начал:
– Вася, Вика, мне надо с вами поговорить.
Вася и вика переглянулись.
– О чём же? – спросила Вика.
– Не здесь, давайте отойдём.
– Темнеет уже, Фёдор. – сказал Вася.
– Не бойтесь, я быстро. Это не займёт более пяти минут, успеете домой до темноты.
Вася и Вика пожали плечами, но пошли за ним.
Отведя своих коллег за угол, Фёдор максимально кратко и сжато рассказал им о том, что хочет организовать в Тайшете книжный клуб, и приглашает Васю и Вику на выходных к нему в гости.
Фёдор и впрямь психологически рассчитал очень верно. Если бы Вика была одна – то она, скорее всего, поостереглась идти одна в гости к Фёдору, но присутствие Васи, казалось, её ободрило.
Фёдор между тем, сделал ещё один верный ход. В конце своей небольшой «речи», он решил польстить Васе и Вике, а потому сказал:
– Я выбрал вас двоих потому, что как мне кажется, вы оба – самые лучшие из всех. Вы оба – добрые и честные люди, всегда готовые прийти на выручку. У нас на работе, как и везде – есть люди разные и не все тут такие, как вы, у нас работают и злые, завистливые люди. И именно поэтому – я хотел бы вас попросить, никому на работе об этом разговоре не говорить, да и не только на работе, а вообще не говорить о нём пока никому. Хорошо?
Вася и Вика переглянулись. Всё-таки приглашение Фёдора – отдавало какой-то если не подозрительностью, то уж точно – непонятностью и неизвестностью. Наконец Вася пожал плечами и сказал:
– Что же, ладно. Я приду, Фёдор.
– Я тоже. – сказала Вика.
– Вот и хорошо. В таком случае – приходите ко мне домой завтра в полдень, адрес – такой то. – коротко сказал Фёдор и все трое быстрым шагом направились к остановке общественного транспорта.
Придя домой, Фёдор сообщил Кате о том, что завтра в 12 дня у них будут гости. Катя сначала очень обрадовалась и похвалила Фёдора, но вдруг о чём-то задумалась.
– Что такое, Катя? – спросил Фёдор.
– Да вот, Федя, я думаю – пригласил ты их, а что мы есть будем? Завтра люди придут, может быть целый день у нас будут. Они наверняка есть захотят.
– И только-то? Вот и вся «проблема»? – улыбнулся Фёдор. Ему и в самом деле немного смешно.
– «Только-то»! – передразнила его Катя. – Конечно «только-то»! Тебе-то что, это ведь не про тебя скажут, что ты плохая хозяйка, а про меня!
– Товарищ Ермолова, отставить панические настроения! – сказал Фёдор и обнял Катю. В такие моменты он по привычке называл Катю по её девичьей фамилии.
– Есть, Товарищ Щукин. – улыбнулась Катя. – Но всё-таки, чем же мы их кормить будем?
– Ну за этим дело не станет. Во-первых, кормить их особо и не надо, у нас ведь заседание книжного клуба, а не пир горой. Попьём чаю и всё. А к чаю, чтобы было чем перекусить – я завтра с утра схожу в магазин и куплю чего-нибудь, вот и всё.
Не сказать, что решение Фёдора на все 100% удовлетворило Катю, так как Кате – хотелось показать себя перед гостями хорошей хозяйкой и приготовить что-нибудь вкусное. Однако – решение его было вполне приемлемым. Поэтому Катя – чмокнула Фёдора в щёку и снова в доме наступила тишь да гладь. Впрочем – так в доме Щукиных было всегда. Катя, когда выходила замуж за Фёдора, сразу поняла – как ей надо себя со своим мужем вести дома. Поэтому – скандалы и непонимание, были в этом доме очень редкими гостями.
На следующий день с утра, Фёдор пошёл в магазин и купил там сливовый пирог, конфеты и печенье. Через пару часов пришли Вася и Вика. Поначалу, они всё же вели себя довольно настороженно, однако увидев доброе лицо Кати – понемногу освоились и перестали волноваться.
Фёдор ещё раз вкратце рассказал своим коллегам о книжном клубе и достал с полки книжку – «Как закалялась сталь». Фёдор решил всегда начинать чтение именно с этой книги, так как и для него эта книга, когда-то стала первой коммунистической книгой. Для него она являлась своего рода символом. Символом мужества, символом созидания, символом того, как надо жить, как надо не жалея сил работать, отдавая всего себя для блага других людей. Фёдор открыл книгу и стал читать, Вася и Вика слушали.
Потом все начали обсуждать прочитанное. Как Фёдор и ожидал – ни Вася, ни Вика – никогда и ничего об этой книге не слышали. Но книга им обоим очень понравилась. Потом они пошли на кухню пить чай с пирогом. Однако – разойтись по домам надо было засветло, а потому – особо засиживаться не приходилось.
Когда Вася и Вика уходили, Вася предложил привести на следующее собрание своего двоюродного брата Мишу. Он сказал, что Миша работает слесарем и в целом – хороший, свойский парень, он сохранит всё в тайне и болтать лишнего не будет. Фёдор был не против и согласился.
Так с тех пор и пошло. Каждые выходные – у Фёдора и Кати заседал книжный клуб, на котором – раз за разом появлялись новые люди. Впрочем – люди все были хорошие, проверенные. Абы кого в дом бы просто не пустили. Постепенно – из простых чтений, клуб вырос в настоящую партийную ячейку. На заводах и фабриках Тайшета – уже через три месяца во всю шла агитация, была создана касса взаимопомощи, была налажена связь с товарищами из других городов, а также – было даже тайно по неизвестным каналам – приобретено некое количество оружия, что в «золотом веке» – считалось одним из тягчайших преступлений.
За три месяца – в Тайшет переехала Надежда Сергеевна. Света же – решила остаться в Иркутске. С переездом Надежды Сергеевны совпало и другое событие – у Фёдора и Кати родился сын. Долго думали, как его назвать. Фёдор конечно в первую очередь хотел бы назвать сына в честь своего отца, то есть внука в честь деда. Но так как покойного Фёдора Степановича звали так же, как и самого Фёдора – то назови он внука в честь деда – у сына и у отца было бы одно и то же ФИО – Фёдор Фёдорович Щукин, что внесло бы путаницу. Поэтому решили назвать ребёнка в честь прадеда – Степан. Надежда Сергеевна, естественно, помогала чем могла, и сидела с маленьким Стёпой пока родители были на работе. Когда Надежда Сергеевна переехала в Тайшет – тут же резко активизировался и Буров, лелея давние надежды жениться. Буров очень хотел, чтобы Надежда Сергеевна переехала к нему – но об этом нечего было и думать, так как целыми днями она сидела с малышом. Буров, однако же – помогал чем мог, постоянно приносил в дом Щукиных продукты и детское питание.
Так прошло ещё три месяца. Фёдор и Катя работали, Надежда Сергеевна сидела с маленьким Стёпой, Буров помогал чем мог, а по выходным – дома у Щукиных происходили чтения и собрания.
Но всему хорошему рано или поздно приходит конец. Беда нагрянула откуда не ждали.
Однажды в пятницу, Фёдор и Катя как обычно пришли с работы и занимались домашними делами, Надежда Сергеевна играла с маленьким Стёпой. На завтрашний день было назначено собрание.
Тут в дверь к Щукиным постучались. Катя открыла дверь – на пороге стояла их соседка, Анна Филипповна.
– Здравствуйте, Анна Филипповна! – поздоровалась Катя.
– Здравствуй, Катя. – сказала Анна Филипповна как-то невесело.
– Проходите.
Анна Филипповна зашла в дом и села на стул.
– Хотите чаю?
– Я? Чаю-то? – спросила старушка. – Да нет, Катенька, не надо. Дело у меня есть.
– Какое?
– Да вот… – замялась Анна Филипповна. – Словом, уезжать вам надо.
– Уезжать? – не поняла Катя. – Куда уезжать?
– Да совсем уезжать, отсюда из Тайшета. И желательно – куда-нибудь подальше и как можно быстрее.
– Но почему же нам надо уезжать?
– Да тут вот какое дело-то – мне Люда, продавщица наша, рассказала – дескать приходил сегодня за продуктами Никита, сосед ваш, и бахвалился ей, говорил, дескать – «Скоро сдам я этих Щукиных куда надо и в тюрьму их упекут».
– В тюрьму? – Катя так и села.
– Да, так и сказал – «в тюрьму».
– Да за что же нас в тюрьму-то?
– Да говорит, что люди к вам непонятные ходят, и делами вы тут разными противозаконными занимаетесь.
Анна Филипповна немного помолчала, а потом продолжила:
– Я-то знаю, Катенька, что люди вы хорошие, и ничего плохого не делаете. Но вот видишь, не повезло вам, что рядом с вами, через забор, оказался такой вот плохой человек.
Катя сидела в растерянности и чуть не плакала. Но Фёдор в это время действовал молниеносно. Он понял, что надо что-то делать, причём делать сейчас. Он быстро оделся и сказал жене:
– Катя, сиди здесь, из дома не выходи, я скоро вернусь!
Катя не на шутку перепугалась:
– Федя, ты куда собрался? Скоро стемнеет же!
– Ничего, успею! – ответил Фёдор и выбежал из дома.
Сначала, Фёдор хотел было идти к Бурову и обратиться к нему за помощью. С его связями и его должностью – Буров вполне мог бы помочь. Однако же – Фёдор отмёл эту мысль. Во-первых, Буров ничего не знал про их собрания и ему пришлось бы слишком много объяснять. Да и кроме того – жил Буров далеко, на другом конце Тайшета, и потому – добраться к Бурову до темноты, Фёдор никак бы не успел.
А потому – Фёдор решил отправиться к Васе. Вася жил гораздо ближе, чем Буров, и к нему вполне можно было успеть добраться засветло.
Сначала Фёдор хотел добраться до Васи на автобусе, но потом понял, что автобус можно ждать сколько угодно, а до темноты оставалось всего минут двадцать, на улице уже были сумерки. И тогда Фёдор побежал. Побежал так быстро как умел, полагаясь на быстроту своих ног и силу лёгких.
Но даже несясь во весь опор Фёдор думал, что теперь делать. К Васе он бежал главным образом для того, чтобы позвонить от него в Иркутск и связаться с товарищами, которые остались там, в первую очередь – с братом Кати Николаем. Со своего домашнего или мобильного – он решил не звонить ни в коем случае – вряд ли сейчас их телефон прослушивали, ведь Никита, скорее всего – никуда донести ещё не успел. Однако же, когда он это сделает – могли спокойно поднять распечатку звонков, и своим звонком в Иркутск – Фёдор подставил бы товарищей.
А вот Васин телефон, наверняка никто никогда не станет прослушивать, или брать с него распечатку звонков. Поэтому, Фёдор решил позвонить от Васи в Иркутск, а потом заночевать у него дома, так как идти в темноте домой – было чистым самоубийством.
Вася, за эти несколько месяцев – стал и ему и Кате, по-настоящему хорошим товарищем. Вася был хоть и несколько взбалмошным и безалаберным в силу своей молодости, однако же – это был хороший, честный и справедливый человек. Фёдор бежал к нему потому, что знал, Вася – в беде не оставит, товарища выручит.
Жил Вася в частном секторе, в небольшом доме вместе с мамой и младшим братом. За это время Фёдор уже несколько раз бывал у него. В доме Васи – его всегда принимали доброжелательно. Особенно полюбила Фёдора мать Васи. Она считала, что Фёдор – оказывает позитивное влияние на «её балбеса», и за последние месяцы, как она говорила – Вася сильно изменился. Стал много читать, больше помогать по дому и даже бросил курить. Поэтому Фёдор твёрдо знал – в этом доме ему в помощи не откажут точно.
Итак, Фёдор нёсся во весь опор к Васиному дому. Вот он уже свернул с главной дороги на нужную ему длинную улицу – и понёсся по ней. И всё же, как не спешил Фёдор, он не успел к дому Васи до темноты. Ночь вступила в свои права, а до нужного ему дома – оставалось ещё метров пятьсот. Фёдор тяжело дышал, но из последних сил понёсся во весь опор.
На счастье Фёдора, улица, на которой стоял дом Васи – была пока ещё пуста. Но на соседних улицах, особенно центральных, как только на Тайшет опустилась тьма – сразу же, откуда не возьмись, послышалась стрельба, крики и мольбы о помощи. Не успевших вернуться домой до темноты людей – стреляли и резали.
Тут вдруг, в конце той улицы, по которой нёсся Фёдор, появилось несколько тёмных фигур. Фёдор нёсся прямо на них, потому что между Фёдором и этими фигурами – находился дом Васи.
Подозрительные личности тоже заметили несущегося на них человека. Один из них, не мудруствуя лукаво – выхватил пистолет и выстрелил. Пуля просвистела совсем рядом, но к счастью – Фёдора даже не задело.
Стрелять почему-то больше не стали (то ли не было патронов, то ли решили патроны экономить). Словом, бандиты выхватили ножи, и кинулись на бегущего на них Фёдора.
Однако же – бандиты были ещё далеко, а дом Васи – уже совсем рядом. Фёдор добежал до ворот, мысленно молясь, чтобы они не были заперты на засов.
Ворота у дома Васи – были большие, высокие, окованные железом. Забор тоже был высокий, поэтому с улицы было не видно, что происходило за забором. Фёдор решил, что, если ворота будут заперты – полезет через забор. Однако на его счастье – ворота оказались открыты. Фёдор быстро забежал внутрь, молниеносно захлопнул воротину и закрыл изнутри ворота на железный засов.
Закрыв ворота, Фёдор притаился за ними, не шевелясь и стараясь не дышать. Скоро на дороге появились бандиты, и прошли мимо Васиного дома. Как Фёдор и рассчитывал – бандиты не успели заметить, в какой именно дом он забежал. Находились в тот момент бандиты ещё далеко, а на улице было темно (никаких фонарей там, естественно, не было). Поэтому бандиты не знали, куда именно забежала их предполагаемая жертва.
Когда банда проходило мимо, находящийся за воротами Фёдор, услышал разговор:
– Куда он делся?
– Забежал куда-то.
– Никто не видел, в какой двор он забежал?
– Да как тут увидишь? Темнота, хоть глаз выколи!
– Успел всё-таки, гад!
Потом один из них, видимо главный, сказал:
– Ладно, хрен с ним! Пошли отсюда!
И матерясь трёхэтажным матом, бандиты двинулись дальше по улице, искать новую жертву.
Фёдор на всякий случай ещё несколько минут простоял в полной тишине, и направился к дому. Подойдя, Фёдор затарабанил в дверь. Наконец, за дверью послышался голос Васи:
– Кто там?
– Вася, это я, Фёдор. Открой.
Услышав знакомый голос, Вася открыл дверь. Увидев, стоявшего за ней Фёдора, который к тому же пришёл к нему, когда стемнело, Вася понял, что что-то неладно. Поэтому он просто спросил:
– Что случилось, Фёдор?
– Вася, мне срочно нужно позвонить. Дай, пожалуйста, позвонить от тебя. – вместо ответа сказал Фёдор.
– А куда позвонить? – поинтересовался Вася.
– В Иркутск.
– Что, неужели всё так срочно? – снова с интересом спросил Вася.
– Очень срочно, Вася. Более, чем ты думаешь. Так я могу позвонить?
– Да, конечно, звони если надо. – ответил Вася.
Фёдор подошёл к городскому телефону Васи, и достал свою записную книжку. Там он нашёл телефон Катиного брата и набрал номер.
В Трубке послышались гудки, но наконец, на том конце провода ответили:
– Слушаю!
– Николай, ты? Это Фёдор.
– Привет, Фёдор. Случилось чего? – проницательный Николай, сразу уловил в голосе мужа сестры тревожные нотки.
– Случилось, Николай. Вернее, пока ещё не случилось, но очень может быть, что случится в ближайшем времени.
– Что-то с Катей? – сразу же встревожился Николай.
– Нет…То есть да…То есть и да и нет, её это тоже касается. Словом, Николай, послушай, что произошло.
И Фёдор вкратце рассказал Николаю о собраниях у него дома, рассказал про Никиту, рассказал о том, что сегодня им сообщила Анна Филипповна. Николай не перебивал. Когда Фёдор вкратце изложил ситуацию – Николай продолжал молчать. Даже сквозь телефонную трубку Фёдор чувствовал, что Николай серьёзно обдумывает ситуацию.
Наконец, Николай нарушил молчание:
– Фёдор?
– Да! – откликнулся Фёдор.
– А ты сейчас где?
– У Васи, товарища нашего. Я решил ни со своего домашнего, ни с мобильного не звонить.
– Это ты правильно сделал! – похвалил его Николай. – Вот что – я свяжусь сейчас с товарищами, мы решим, что вам дальше делать. А ты пока подожди.
– Сколько примерно ждать? – спросил Фёдор.
– Позвоню в течении двух часов.
– А у тебя, Николай, есть на телефоне определитель номера?
– Да.
– Ну тогда, на этот вот номер и звони.
– Хорошо. – сказал Николай и повесил трубку.
Фёдор тоже положил трубку и обернулся. Перед ним, выпучив глаза от удивления, стоял Вася.
Фёдор понял, что Вася всё слышал, поэтому он вздохнул и просто сказал:
– Вот такие дела, Вася…
– И что теперь делать? – простодушно спросил Вася.
– Через два часа перезвонит Николай и решим. Видимо, придётся нам из Тайшета уезжать.
– Уезжать? – Васю, казалось, это даже испугало.
– Да, Вася, уезжать. А у тебя есть другие варианты?
– Варианты…эээ…да в общем нет. – замялся Вася.
– Вот и у меня нет. Поэтому – будем ждать.
Фёдор подумал немного и добавил:
– И видимо, придётся мне до утра у тебя остаться, Вася. Сам понимаешь, идти сейчас домой – всё равно, что своими руками себе смертный приговор подписать. Пустишь переночевать?
– Конечно пущу, оставайся! – сказал Вася. – Садись за стол, сейчас ужинать будем!
Фёдор сел за стол. В кухню вошли Васина мама и его младший брат. Фёдор поздоровался со всеми, и мама Васи стала накрывать на стол.
Через пять минут все четверо уже сидели за столом и ужинали. Ужин состоял из варёной картошки, чёрного хлеба и кипятка. Это была самая что ни на есть типичная трапеза для «золотого века», именно так и питалось большинство бедных людей. Мало того, для многих такой ужин – показался бы просто роскошным, у многих денег не было даже на картошку и хлеб.
Позволить себе есть мясо и рыбу – рабочий человек «золотого века» мог не каждый день. В основном – ели картошку и разные каши, заедая их хлебом и запивая кипятком. Так же – могли приготовить какой-нибудь самый дешёвый суп на воде. Вот и всё меню. Фёдор даже усмехнулся, вспомнив тот сливовый пирог, который он купил к чаю, когда Вася и Вика первый раз пришли к нему домой. Такой пирог люди тоже могли себе позволить далеко не каждый день.
Фёдор не хотел объедать Васину семью, но решил, что его отказ обидит хозяев, а потому – стал есть картошку.
Когда ужин закончился – Фёдор поблагодарил хозяев и пошёл к телефону, ждать звонка Николая. Он сидел на стуле и ждал, погружённый в свои мысли. Больше заняться тут ему было решительно нечем.
Немного раньше, чем через два часа – действительно раздался телефонный звонок. Фёдор тут же схватил трубку:
– Да!
– Фёдор, это я! – раздался в трубке голос Николая.
– Да, Николай! Слушаю тебя!
– В общем так! Вам из Тайшета уезжать надо срочно. Чем скорее – тем лучше.
– И куда же нам ехать? – упавшим голосом спросил Фёдор.
– В Новосибирск поедете пока что.
– В Новосибирск? И где мы будем жить в Новосибирске?
– Пока что вам придётся жить в трущобах.
– В трущобах? – настроение Фёдора совсем упало.
– Да, в трущобах. Я связался с новосибирскими товарищами – у них есть в трущобах одна свободная юрта. Там и будете жить. Извини, Фёдор, но пока что ничего лучше – я тебе предложить не могу.
Фёдор поразмыслил над словами Николая. Выбирать явно не приходилось. Поэтому Фёдор сказал:
– Ну что же, в Новосибирск – значит в Новосибирск!
– Да ты не волнуйся, Фёдор! – решил успокоить его Николай. – Это не на долго. Поживёте в трущобах немного – а потом уедете в какой-нибудь другой город. Сам понимаешь – так как вам приходится уезжать в спешке, ничего лучше трущоб пока не нашлось. Но как только найдётся – я сообщу тебе или Кате. Пока что – езжайте в Новосибирск. Там сейчас всё тихо, погромов нет. Так что езжайте спокойно.
– Ладно, Николай, спасибо тебе! – сказал Фёдор.
Они попрощались, и Фёдор повесил трубку.
После этого – Фёдор позвал Васю и рассказал ему всё. Вася очень расстроился и спросил:
– Так что же, теперь никаких собраний и чтений не будет?
– Почему не будет? Ещё как будут! – ответил ему Фёдор.
– Как же они будут, если вы уезжаете?
– Мы-то уезжаем, а ты остаёшься. Теперь ты их и будешь проводить.
– Я?!!! – Вася так и сел.
– Да, ты. Я тебя, Вася, оставляю тут за старшего. Парень ты смышлёный, да и товарищ хороший, друга в беде не бросишь. Поэтому – партия поручает тебе продолжать вести в Тайшете агитацию и не прекращать устраивать собрания. Справишься?
Вася немного подумал, но затем, казалось, на что-то решился, и потому – твёрдо сказал:
– Справлюсь!
– Вот и отлично! – сказал Фёдор. – А теперь пора на боковую.
Вася отвёл Фёдора в одну из комнат. В комнате уже была разложена раскладушка и постелено бельё.
– Ну что, доброй ночи! – сказал Фёдор.
– Доброй ночи! – сказал Вася, и пошёл в свою комнату, а Фёдор лёг на раскладушку и тут же уснул.
Проснулся Фёдор, когда уже было светло. Он сам удивился тому, как быстро вчера ему удалось заснуть. Ведь вчера на него столько всего навалилось – и Никита, решивший сделать им зло, и то, что вчера Фёдор чуть не лишился жизни от рук шныряющих по городу банд, и разговор с Николаем, и будущий переезд в Новосибирск. Однако, не смотря на всё это – Фёдор всю ночь проспал как убитый.
Фёдор встал с раскладушки, оделся и пошёл к умывальнику. Умывальник был деревенский, вода – холодная. Тем не менее – Фёдор умылся, вытерся полотенцем и решил поскорее уйти.
На кухне хозяйничала мать Васи и накрывала на стол к завтраку. На завтрак было то же самое, что и на ужин – варёная картошка и чёрный хлеб.
Мать Васи увидела Фёдора и сказала:
– А Доброе утро! Как спалось? Скоро завтракать будем.
Фёдор так же пожелал матери Васи доброго утра, сказал, что спалось ему прекрасно, однако же – завтракать отказался наотрез, сославшись на то, что не завтракает сразу после того, как проснулся. Это было конечно не так, Фёдор соврал. На самом деле, есть ему сейчас хотелось сильно, но он твёрдо решил позавтракать, когда вернётся домой, чтобы больше не объедать Васину семью. И так уже за ужином, он считай, что часть еды у них отнял, пора и честь знать.
Фёдор умылся, попил воды, быстро попрощался и вышел из дома. На улице было утро, ярко светило солнце. Теперь идти по улицам можно было смело, все кто нападал по ночам на людей – сейчас спали.
Сначала Фёдор хотел было пойти домой пешком, но рассудив, что времени терять нельзя, он пошёл на остановку. Дождавшись, пока подойдёт нужный автобус, Фёдор сел в него и поехал. Выйдя на нужной остановке, Фёдор направился в сторону дома.
Зайдя домой, он без лишних предисловий сказал:
– Собирайся, Катя!
– Куда? – спросила Катя.
– Мы уезжаем!
– Куда? – снова задала тот же самый вопрос Катя.
– В Новосибирск.
– В Новосибирск?!
Катя стояла посреди комнаты и не могла вымолвить ни слова. Тут из комнаты вышла Надежда Сергеевна и спросила:
– Что случилось, Фёдя?
Фёдор вкратце объяснил ей ситуацию. Надежда Сергеевна выслушала его и задумалась. Затем она подошла к вешалке и стала надевать пальто.
– Мама, ты куда? – спросил Фёдор.
– Вы собирайтесь пока, я скоро. – сказала Надежда Сергеевна и ушла.
Фёдор и Катя стали собирать вещи и упаковывать их в чемоданы. Сборы шли медленно, так как Кате приходилось то и дело отвлекаться, когда в комнате кричал маленький Стёпа.
Долго ли – коротко ли, но наконец вещи были собраны, и Фёдор с Катей сели обедать. Тут-то и пришла Надежда Сергеевна.
– Где ты была, мама? – спросил Фёдор.
– У Бурова. – кратко ответила Надежда Сергеевна.
– У Бурова? А зачем ты к нему ходила?
– Раз ходила – значит надо было. – ответила Надежда Сергеевна и достала из кармана билеты. – Вот вам билеты на поезд до Новосибирска. Поезд отходит сегодня в четыре дня. С хозяином дома Буров тоже сам всё решит, так что можете ехать спокойно.
– Э…Спасибо. – сказал Фёдор, не зная, что ещё сказать.
– И вот ещё… – сказала Надежда Сергеевна, и положила перед Фёдором пистолет. Тот самый пистолет, который она купила ещё в Алзамае, чтобы отбиваться по пути от лиходеев.
Фёдор взял пистолет, покрутил его в руках, а потом пристально посмотрел на Надежду Сергеевну и спросил:
– Мама, а ты что, с нами не едешь?
– Нет, не еду. – ответила Надежда Сергеевна.
– И куда же ты теперь? К Свете в Иркутск вернёшься?
– Нет, в Тайшете останусь.
– И как же ты тут одна будешь?
– А я и не буду одна. Я с Буровым жить буду, как ты мне и предлагал. – ответила Надежда Сергеевна даже с каким – то вызовом.
– Э…кхм…ну да… – Фёдор снова не знал, что сказать.
– Ну ладно, пойду поесть приготовлю. – сказала Надежда Сергеевна. Через пару часов ещё раз поедим, а остальное – в дорогу с собой возьмёте. А потом – на вокзал поедете.
Следующие два часа, Надежда Сергеевна готовила на кухне еду, Катя убиралась в доме, чтобы после их отъезда везде было чисто, Стёпа спал в своей кроватке, а Фёдор – решительно не знал, чем ему заняться. На всякий случай – он ещё раз проверил, всё ли они собрали, не забыли ли каких-нибудь нужных вещей. Проверил всё, вплоть до перочинных ножей, мыла, спичек и соли. Соль, естественно тоже лежала «по-дорожному», в спичечном коробке.
Проверив вещи, Фёдор без толку слонялся по дому, и ждал отъезда. Наконец еда была готова, и Фёдор, Катя и Надежда Сергеевна сели за стол. Поев, Фёдор сказал жене:
– Катя, иди Стёпу в дорогу одень!
Катя ушла в комнату одевать сына, А Фёдор с Надеждой Сергеевной стали запаковывать еду в фольгу и целлофановые пакеты, а потом положили в чемодан.
После того, как еда была упакована, Фёдор взял пистолет и положил к себе в карман. Из комнаты вышла Катя.
– Ну, готова? – спросил у неё Фёдор.
Катя молча кивнула.
Они ещё немного посидели перед дорогой, потом встали и пошли к вешалке. Когда они надели верхнюю одежду – Фёдор поцеловал Надежду Сергеевну и сказал:
– До свидания, мама!
Что ещё сказать, Фёдор решительно не знал. Надежда Сергеевна тоже поцеловала Фёдора и сказала:
– Ну, в добрый путь, сынок!
Катя тоже поцеловала свекровь и пошла в комнату за Стёпой. Когда Стёпу одели в детскую курточку – Катя взяла ребёнка на руки. А Фёдор – перекинул себе через плечо большую спортивную сумку и в каждую руку взял по чемодану. После этого он ещё раз сказал Надежде Сергеевне:
– До свидания, мама! Долгие проводы – лишние слёзы.
Фёдор с Катей вышли из дома, в котором так спокойно и ладно прожили несколько месяцев – и пошли к автобусной остановке. До отхода поезда оставался ещё час времени.
Дождавшись нужного автобуса и доехав до вокзала, они немного посидели в зале ожидания, пока наконец не услышали звуки приближающегося поезда. Тогда они встали и пошли на платформу.
Подъехал типичный для «золотого века» поезд, с заколоченными окнами, пулемётами на крыше и железными лавками в вагонах. Но Фёдора больше всего заинтересовали названия конечных населённых пунктов, которые были написаны на табличке.
Обычно, через Иркутск и Тайшет шли на запад три поезда – «Владивосток – Москва», «Чита – Краснодар» и «Благовещенск – Санкт-Петербург». В «золотом веке» вообще ходило мало поездов, а те, которые ходили – обычно ездили на очень большие расстояния. Поезда, которые ходили на «небольшие» расстояния – давным-давно отменили, оставив лишь немногие, ходившие между мегаполисами. Например, были поезда «Москва – Санкт-Петербург», но нельзя было найти поездов «Москва – Липецк» или «Москва – Саранск». Маршруты эти были отменены из-за нерентабельности, а до Липецка или Саранска – теперь можно было добраться только на поездах, которые следовали гораздо дальше. Обычно поезда гоняли через всю Россию за тысячи километров, и только на этих поездах и можно было добраться до нужного пункта назначения.
Все эти три поезда проезжали и через Новосибирск, и Фёдор был уверен, что именно на один из этих трёх поездов и купила им билет Надежда Сергеевна.
Однако, когда поезд подошёл, Фёдор к своему удивлению увидел, что на табличке, с начальным и конечным пунктом следования красуются крупно написанные слова – «ЦОНТОНАЕВО – ЦЕНТАД».
Фёдор никогда раньше не слышал ни одного из этих названий, а потому – даже несколько растерялся. Для начала он достал билеты, которые купила Надежда Сергеевна, и удостоверился, что она купила билеты именно на этот поезд. По билетам всё сходилось – поезд был тот самый. Но всё равно, Фёдору было несколько не по себе, и для верности – он решил всё же уточнить у проводника, куда следует этот поезд.
Между тем люди с сумками и чемоданами, выстроились в очередь перед вагоном, и проводник стал проверять билеты. Фёдор встал в конец очереди и стал ждать.
Когда подошла его очередь, Фёдор спросил у проводника:
– Этот поезд идёт до Новосибирска?
– Идёт, идёт… – ответил проводник, со скучающим видом, проверил билеты и вернул их Фёдору.
Но Фёдор вместо того, чтобы лезть в вагон, всё так же стоял на платформе. Наконец, он не сдержался и задал проводнику второй вопрос:
– А что это за поезд такой – «Цонтонаево – Центад»? Что это за города такие?
Проводник лишь неопределённо хмыкнул, и показал Фёдору на вагон – проходи, мол, не задерживай.
Фёдору ничего не оставалось, как взять свои чемоданы и полезть в тамбур. Поставив чемоданы на пол и сняв сумку, Фёдор принял Стёпу у Кати, всё ещё стоящей на платформе. Наконец и сама Катя залезла в вагон, и Фёдор отдал ей ребёнка, а сам снова взял сумку, чемоданы и пошёл за ней.
Вагон был типичным для «золотого века» – приваренные к полу железные лавки и тусклая лампочка под потолком. Фёдор знал, что как только поезд тронется – свет тут же выключится, поэтому надо было быстрее разместиться.
Фёдор и Катя заняли железную лавку. Так как маленький ребёнок тоже считался за полноценного пассажира – им полагалась целая лавка на троих, и никто бы не рискнул им сказать ничего против.
Поезд наконец тронулся, свет действительно выключился. Фёдор прикинул, что ехать им – никак не меньше четырёх суток, а скорее всего – ещё больше. Скорее всего, как и всегда, на поезд по дороге будут производиться нападения, а охрана поезда – будет отстреливаться из пулемётов.
Всю дорогу, пока они ехали до Новосибирска, Фёдор пытался в кромешной темноте разговорить своих попутчиков и выяснить у них, куда и откуда они едут. Делал он это лишь для того, чтобы попытаться выяснить, что это за населённые пункты такие – «Цонтонаево» и «Центад», слишком уж эти необычные названия его заинтересовали.
Обычно разговоры происходили так:
– А Вы далеко едете? – спрашивал Фёдор.
– До Воронежа. – отвечал ему попутчик.
– А откуда?
– Из Читы.
– А не знаете, что это за населённый пункт – «Цонтонаево»?
– Да нет, поезд этот через Читу с востока шёл.
– И «Центад» не знаете где?
– Да кто его знает… Говорят где-то на юге.
Так происходили все разговоры. Кто сел на этот поезд в Иркутске, кто в Улан-Удэ, кто в Чите. А ехали люди – в основном в центральные и южные регионы – кто в Воронеж, кто в Ростов-на-Дону, кто в Краснодар.
Из всего этого Фёдор сделал вывод, что неизвестный ему населённый пункт «Цонтонаево» – находился где-то на Дальнем Востоке, а «Центад» – на юге.
Через пару дней, некоторые попутчики уже начали понемногу коситься на Фёдора – мол, что это он так подробно всё у всех выспрашивает? Даже Катя вмешалась и сказала ему:
– Федя, ну чего ты к людям пристал, куда они едут да откуда? Тебе-то это зачем?
– Да вот, Катя, хочу понять, что это за населённые пункты такие, «Цонтонаево» и «Центад». – честно признался Фёдор. – Кстати, Катя, а ты этих названий раньше никогда не слышала?
– Эээ… нет… – сказала Катя. Она, в отличии от Фёдора, даже не обратила внимания, куда и откуда следует поезд.
– Вот и я не слышал. Потому и пытаюсь выяснить, где эти населённые пункты находятся.
– Да зачем это тебе?
– Да названия уж больно необычные – «Цонтонаево», «Центад»… Любопытно, что это за населённые пункты такие, раз даже поезд по этому маршруту пустили.
– Да будет тебе голову ломать попусту. – улыбнулась Катя. – Нам не в Цонтонаево надо, и не в Центад, а в Новосибирск. Давай лучше думать, как мы там будем дальше жить.
– Мда, это верно…– сказал Фёдор.
– Ладно уж, спи давай. – снова с улыбкой сказала Катя, и погладила Фёдора по голове.
Спали они с Катей по очереди. Один человек лежал на лавке – другой сидел рядом и бодрствовал. Кто-то обязательно должен был не спать. Во-первых следить, чтобы не стащили вещи, а во-вторых, держать на руках маленького Стёпу, чтобы спящий – не дай Бог случайно не задавил во сне ребёнка,
Сейчас Стёпа лежал у Кати на руках. Катя качала и баюкала его. Фёдор же – растянулся на лавке и попытался уснуть.
Однако сон не шёл к нему. Не шли в голову и мысли о дальнейшей жизни в трущобах Новосибирска. Эти вездесущие названия – «Цонтонаево» и «Центад» – словно заворожили, словно приковали к себе Фёдора.
«А всё же это удивительно! – рассуждал Фёдор под стук колёс, лёжа с закрытыми глазами на железной лавке. – Как же всё-таки велика Россия! Ведь во всех уголках нашей Родины – раскинулось огромное количество таких вот «Цонтонаевых» и «Центадов». Они находятся на востоке и на западе, на севере и юге, в разных областях и регионах. Они есть под Хабаровском и Владимиром, под Архангельском и Ставрополем, под Челябинском и Петрозаводском. Во всех уголках, буквально ВЕЗДЕ, разбросаны деревни, сёла, посёлки, маленькие городки. И везде живут люди, наши сограждане. И везде они рождаются, вырастают, заводят семьи, рожают детей, наконец – стареют и умирают».
«И что самое удивительное – ведь эти люди не особо-то и отличаются друг от друга. – продолжал свои рассуждения Фёдор. – Да, отличаются условия их жизни и климат, ведь среднестатистическому человеку уж всяко комфортней жить где-нибудь в Сочи, нежели в вечной мерзлоте. Да, климат отличается, а люди – нет. Ведь все мы – люди одной культуры, все говорим на русском языке. Да, сейчас нас разделили на части, разбили на племена. Говорят, что раньше, ещё до наступления «золотого века», все мы были одним народом и назывались русскими. Теперь русского народа нет, зато есть чалдоны, вятичи, кривичи и так далее. Нас раздробили на части, на маленькие группки. А чем мы по сути – то друг от друга отличаемся? Ну нет, шалишь! Никакие мы не вятичи и не чалдоны, мы – единый русский народ!».
Вот именно тогда, в поезде – «ЦОНТОНАЕВО – ЦЕНТАД», Фёдор и пришёл к мысли, что будь его воля – он бы всеми силами, снова объединил эти разрозненные племена из разных регионов – в один, единый народ. Тогда Фёдор даже не подозревал, что через некоторое количество лет – такая возможность будет ему предоставлена.
А пока что – Фёдор, Катя и маленький Стёпа – тряслись в тёмном вагоне. Нападений на поезд, к счастью – не было.
Через 1,5 суток – старый поезд кое-как дотащился до Красноярска. Красноярск до сих пор вызывал у Фёдора смутные опасения, так как он до сих пор помнил, как он, будучи ещё совсем подростком, уезжал с мамой и сестрой из Алзамая. Вспомнил, как их высадили в Тайшете, объявив, что в Красноярске погромы.
Но то было давно. Теперь Фёдор был уже не вчерашний школьник, а женатый человек. У него была семья, был ребёнок. Теперь, судя по всему – в Красноярске было тихо. В Новосибирске, по сообщениям товарищей – тоже было тихо, погромов не было и в ближайшем будущем не предвиделось.
Поезд простоял в Красноярске больше часа, и потащился дальше на запад. Тут-то и начались нападения лиходеев. Забитые досками окна вагонов прошивали пули, на крыше стрекотали пулемёты. Пассажирами то и дело приходилось падать на грязный пол и лежать там, ожидая, чем закончится дело.
К счастью, нападения раз за разом отбивали, и поезд ехал дальше. Больше четырёх суток тащился поезд до Новосибирска. Во время поездки, Фёдор невольно задумался над тем, сколько же суток едут те, кто едет в этом поезде прямо из Цонтонаево, и сколько им суток ещё придётся трястись в поезде, пока они не доберутся до центральной или южной России?
Наконец, поезд прибыл в Новосибирск. Пока они ехали на поезде, Фёдору один раз позвонил на мобильный телефон Николай, брат Кати, спросил, благополучно ли они сели в поезд, и сказал, что в Новосибирске на вокзале, их встретит товарищ, которого зовут Иван. Иван привезёт их в новосибирские трущобы и покажет их новое жильё.
Когда поезд приехал в Новосибирск – Фёдор и Катя вышли из вагона, Фёдор поставил чемоданы на землю и стал осматриваться. Пассажиры выходили из поезда с чемоданами, а в вагоны заходили новые. Фёдор с Катей отошли в сторону, чтобы не мешать людям – и стали ждать.
Тут за спиной у Фёдора раздался голос:
– Это Вы товарищ Фёдор?
Фёдор обернулся. Он ожидал увидеть кого угодно, но только не того, кого увидел.
Перед ним стоял невысокий щуплый человек, азиатской внешности.
– Эээ…да, это я. – растерянно ответил Фёдор. – А это Вы…эээ… товарищ Иван?
Увидев замешательство Фёдора, человек весело расхохотался:
– Да, товарищ Иван – это я. – ответил он, на чистейшем русском языке. – Я вижу, что Вы удивлены, явным несоответствием моей внешности русскому имени Иван. Но на самом деле меня зовут – Тон Ван Ли. Но так как «Ван», похоже на русское «Иван» – товарищи называют меня Иваном. А я и не против.
– Вы китаец? – спросила у Ивана Катя.
– Я вьетнамец. – ответил Иван. – Но уже много лет живу в России.
– Ну что же, приятно познакомиться, товарищ Иван. – сказал Фёдор, и протянул вьетнамцу руку. Этот добродушный человек, сразу располагал к себе.
– Взаимно. – ответил Иван, пожимая Фёдору руку. – Ну что же, пойдём на автобус?
– Пошли. – сказал Фёдор. Он снова перекинул сумку через плечо и взял один чемодан. Второй чемодан взял Иван, и пошёл впереди, показывая дорогу. Следом за ним шёл Фёдор, а последней шла Катя, неся на руках Стёпу.
– Они подошли к автобусной остановке, дождались нужного автобуса, сели в него и поехали. Ехать пришлось долго, за черту города. В трущобы автобус не въезжал, а конечная остановка его – находилась примерно за километр от того места, где эти самые трущобы начинались.
Наконец автобус доехал до конца маршрута, Фёдор, Катя и Иван, пошли к трущобам.
– Ну и ну, прямо Золотая Орда какая-то! – сказала Катя.
Новосибирские трущобы, и впрямь больше напоминали лагерь кочевников. Казалось, что сейчас под Новосибирском расположилось войско Чингисхана. В чистом поле стояли сотни юрт. Новосибирские трущобы были огромны. Они раскинулись вокруг всего десятимиллионного города и как бы взяли его в кольцо, «захватив» заодно и близлежащие деревни. А самая густонаселённая часть новосибирских трущоб располагалась возле Криводановки. Именно туда – то Иван и привёз сейчас Фёдора и Катю.
– Да. – ответил Иван на замечание Кати. – А как вы хотели? Тут не Индия и не Африка, тут Сибирь. Дом из чего попало не сделаешь, потому что зимой замёрзнешь. Приходится даже в трущобах тёплое жилище обустраивать.
Они подошли к трущобам и пошли вдоль юрт. В трущобах кипела жизнь – возле юрт паслись козы и овцы, бегали и играли дети, женщины готовили еду на кострах или стирали бельё в корытах. Путь по трущобам сильно замедлялся тем, что все и каждый, кого они встречали на своём пути – здоровались с Иваном. Видимо, его тут хорошо знали.
Иван тоже здоровался со всеми. Пока они шли по трущобам только и слышалось:
– Здравствуйте! Привет! Как дела?
Бывало, что Иван не просто здоровался с людьми, но ещё и останавливался поболтать с ними, расспросить о том – о сём. Поэтому, дорога по трущобам была долгой.
Наконец, они подошли к юрте, которая стояла примерно в центре трущоб, и Иван сказал:
– Ну, вот ваше жилище. Пойдём внутрь.
И Иван пошёл в юрту. За ним двинулись остальные. В юрте было тепло и просторно, по крайней мере – просторно для троих. Не давая гостям опомниться, Иван сказал:
– Положите вещи и уложите сына спать. А потом пойдём, я вам покажу, где тут что. А после этого – покажу, где я сам живу.
Фёдора это немного разозлило, так как они были с дороги и очень устали. «Почему не дать сначала людям отдохнуть?» – недовольно подумал Фёдор. Однако, благодарный Ивану за его помощь – виду он не показал. Кроме того, он решил, что лучше сразу понять, где тут и что находится.
Чемоданы они оставили в юрте, а вот оставлять одного Стёпу – Катя отказалась наотрез, и потому – понесла его на руках с собой. Сначала Иван показал им отхожие места. Посреди трущоб, стоял большой деревянный туалет. Впрочем, Фёдор заметил, что у многих юрт – стоят свои небольшие нужники сельского типа.
– Это те себе ставят, кто тут долго жить собирается. – объяснил Иван. – Тут даже есть те, кто баню себе возле юрты построил и сарай для скотины. Ладно, пойдём покажу, где набирать воду.
Выяснилось, что в трущобах вырыто несколько колодцев. Ближайший из них, был как раз недалеко от жилища Фёдора. Колодец был обычный деревенский, с воротом.
С тем, чтобы помыться, как выяснилось из объяснений Ивана тут дело обстояло хуже, чем с туалетом. Общей бани тут не было, и каждый мылся, где и как мог. Летом, чаще всего мылись на речке, а зимой – кто где. У кого была своя баня – мылся в ней, если ты дружил с теми, у кого есть баня – могли пустить помыться. У кого были деньги – ездили мыться в общественные бани в Новосибирск. А все остальные – кипятили воду в котелках, наливали в корыта, и мылись, обливаясь из ковша.
Электричества в юртах тоже не было. Еду готовили на открытом огне. Стирали одежду, как уже было сказано, в обычных корытах.
С продуктами тоже было всё не так радужно. В трущобах была одна лавка, которую открыл один предприимчивый местный житель. Продукты для неё – он закупал в Новосибирске, и сам таскал их в трущобы сумками. Возил он обычно не продукты питания, а мыло, спички, соль, сигареты, водку и наркотики. То есть возил товары, которые были в ходу, и которые покупали у него каждый день. Фрукты, чай, кофе, молочные продукты, сладости – он не возил никогда. Из овощей – возил только картошку, да и то далеко не всегда. Мясо – тоже было огромной редкостью. Обычно, мясо покупали не в лавке, а у тех жителей трущоб, которые держали у себя в хозяйстве животных.
Совершенно очевидно, что при таком «богатом» ассортименте единственного в трущобах магазина, и поведение многих его жителей было соответствующим. Всюду шатались пьяные люди, тут и там вспыхивали драки (нередко – перераставшие в поножовщину), много было и тех, кто, пропив всё, ходил по трущобам, и просил денег, чтобы опохмелиться. Так как в лавке продавали и наркотики – было много и тех, кто их употреблял. Как уже было сказано, в «золотом веке», даже такие тяжёлые наркотики, как героин, были законодательно приравнены к алкоголю. Наркоторговец и наркоман – в те времена не были вне закона. А посему – в трущобах можно было увидеть много тех, кто сидел на пороге своей юрты со шприцом в руке, и пытался вколоть себе наркотики внутривенно. В те времена – подобные зрелища были в порядке вещей, и хоть и не нравились многим людям, но никого не шокировали. Прилюдно «ширнуться» тяжёлым наркотиком – было в общественном сознании примерно равно тому, чтобы попить пивка на лавочке в парке. То есть – это хоть и могло считаться нарушением общественного порядка, но отнюдь не считалось тяжким преступлением.
Показав и объяснив подробно, как устроена жизнь в трущобах, Иван сказал:
– Ну а теперь, пошли ко мне в юрту! Познакомлю вас с женой.
Фёдор и Катя пошли за ним. Оказалось, что юрта Ивана находилась всего в нескольких минутах ходьбы от юрты, которую выделили Фёдору и Кате.
Заходя в юрту Ивана, Фёдор рассчитывал там встретить невысокую и хрупкую азиатскую женщину, на которой был женат Иван. Поэтому, войдя в юрту, Фёдор испытал прямо-таки чувство изумления от того, что он увидел.
Оказалось, что женой Ивана была вовсе не хрупкая азиатка, а высокая дородная русская баба, с необъятных размеров грудью и бёдрами.
– Вот, познакомьтесь. Это моя жена, Зоя. – сказал Иван.
– Очччень пррриятно… – сказал заикаясь Фёдор, глядя на Зою.
Увидев замешательство Фёдора, Иван прямо-таки покатился со смеху:
– Ахахаха, что, не ожидали? Вы наверняка думали, что моя жена похожа на меня, да?
– Эээээ…да, честно признаться, я так и думал. – ответил Фёдор. Ему было немного неприятно, что Иван вывел его «на чистую воду», однако добродушие Ивана – сглаживало все острые углы.
– Все так думают. – снова весело сказал Иван. – Ну да ладно, садитесь за стол.
– За стол? – переспросила его Катя. – Но вы же просто хотели показать нам своё жилище.
– Конечно за стол, а то как же! Надо же встретить товарищей с дороги! – ответил Иван. – А ничего не сказал я вам об этом потому, что боялся вашего отказа.
Идя к Ивану, Фёдор думал о том, что придётся сидеть в юрте на циновках, то есть – практически на полу, как часто бывает в Азии. Но теперь он увидел, что таких неудобств им испытывать не придётся. Посреди юрты стоял большой деревянный стол, а вокруг него стояли табуретки.
Зоя подошла к Кате и сказала:
– Положите ребёнка вон туда, там колыбелька есть. – и она показала Кате рукой.
Оказалось, что в юрте действительно есть колыбелька. Катя уложила в неё маленького Стёпу и тот сразу уснул. В юрте, все тут же стали говорить тише, чтобы не разбудить ребёнка.
– Это от моего младшенького осталась. – сказала Зоя указывая на колыбельку. – Он уже вырос из неё. Мы хотели сначала друзьям колыбель отдать, да потом оставили, ведь у нас самих ещё дети могут быть, пригодится.
– А сколько у Вас детей? – спросила Катя у Зои.
– Пока только четверо. – сказала Зоя. – Но думаю будут ещё.
«Пока только…» – подметила про себя Катя и пошла к столу. Наконец, Фёдор, Катя и Иван уселись за стол, а Зоя стала подавать обед.
Обед был праздничный и поистине интернациональный. Сначала Зоя налила в тарелки суп. Суп был вкусный, но довольно необычный. Ни Фёдор, ни Катя никогда не ели ничего подобного. Иван объяснил им, что это – вьетнамский суп Фо-Бо. А вместо хлеба, на столе дымилась большая тарелка блинов. Фёдор и Катя ели вьетнамский суп, заедая его русскими блинами. После супа – ели гречневую кашу с тушёнкой, заедая её всё теми же блинами. А в конце, пили чай с яблочным пирогом «Шарлотка». Такая трапеза, для нищего XXIV века – была поистине царским пиром.
Фёдор и Катя наелись до отвала. Фёдор даже не совсем понимал, почему эти, почти незнакомые люди, оказывают им такое гостеприимство.
Когда обед был завершён – Фёдор и Катя от всей души поблагодарили хозяев дома – и пошли к себе в юрту. Они уложили Стёпу спать, и сами легли на грубо сколоченный топчан.
– Ну что, как тебе в трущобах? – спросила Катя, прижавшись к мужу.
– Ну не дворец султана, конечно, но ничего, и тут люди живут. – сказал Фёдор.
– Главное, что мы вместе, правда? – спросила Катя.
– Конечно. – ответил Фёдор и поцеловал жену.
Так началась их тяжёлая жизнь в трущобах. Фёдор нашёл работу в Новосибирске и каждый день ездил туда на автобусе. О том, чтобы, живя в таких условиях работала и Катя – не могло быть и речи. Катя оставалась на хозяйстве – готовила еду на открытом огне, убиралась, таскала воду, стирала вещи в корыте и естественно –занималась ребёнком. Кате это очень не нравилось, но она молчала. Она всегда вспоминала слова Фёдора – «И тут люди живут». И они жили.
Разумеется, им помогали, особенно на первых порах. Катя сдружилась с несколькими женщинами из трущоб, и они помогали друг другу по мере возможности. А семья Ивана – так и вовсе стала для них почти родной.
Не забывал Фёдор и вести агитационную работу в трущобах и сколотил тут небольшой книжный клуб. Несколько местных жителей уже ходили в него.
Кате становилось тяжело так жить, но она молчала и день ото дня продолжала выполнять свои обязанности. В душе Кати теплилась мысль – «Надеюсь, мы тут ненадолго. Не можем же мы всю жизнь в таких условиях прожить?».
Но они прожили в трущобах полтора года. Однако, Катя была права – «сколь верёвочке не виться…». И однажды, Фёдор, придя с работы, прямо-таки ворвался в юрту с улыбкой до ушей. Он был прямо-таки нагружен пакетами с едой. Он достал мясо, колбасу, сыр, фрукты, сладости, водку, шампанское.
Катя удивлённо смотрела на него:
– Чего это ты, Федя? Праздник что ли какой?
– Праздник, Катюша, ещё какой праздник! – радостно сказал Фёдор.
– Тебе дали премию? – спросила Катя с улыбкой. Веселье мужа, начало мало-помалу передаваться и ей.
– Премию? Лучше, Катя, гораздо лучше!
– Так что же?
– Мы уезжаем, Катя!
– Ой, правда? Куда же? – Катя очень обрадовалась.
– Со мной сегодня связался Николай. Он сказал, что товарищи нашли нам жильё в одном городе. Квартира маленькая, но зато своя, и там есть всё – свет, отопление, газ, канализация, горячая вода. Совсем скоро мы уедем отсюда, Катя!
Катя порывисто кинулась к Фёдору и обняла его. Наконец-то! Наконец-то! Скоро у них будет нормальное жильё! Что квартира маленькая – это не важно! Главное – скоро ей не придётся стирать вещи в корыте и готовить еду на костре! Скоро у них будут нормальные, человеческие условия для жизни!
Катя поцеловала мужа, но всё же решила уточнить:
– Так куда же мы всё-таки едем, Федя?
Фёдор посмотрел на неё, и сказал лишь одно слово:
– Вуктыл.
– Эээ…что? – не поняла Катя.
– Вуктыл. – повторил Фёдор.
– Что такое «Вуктыл»? Это название города такое? – до сих пор, Кате не приходилось сталкиваться с подобным топонимом.
– Да, так город называется – «Вуктыл».
– Где же этот город находится?
– В Республике Коми.
– Оооооо….
Катя была слегка разочарована. Она-то думала, что они будут жить либо в каком-нибудь крупном городе, или хотя бы – где-нибудь там, где тепло. А тут – придётся ехать в какой-то Вуктыл, который мало того – что маленький город, так ещё и не севере. Кроме того – Катя примерно представляла себе, где находится Республика Коми, и знала, что это – очень далеко от Новосибирска, на другом краю страны. Поэтому – Кате было решительно непонятно, как они будут до этого самого Вуктыла добираться, да ещё и с маленьким ребёнком на руках.
Катя решила спросить об этом напрямую:
– И как же мы туда добираться будем из Новосибирска?
– Николай сказал, что достанет нам билеты. – ответил Фёдор.
– Билеты докуда? – спросила Катя.
Вопрос был резонный. Как уже было сказано, маршрутов в «золотом веке» было мало, в силу «нерентабельности». Поезда пускали через всю Россию, однако – поезда эти шли либо в центральные, либо в южные регионы. При этом – оставалось много направлений, которые были в стороне от основных железнодорожных магистралей. Поезда туда приходили тоже, однако – ждать их надо было иногда неделями. И Республика Коми – была как раз одним из таких «непопулярных» направлений.











