Читать онлайн Игры цирка. Беседы об актёрском мастерстве и режиссуре для руководителей и воспитанников любительских цирковых коллективов
- Автор: Максимилиан Немчинский
- Жанр: Цирк, Культурология, Учебно-методические пособия
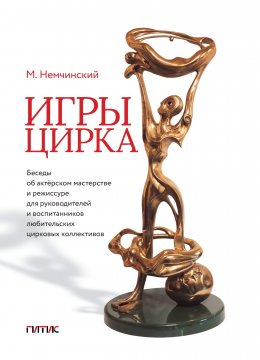
© Немчинский М. И., 2022
© Издательство ГИТИС, 2022
Несколько слов перед началом беседы
Предлагаемые вниманию любителей и почитателей цирка беседы – не учебник по подготовке отдельных трюков, не рекомендации, предлагающие конкретные постановочные решения номеров тех или иных цирковых жанров. Автор поставил перед собой иную задачу. Хотелось сосредоточить внимание читателя на самой проблеме неординарности любого художественного явления на манеже цирка.
Предпринята попытка на конкретных примерах показать, как трюки, умело подобранные в выразительные комбинации или же наполненные при своем исполнении подлинным актерским отношением, помогают создавать своеобразную цирковую драматургию. Другими словами, рассматривается, как разнопланово может воплощаться в конкретном творчестве одна и та же художественная платформа.
Сознательно избран прием знакомства читателя с номерами цирка – от самых камерных, таких как соло-жонглер, до наиболее масштабных, включающих в себя воздушный полет. На первый взгляд изучение опыта манежных модификаций этих произведений циркового искусства ничем не может помочь в практической работе вне манежа. Действительно, при работе, скажем, на сцене, да еще в условиях любительского цирка медведей не приобретешь и не разместишь, как не разместишь аппаратуру традиционного полета. Однако следует напомнить, что автор вовсе не стремится предложить читателю дотошно копировать конкретные номера, снискавшие известность.
Предлагается задуматься о путях художественного осмысления трюка, комбинации, взаимоотношений партнеров, возможных конструктивных изменений аппаратуры, о нетрадиционном ее исполнении и применении. Самых серьезных раздумий заслуживает и проблема организации пластических перемещений артистов в процессе исполнения номера. Вниманию вдумчивого читателя предлагается ряд аналогий для его самостоятельного творчества, если он пожелает им заниматься.
Оцененное с таких позиций описание решения номера с дрессированным медведем может оказаться не менее необходимым, чем описание выступления, скажем, с дрессированными собачками. И дело не ограничивается тем, что животные здесь предстают в качестве равноправных партнеров артистов (одно из самых значительных открытий современного цирка, широко пропагандируемое нашими дрессировщиками). Автору представляется самым важным пробудить своими беседами творческий отклик, рождение собственных оценок и замыслов. При этом все ширящийся круг ассоциаций, расходящихся словно круги по воде от брошенного камня, могли бы натолкнуть его на самое неожиданное художественное решение.
Ведь даже в домашних условиях или на любительских подмостках возможно при помощи приемов аттракциона со львами и тиграми создать интереснейший номер с их сородичами кошками.
Точно так же возможно придумать комический номер, где в роли слонов из Индии или Африки выступали бы одетые в специальные трюковые чехлы-костюмы собаки.
В расчете именно на такое свободное фантазирование на заданную в этой книге тему приведены примеры актерских открытий в таких своеобразных цирковых коллективах, как «Цирк на льду». Ведь сам принцип работы цирка на льду может осуществиться и на деревянном полу сцены, стоит попытаться поставить исполнителей тех или иных цирковых номеров – а то и всех номеров разом – на роликовые коньки.
Словом, учитесь фантазировать.
Необходимо каждый раз, задумывая цирковой номер или программу, стараться решать их так, словно до тебя никто и никогда не пытался решить ни одной связанной с этим проблемы. И вместе с тем необходимо знать наиболее выдающиеся работы своих предшественников. Не для того, чтобы формально повторить найденное ими, а чтобы развить или художественно преобразить эти находки. И к программе цирка, и к любому номеру любого циркового жанра следует относиться как к многоактному или одноактному театральному спектаклю.
Конечно, номер цирка немыслим без трюка.
Но сегодня он невозможен и без тех средств воздействия, которые традиционно считаются театральными. В наши дни мало создать интересную и оригинальную композицию трюков. Необходимо решить образный строй номера. Значит – определить музыку, пластику, найти принцип взаимоотношений партнеров, придумать костюм, оформление аппаратуры (а прежде того, разумеется, ее конструкцию), подобрать реквизит. Но сначала нужно попытаться наиболее полно выразить своеобразие индивидуальности исполнителей номера. Как бы интересно ни был придуман «текст» цирковых ролей – трюковых комбинаций, как бы оригинально ни интерпретировались они режиссером-постановщиком, все же предметом искусства они смогут стать, только когда их одушевит своим талантом артист-мастер.
Поэтому читателю и предлагается познакомиться с теми представителями советского цирка, которые счастливо сочетали высокое владение профессией с явной актерской одаренностью и при этом являются создателями и участниками неординарных произведений циркового искусства.
В качестве примеров мы вспоминаем ставшие классическими номера цирковых артистов, которые в 60–80‐е годы прошлого столетия принесли нашей стране славу первоклассной цирковой державы. Само понятие «советский цирк» служило тогда гарантией превосходной профессиональной выучки артистов, их актерской одаренности, неожиданного своеобразия постановочных решений.
Для удобства знакомства с материалом все изложенное разделено на главы по принадлежности артистов к цирковым жанрам, к которым относятся предлагаемые вниманию читателя номера, и своеобразию приемов их образного наполнения. Вместе с тем считаю необходимым предупредить, что деление это чисто условное, так как приводимыми ниже находками можно воспользоваться при разработке режиссерской, актерской и трюковой партитуры любого номера любого циркового жанра.
Многое в истории отечественного цирка достойно удивления, но прежде всего те безграничные возможности для увлеченного творчества, которые он представляет своим артистам.
Первоклассные художники, квалифицированная режиссерская помощь, специально приглашенные композиторы, превосходно оборудованные слесарные, столярные и какие только ни потребуются мастерские, качественные помещения для репетиций предоставляются незамедлительно. Все возможное и невозможное делается для того, чтобы мог появиться еще один отличный цирковой номер. Ведь каждая личная удача артиста естественно становится принципиальной победой отечественного цирка.
Будущее любого искусства – это молодежь. Но в последние годы молодые мастера манежа настолько решительно заявили о своих высоких творческих возможностях, что во многих жанрах уже завоевали ведущее положение. Смело можно утверждать, что именно деятельность цирковой молодежи определяет как пути дальнейшего развития искрометного искусства манежа, так и его сегодняшний созидательный день.
Цирк нельзя не любить. Он словно отдушина в нашей чрезмерно напряженной жизни. Пойти в цирк – все равно что вернуться в детство.
В нем все определенно и бесхитростно, ясно и понятно. В нем все удивительно и неожиданно. Самое невероятное становится реальным под цирковым небом. Лошади танцуют, смеются и решают математические задачи. Львы и тигры ковром ложатся к ногам укротителя. Медведи с равным мастерством играют в футбол и хоккей. Люди, забыв о законе всемирного тяготения, поднимают друг друга, жонглируют тяжестями, летают, как птицы. А главное – все это неимоверное совершается с такой легкостью и естественностью, что любой сидящий в зале не может не ощутить и себя сопричастным всему, что происходит на манеже.
Каждому зрителю кажется, что стоит ему захотеть, подняться с места, выйти на залитый светом прожекторов цирковой ковер, и он сам сможет поразить всех своей ловкостью и мастерством. Сможет стать сильным и отважным. Стать красивым и молодым. Поэтому и принято, наверное, считать цирк искусством молодости. Именно поэтому, а вовсе не из‐за того, что каждый третий его артист покидает учебную скамью и вступает в магический круг манежа, едва достигнув отрочества.
Безудержно юн сам дух искусства цирка, корнями мастерства уходящего в седую древность. Говорят, молодость самим существованием своим страстно отрицает любые традиции и авторитеты. Точно так же освященной веками цирковой традицией стал отказ от всяческих традиций.
Любой самый распространенный трюк каждый овладевающий им исполнитель рождает вновь, заново и для себя. Поэтому каждый номер в цирке единственный и неповторимый.
Артист растворяется в своем номере целиком. Но он и возрождается в нем, обретая иную, высшую художественную, образную сущность. Силой таланта спортивное мастерство и актерская одаренность сплавляются воедино.
К жизни пробуждается, начинает самостоятельное существование манежный образ, та роль, которую артист из вечера в вечер создает на манеже цирка. Его непреходящее цирковое бытие.
Во имя этого чуда пылают яркие разноцветные прожектора, гремит праздничная, будоражащая музыка. Чтобы стать свидетелями этого чуда, в цирк приходят зрители. Ему посвящены и наши беседы.
К победам молодые мастера цирка идут рука об руку со своими наставниками, и рассказывать об одних, не называя других, невозможно. Легко поддаться соблазну начать с описания робких детских мечтаний о загадочно-прекрасном цирке. Еще эффектней, пожалуй, шаг за шагом проследить ход репетиций с постоянной тревогой за удачный их исход, а если повезет – для оживления сюжета – и с небольшой катастрофой, которая тем не менее не сможет помешать успешному завершению работы. Богатый материал предлагает, к слову, любая гастрольная поездка. Но, мне кажется, наиболее полно, исчерпывающе артист цирка проявляется в своем номере.
В давние годы в цирк ходили смотреть зверей и клоунов. Сейчас иное. В наши дни основная масса номеров, самых распространенных, массовых, популярных принадлежит к спортивно-физкультурным жанрам. Этот факт закономерен для современной эпохи. Мало того, он служит убедительным доказательством теснейшей диалектической связи искусства цирка с общественной жизнью страны.
Сейчас и вообразить себе трудно, что было время, когда спортом занималась привилегированная кучка снобов. Но так было. И одной из главнейших заслуг советского цирка перед своими зрителями следует признать активную и широчайшую пропаганду физической культуры. Каждый акробатический, гимнастический, каждый номер атлетики, так же, как выступления конников, убеждали доказательней самых пламенных лозунгов. Славный призыв 1920-х гг. «Цирк массам» отозвался действенно и исчерпывающе созданием широчайшей сети массовых спортивных обществ.
Спортсмены шли на выучку к цирковым артистам. Год за годом трюки, исполняемые на манеже, были предметом зависти, подражания, эталоном для миллионной армии физкультурников нашей страны. Цирк щедро делился своим мастерством, накопленным опытом, раскрывал секреты, широко распахивал двери своих зданий. Ведь многие десятилетия крупнейшие спортивные соревнования проводились именно на манежах цирка, не было тогда других таких же вместительных помещений. Цирк отечески покровительствовал спорту и настолько привык к своему положению лидера, что проглядел тот момент, когда его обошли решительно и бесповоротно. Успехи, достигнутые на спортивных помостах в художественной гимнастике, акробатике, многих видах снарядовой гимнастики, в фигурном катании и танцах на льду, не говоря уже о тяжелой атлетике, подорвали, казалось, авторитет артистов цирка.
Так действительно показалось в первый момент, настолько значительны и бесспорны были преимущества спортсменов. Но, по здравому размышлению, это мнимое поражение заставило вновь всерьез задуматься о специфике циркового искусства.
Судите сами.
Вот, например, Иван Федосов выкрутил тройное сальто-мортале в партере (без пружинящей или надувной дорожки, на опилках!) еще в 1949 г., когда спорт не мог мечтать даже о двойном. Но, освоив этот феноменальный трюк, раззадорив коллег, Федосов решил не включать его в композицию номера. Ведь артист цирка обязан так распределять свои силы, чтобы их хватило не на пять-семь ответственных соревнований в год, а на 40–50 стабильных качественных выступлений в месяц.
Конечно, искусство цирка невозможно себе представить без захватывающего неожиданного трюка. Чем дальше, тем сложнее становятся трюки на манеже.
Но сегодня цирку, чтобы иметь право именоваться искусством, одних трюков, пусть даже самых выдающихся, мало. В наши дни трюк для циркового артиста не самоцель, а средство создания манежного образа, возможность метафорически отобразить нашу действительность.
В этом высокое предназначение цирка и коренное его отличие от спорта. Поэтому сегодня артисты стремятся решать свои номера как маленькие законченные спектакли. Но к единой цели каждый идет своим особым путем.
Наши беседы – об особенностях формирования и создания манежного образа артистов цирка. Они должны помочь артистам любительского цирка проникнуть в тайны актерского мастерства.
Условимся о терминах
Каждое искусство, как и любая наука, пользуется своими профессиональными терминами. Имеет их и цирк. Слова, которыми пользуются цирковые артисты в повседневной жизни, волей-неволей приходится употреблять и в беседах о цирке. Поэтому запомните их.
Антипод – жонглирование ногами.
Бамбук – это короткий перш, подвешенный к куполу цирка. Трюки, на нем исполняющиеся, одинаковы с упражнениями на перше.
Воздушная рамка – аппарат и номер, в котором один из артистов виснет вниз головой, а другой совершает у него в руках гимнастические или вольтижные трюки.
Вольтижировка – трюки, требующие для своего исполнения отрыва от аппарата или партнера. Возможны как в воздушной, так и в партерной работе. Например, в икарийских играх.
Доппель-трапе – двойная трапеция, на которой два исполнителя работают синхронно, а могут исполнять и парные гимнастические трюки.
Икарийские игры – номер, в котором одни партнеры (чаще всего дети) совершают перелеты и прыжки в воздухе, подбрасываемые ногами других партнеров, лежащих на тринках.
Кабриоль – эффектный трюк парной акробатики, в котором нижний партнер вырывает верхнего с манежа в стойку на вытянутых руках и так – в темп – несколько раз подряд.
Комплимент – традиционный цирковой поклон по окончании номера или же между трюками.
Копфштейн – стойка на голове.
Корде-волан – горизонтальный канат, провисающий дугой. Один из воздушно-гимнастических снарядов.
Корде-парель – номер, в котором те же трюки, что на перше и бамбуке, исполняются на свисающем до манежа вертикальном канате.
Лопинг – гимнастический аппарат для перекручивания артиста, находящегося на П-образной трубе, вращающейся вокруг штамберта.
Перш – произвольной высоты дюралюминиевая труба или деревянный шест. Артист балансирует им на лбу, на плече, в зубах, каким‐либо иным способом. Его партнер или партнеры, зацепившись за укрепленную у верхнего основания перша петлю, принимают различные позы.
Престидижитация – в переводе означает «быстрота пальцев» – искусство фокусника, позволяющее извлекать предметы буквально из воздуха. Чаще именуется манипуляцией.
Проволока – натянутый не выше 2,5 м над манежем стальной трос. На нем артисты танцуют, прыгают через различные препятствия, словом, совершают эквилибристские трюки.
Реприза – комическая сценка, которую разыгрывают клоуны, заполняя паузы между номерами, а также между трюками, чтобы дать отдохнуть артистам или предоставить им возможность незаметно сменить обувь, как это бывает необходимо при работе на проволоке.
Ризенвелль – хорошо знакомый всем трюк, когда артист, ухватившись руками за перекладину турника, крутит «солнце».
Тринка – специальная подушка. Лежа на ней, артист может удерживать на ногах партнеров, ножную лестницу или предметы.
Униформисты – служители цирка, которые подготавливают манеж к выступлению каждого следующего номера и торжественно выстраиваются шеренгами в начале представления перед выходом шпрехшталмейстера.
Форганг – проход на конюшню, через который выходят на манеж артисты и животные, а униформисты выкатывают ковер и выносят аппараты.
Шпрехшталмейстер – работник цирка, руковящий униформистами, объявляющий номера, следящий, чтобы на манеже все было в порядке, и помогающий коверным клоунам в их репризах.
Штамберт – подвешенная к куполу и фиксируемая на месте растяжками металлическая перекладина. К ней крепятся кольца, трапеции и другие гимнастические снаряды.
Штейн-трапе – в отличие от обычной трапеции очень тяжелая перекладина для исполнения трюков, основанных на сохранении равновесия, в том числе копфштейна.
Эквилибристика – искусство удерживать в равновесии себя или партнера. Наиболее эффектна в работе на першах.
Вот, пожалуй, и все. Об остальном вы узнаете из самих бесед.
Алле-ап! – Начали!
Зрелище необычайнейшее
(1-е отделение)
Когда идешь в цирк, всегда ждешь праздника. И цирк не обманывает. Огромное здание словно пропитано предчувствием необычайного зрелища. Амфитеатр гудит от нетерпения. Торопливо пробираются к своим местам опаздывающие. И вот уже медленно гаснут на куполе фонари. Уже затихает гул насторожившегося зала. И сразу же на зрителей обрушивается каскад света и музыки. Залитый сотнями прожекторов оркестр приветствует любителей цирка огненной увертюрой, как бы успокаивая нетерпеливых, – еще минута, и мы начнем! Как бы подзадоривая скептиков, – увидите сами, на манеже даже невозможное становится возможным!.. Впрочем, скептиков в цирке не бывает. В цирк приходят на встречу с прекрасным, удивительным, увлекательным, невероятным. За чудесами.
И чудеса начинаются.
Распахивается занавес, пропустив две шеренги празднично нарядных униформистов. Распахивается еще раз – и перед зрителями появляется подтянутый, торжественный, обаятельный мужчина.
Режиссер-инспектор именуется он в программе.
Шпрехшталмейстер зовут его по давней традиции старые артисты.
Нарядный мужчина берет из рук униформиста микрофон и голосом, сулящим радостное и необычное, провозглашает:
– Начинаем цирковое представление. Первым номером нашей программы выступают…
И тут действительно начинается зрелище необычайнейшее. Ведь праздник – это не только увлекательная зрелищность. Праздник – это и нескончаемая смена впечатлений.
А жанры цирка поистине неисчерпаемы в своем разнообразии.
Незаурядное мастерство позволяет цирковым артистам, не считаясь с законом всемирного тяготения, словно парить над землей, едва касаясь ее.
В Древней Греции таких умельцев называли акробатами, то есть «ходящими на цыпочках».
Сегодня акробатика – это наименование целого жанра циркового мастерства.
Акробаты-прыгуны совершают всевозможные прыжки на земле, «в партере», как говорят в цирке, переняв это выражение от французских коллег. Поэтому часто можно услышать, как акробатов-прыгунов называют партерными прыгунами. Эффектность прыжков часто усиливается от пользования различными приспособлениями (трамплинами, подкидными досками, батутом).
Акробаты-вольтижеры, «порхающие акробаты» в буквальном переводе с французского, строят свою работу на перебрасывании или подбрасывании нижними партнерами верхних, которые каждый свой полет сопровождают или завершают исполнением трюка.
Силовые акробаты, крафт-акробаты (от нем. Kraft – «сила»), как нередко их по традиции именуют в цирке, в отличие от вольтижеров все свои трюки выполняют на силу, на жиме. Поэтому основу их номеров составляют всевозможные стойки.
Плечевые акробаты, как о том говорит само название, все свои прыжки совершают «из плеч» или же «в плечи» партнеров. Подобный отбор трюков диктует и групповой характер номера.
Пластическая акробатика может принимать различные выражения в номерах каучука, клишника, пластических этюдов или же в художественно-акробатических группах, но всегда смысловой упор делается именно на пластике тела артиста, его необычных или же эффективно-статичных положениях.
Антипод – это, можно сказать, «работа наоборот». Привычно работать руками, а антиподист, улегшись спиной на специальную подушку, тринку, бросает предметы ногами.
Номер артистов, бросающих ногами не вещи, а живых людей, издавна известен как икарийские игры (в честь мифического Икара, оторвавшегося от земли на искусственных крыльях).
Особой разновидностью акробатики является эквилибр (от лат. aequilibris – «находящийся в равновесии»), объединяющий номера весьма различные по выразительным средствам, но родственные сутью – умением удержать в равновесии себя, партнеров и реквизит.
Цирковые эквилибристы сохраняют равновесие в самых невероятных положениях – на туго натянутой проволоке это нелегко делать, выполняя при этом трюки, разумеется, и на свободной проволоке, провисающей при каждом шаге, качающейся при каждом повороте, и на вольностоящей лестнице, и при балансе на катушках, да не на одной, а на пяти-семи – и при этом еще жонглируя, играя на музыкальном инструменте или удерживая на лбу какой‐либо предмет. Но наибольшего эффекта эквилибристы достигают при работе на першах – металлических или деревянных шестах до 10 м высотой. В то время как нижний партнер балансирует першом, держа его на лбу, на плече или за поясом, его партнеры (их число зависит от силы, выносливости и мастерства нижнего) на вершине перша совершают всевозможные трюки, а иногда и сами держат перш, на который, в свою очередь, поднимаются партнеры, чтобы уже под самым куполом выжать стойку или встать на голову.
Людей, упорно тренирующих свое тело, в Древней Греции – а культ физического воспитания человека восходит к тем далеким временам – именовали гимнастами. В разговорной речи сегодня понятия «акробат» и «гимнаст» стали почти что синонимами, но цирк их строго разграничивает.
Искусство акробата зависит исключительно от владения собственным телом. Даже батут является лишь снарядом, от которого артист отталкивается, чтобы совершить прыжок. Точно так же, как перш – лишь предмет баланса для нижнего и возможность опоры для верхнего партнеров. Партерные гимнасты работают на турниках, брусьях, кольцах, спущенных так низко, что до них можно допрыгнуть с манежа. Но есть в цирке жанр, где аппаратура, установленная на манеже или же подвешенная к куполу, диктует характер трюков и предопределяет их неповторимое своеобразие.
Артисты, чье искусство может быть продемонстрировано только на специальной аппаратуре, благодаря аппаратуре, в цирке именуются гимнастами.
Воздушная гимнастика – самый, пожалуй, романтический вид циркового искусства, он включает в себя бамбук и кордепарель, трюки, на которых во многом повторяют исполняемые на першах, корде-волан, напоминающий поднятую под купол свободно натянутую проволоку, воздушный канат, все разновидности трапеции, рамку, позволяющую вести в воздухе вольтижную работу, всевозможные вертящиеся аппараты (вертушки) для солистов и воздушных дуэтов, и самый крупный, да и самый впечатляющий цирковой номер – воздушный полет.
Сильные люди цирка – атлеты. В переводе с греческого атлет означает «борец». Но в настоящее время борьба – «Всемирные чемпионаты классической борьбы», как когда‐то, заманивая зрителя, возвещали афиши, в цирке не проводятся. Атлеты сегодняшнего цирка строят выступления исключительно на силовых упражнениях с тяжестями.
В наши дни спортивно-акробатические жанры – самая распространенная часть любого циркового представления. Оно и понятно. В каждом городе нашей страны есть спортивные кружки. Ведь редкая школа не выставляет на городские соревнования по самым разным видам спорта своих чемпионов. А техникумы? А институты?
Но за каждым чемпионом стоит спортивное общество, его вырастившее. Растет популярность спорта. Растут ряды спортсменов. И цирк, откликаясь на этот увеличивающийся интерес, наращивает число спортивно-акробатических номеров.
Кстати, если приглядеться к номерам спортивно-акробатическим, на сегодняшний день составляющим три четверти любого циркового представления, то нетрудно заметить, что почти все трюки, исполняемые на манеже, можно увидеть и на спортивных состязаниях.
Действительно, какие соревнования по акробатике обходятся без переднего или заднего сальто-мортале, флик-фляка, рондада и арабского[1]. Эти же прыжки входят как обязательные элементы в выступления по художественной гимнастике и украшают многие показательные программы фигуристов. Прыжки на батуте – привычный цирковой номер – в последние годы стал объектом республиканских и союзных чемпионатов. Одни и те же упражнения на гимнастическом турнике можно увидеть на цирковом манеже и в спортивном зале.
Однако, продолжая подобные сопоставления, легко подменим исходную тему беседы, забудем, что речь‐то мы ведем не о родстве цирка и спорта, а о необычайности, своеобразии, неповторимости искусства цирка.
Что ни говори, при всей схожести спорт и цирк – явления разного порядка. Об этом часто забывают. Впрочем, кто бы и где бы ни вел этот спор, всегда один является сторонником спорта, а другой – цирковых артистов. Вот и назовем наших спорщиков Спортсменом и Артистом, объявим антракт в нашем представлении и разберемся в проблеме.
– Антракт!
Спор в антракте
Спортсмен. Что ни говори, цирк – это профессиональная разновидность спорта. Так называемые трюки не что иное, как спортивные упражнения. Да и большинство цирковых артистов – бывшие спортсмены, добившиеся в свое время разрядов, а то и званий мастеров спорта. Одним словом, цирк вышел из спорта.
Артист. Именно вышел. Но, выйдя, он ушел от спорта довольно далеко.
Спортсмен. Не так уж далеко. А если далеко, то не в ту сторону. Есть в цирке, например, такой артист, который мог бы сделать на сход с проволоки двойное заднее сальто-мортале, как это делала, завоевывая первенство на Олимпиаде, юная Марина Филатова, заканчивая упражнение на спортивном бревне?
Артист. Такого нет. Но не забывай, что опилки манежа или же модное сегодня резиновое покрытие глушат прыжки, тогда как маты гимнастического зала дают спортсмену дополнительный заряд энергии. Вот сделал Владимир Максимов прыжковую дорожку из лыж, этакий пружинящий трамплин на весь диаметр манежа, сразу же возросла высота и красота прыжков всех участников «Черемоша».
Спортсмен. Вот об этом я и толкую. Цирк живет не только за счет приходящих в него из спорта исполнителей, но и заимствуя оборудование гимнастического зала, его снаряды. Брусья, турник, батут – ведь все это спорт. Спорт – это и велосипеды, и мотоциклы, и гимнастические кольца, и ролики, и коньки. Что без всего этого остается от цирка? Одни фокусы.
Артист. Здесь ты прав, фокусы. Конечно, если под фокусами понимать способность выдавать одно за другое. Обманывать ожидание. Выходит, например, акробатическая пара, он и она. Чего ждет зритель? Конечно, что женщина будет работать верхней. Ан нет, мужчина берет и делает стойку на одной руке на голове партнерши. Или, скажем, в аттракционе Виктора Петровича Тихонова «Бенгальские тигры» самый свирепый из тигров отказывается покинуть манеж. Чего ждет зритель? Ударов бича, пущенных в ход вил, может быть, даже пальбы. И опять его, зрителя, ошарашивают неожиданностью: выскакивают пять крошечных болонок, с визгом бросаются на тигра и тот, поджав хвост, убегает из клетки.
Спортсмен. Что да, то да. Этими фокусами цирк силен.
Артист. Не только этими. Разве не фокус, что из‐за распахнувшегося занавеса на манеж выходят люди-герои, наделенные телесной красотой, физической силой и тем обаянием, которое всегда присуще представителям редких и опасных профессий. И каждый их трюк, даже жест, воспринимается зрительным залом как художественное откровение.
Спортсмен. Верно. Но верно и для спорта. Что там цирк с его тысячей, ну, двумя с половиной тысячами зрителей? Весь 20‐ты-сячный стадион встает навстречу своим любимцам. Чемпионов знают по именам, в лицо, по рекордам, даже по их привязанностям. Говорят, что искусство превращает зрителей из созерцателей в соучастников. А удачно забитый гол?.. А заброшенная в блестящей комбинации шайба?..
Артист. Этак мы ни до чего не договоримся. Я зрелищности спорта не отрицаю. И силы его эмоционального воздействия тоже. Речь о другом. Не о том, что роднит спорт и цирк. О том, в чем их разительное отличие.
Спортсмен. Ну, здесь и думать не надо. Спорт – это спор, состязание.
Артист. Вот-вот. А цирк – это демонстрация мастерства…
Спортсмен. Как на показательных выступлениях.
Артист. Не совсем так. Спортсмен – даже при исполнении показательной программы – стремится блеснуть своим исключительным спортивным мастерством. Для артиста цирка выступление с тем или иным трюком, другими словами, в той или иной области спортивного мастерства – азы его искусства, приготовительный класс, школа. Артистом он становится, когда использует свое блестящее спортивное, скажем лучше – техническое мастерство для создания определенного сценического действия, образа.
Спортсмен. Что‐то сложно и темно.
Артист. Могу просветлить. Для спортсмена важен сам факт выполнения упражнения. Он, если воспользоваться терминологией Станиславского, выходит на помост, к спортивному снаряду «от себя». Артист же стремится, чтобы все трюки, которые он демонстрирует, слагались в единое пластическое действие, чтобы действенной пластике соответствовала пластика звучащая – музыка, чтобы, сливаясь в одно целое, они получали подкрепление в линии и цвете костюма и – все вместе – работали на становление цельного синтетического образа. Взаимодействие пластической направленности действий (трюков), размера музыкального сопровождения (заданность темпоритма исполнения трюков) и решение внешнего оформления (костюмы, реквизит) приводит к тому, что и внешний облик артиста, и его внутренняя сущность несколько меняются по сравнению с присущим ему жизненным существованием, и способствуют возникновению определенного циркового сценического – точнее, манежного – образа. Все существо артиста, – ведь выполнение трюка требует полного слияния физических и духовных сил, – воспринимается зрителем именно через выполнение трюковой комбинации. Понятно я говорю?
Спортсмен. Да, конечно. Все это известно и в спорте – скажем, по художественной гимнастике.
Артист. Согласен. Именно за стремление к созданию некоего образного начала эта область спорта и названа – художественной.
Спортсмен. Стоп. А что ты скажешь вот о таком рассуждении? «Как спортсмена меня беспокоит отсутствие артистичности, “культуры выступления” у некоторых атлетов. Нельзя ни на минуту забывать, что ты на глазах у публики. А как держат себя иные чемпионы? То он повернулся спиной, то сплюнул, то от него летит в разные стороны магнезия. И уже совсем возмутительно, если атлет выглядит неаккуратным, нестриженым». – Учти, это пишет не Лариса Латынина о своих воспитанницах. Это пишет олимпиец Юрий Власов, штангист. – «Выступление на публике должно накладывать и в этом плане определенную ответственность. На фоне блестящего мастерства спортсмена еще явственнее заметны отталкивающие манеры. К сожалению, многие совершенно не обращают на это внимание»[2]. Как видишь, внешняя артистичность заботит сегодня и спортсмена.
Артист. Я не отрицаю зрелищности спорта. Если желаешь, продолжу твою мысль ссылкой на другое высказывание. «Флаги тридцати трех стран словно спорят в цветастости с трибунами. Мягкий желтый цвет эстрады и самого помоста, красные и голубые резиновые ободья на блинах штанги. Право, праздник красок! – цитирую репортаж «Известий» о чемпионате мира по тяжелой атлетике 1975 г.: – Свет и цвет сегодня играют не последнюю роль в спорте. Как уверяют специалисты, зеленый цвет успокаивает, красный возбуждает (помните, ободья на дисках), черный угнетает, желтый (цвет сцены и помоста) действует подбадривающе. Выходит дело, свет может быть и союзником спортсменов, судей, зрителей, и их врагом… Так что, считая сегодня в спорте граммы и килограммы, секунды, их десятые и тысячные доли, оказывается, нельзя забывать и о подборе правильной цветовой гаммы для спортивных соревнований»[3].
Спортсмен. Вот видишь, ты сам соглашаешься со мной, что спорт и цирк – близнецы-братья. Только живут они в разных домах. Один – на цирковом манеже. Другой – на стадионе, на спортивной арене. И «материал творчества» у них один – само тело, и цель одна – утверждение бесконечных возможностей человека к физическому и духовному совершенствованию, да и средствами они пользуются одними и теми же.
Артист. Вот тут ты ошибаешься. То, что для спорта занимательное украшение, в цирке – основополагающий элемент создания номера. На чемпионатах мира по фигурному катанию и танцам на льду, например, некоторые пары при показательных выступлениях добавляют к своим костюмам детали, отвечающие национальному характеру музыкального сопровождения. Изменился ли от этого сам характер танца? Нет. Просто подчеркнута была его зрелищность. Красивее, приятнее для глаза? Конечно. Но изменился ли от этого переодевания характер выступления? Разумеется, нет.
Спортсмен. С этим я не спорю. В спорте действительно важно само упражнение, класс его исполнения, а не цвет костюма…
Артист. Важна сложность трюковой комбинации, а не артистически разработанные взаимоотношения партнеров.
Спортсмен. Это точно, без спортивного упражнения спорта нет.
Артист. И цирка нет без трюка. Но цирк требует артистического оправдания этого трюка, логического обоснования чередования трюков. Трюковая комбинация на манеже поднимается до уровня цирковой драматургии.
Спортсмен. Не спорю и с этим. Хотя в некоторых своих разновидностях (художественная гимнастика, фигурное катание) и спорт приближается к тому, что ты назвал «трюковой драматургией».
Артист. Вот видишь, значит, разницу между спортом и цирком все‐таки можно обнаружить.
Спортсмен. Выходит, можно. Договоримся о том, что цирк и спорт пользуются одними и теми же упражнениями…
Артист. Трюками.
Спортсмен. У вас они становятся трюками. Для нас они спортивные упражнения. Цирк и спорт пользуются одними и теми же средствами для достижения различных целей? Так?
Артист. Конечно, так. Ведь спортивные упражнения лишь одно из средств художественного воздействия на зрителя, которым – наряду с целым рядом других – пользуется своеобразное искусство цирка.
Зрелище необычайнейшее
(2‐е отделение)
Слово снова берет автор.
Запомним это утверждение: цирк – ИСКУССТВО. Когда его произносят, то подразумевают воздействие на зрителей определенной системы художественных образов. В нашем случае – образов сценических. Точнее – манежных. Но проследим дальше за течением цирковой программы. Ведь спортивно-акробатические жанры охватывают большую, но далеко не всю часть любого представления цирка.
Шпрехшталмейстер, появившись перед занавесом, провозглашает:
– Второе отделение нашей программы открывают…
Жонглеры умеют сообщать воздушную легкость любому предмету, попавшему к ним в руки, – шляпе, коробке спичек, мячу, кольцам, булавам, даже, если надо, столику, чашкам, самовару, а то и носовому платку. Если в руках артиста летают гири или металлические литые ядра, то он уже именуется крафт-жонглер.
Иллюзионисты достаточно известны своим искусством, чтобы их стоило представлять подробно. Не будем забывать только, что этот жанр объединяет манипуляторов, работающих, как правило, с мелкими предметами (шарики, карты, папиросы и пр.) и рассчитывающих исключительно на ловкость своих тренированных рук, и собственно иллюзионистов, которые используют для фокусов предпочтительно крупную аппаратуру.
– Весь вечер на манеже…
Все в цирке необычно. Но, пожалуй, самое необычное – это клоуны. И прежде всего коверные клоуны.
Они еще не появляются из‐за занавеса, а то и из зала, но уже все зрители, сколько их ни есть в цирке, от мала до велика, узнают в предвкушении радостной встречи своих любимцев, услышав их выходной клич, своеобразную визитную карточку коверного клоуна:
– А вот и я!
Это Карандаш…
– Ой! Дари-дари-дарам!
Это Борис Вяткин…
– Ой-ёй-ё-ёй!
Это Евгений Майхровский, клоун Май…
– А-ле-ле-ли-лю!
Котов…
Коверными эти клоуны именуются потому, что, заполняя паузы между номерами, работают у ковра. Но роль коверных в цирковом представлении куда обширнее и сложнее. Они при кажущейся неумелости могут все – и поднести танцовщице на проволоке веер, и подняться на мостик воздушного полета, и пройтись с балансиром по канату, и чего только они не умеют!.. Нет такого номера и такого жанра, в который не мог бы войти талантливый коверный. И войти так вовремя и в то же время так вроде бы «некстати», что и артисту даст возможность передохнуть, и весь амфитеатр заставит покатиться со смеху.
Когда клоуны разыгрывают большие самостоятельные комические сценки, так называемые антре, равные по времени исполнения целому номеру, этих артистов именуют уже разговорные клоуны.
Одно из важных выразительных средств клоуна – музыка. Она нередко акцентирует каждое его движение, задает ритм выступлениям, создает нужное настроение в зале. Но иногда клоун берет музыку, так сказать, в свои руки. Он начинает извлекать звуки, и не просто звуки, а согласованные, целые складные мелодии из пилы, поленницы дров, автомобильных клаксонов, велосипедных звонков, из бутылок различных размеров и содержания – словом, из самых невероятных предметов. Если же клоун играет на обыкновенном «человеческом» инструменте, то играет так, как никому в жизни и в голову не придет: встав вверх ногами или забравшись на плечи партнера, завязавшись узлом или жонглируя этим самым музыкальным инструментом – словом, неожиданно, почудно.
Этих клоунов, заставляющих зрителей смеяться над самим фактом исполнения музыки, так и называют – музыкальные клоуны, или чаще – музыкальные эксцентрики.
Человек всегда любил и любит находить сходство со своими знакомыми (реже с собой) в окружающей его природе, и прежде всего у животных. Клоуны сегодняшнего цирка, как когда‐то их далекие предшественники – бродячие шуты-скоморохи, не могли, разумеется, пройти мимо этого «проецирования» человеческих поступков на поведение животных (или наоборот). Во все времена клоуны-дрессировщики – желанные гости любой цирковой программы.
Но говорить о них нужно, обратившись к другому популярному жанру цирка – дрессуре.
Нет таких животных, которых нельзя было бы приручить и научить тому или иному трюку. Все дело в настойчивости дрессировщика, в его умении подсмотреть у животного, воспитать у него нужное движение или сочетание движений. Выдрессировать можно любого зверя, любую птицу, рыбу. Даже насекомых.
Еще в начале XX века на ярмарках подвязались распространенные и популярные когда‐то блошиные цирки. От того, с какими животными работает артист, зависит и то, как представляют его зрителю.
Укротители – это те, кто подчиняет своей воле наиболее крупных хищных животных: тигров, львов, леопардов, пантер, ягуаров, рысей – словом, всех кошачьих. Сюда же могут быть отнесены волки, их родственники шакалы и гиены. И носорог, который совсем недавно, покоренный настойчивостью и умением человека, вышел на цирковой манеж.
Артистов, выступающих со всеми другими животными, именуют дрессировщиками.
Деление это традиционное, хотя и довольно условное. Ведь понятие «дрессировщик» подразумевает работу, скажем, и с белыми медведями, и с голубями. Но если безобидных голубей гоняет в детстве каждый третий зритель цирка, то белые медведи – самые, пожалуй, ненадежные и коварные из живущих на земле животных – требуют от дрессировщика редкой выдержки и мгновенной реакции на все возможные неожиданности.
Дрессировщиками также именуют и артистов, выводящих конюшни.
На лошадях исполняют большое количество номеров. Все они объединяются понятием конный цирк.
Во времена зарождения весь цирк существовал именно как единый конный цирк. Со временем артисты сошли со спин лошадей на манеж, создали и развили обособленные жанры.
Своеобразию их построения и будут посвящены наши беседы. Ведь это был качественно новый скачок в развитии циркового искусства. Его результаты не замедлили сказаться.
Номеров стало больше. Представления – разнообразнее. Трюки – уникальнее.
Об этом и пойдет речь.
Точка опоры
Великое множество жанров цирка – верная гарантия невообразимого разнообразия номеров, составляющих любое цирковое представление. Праздник цирка нескончаемо разнолик. И эта его множественность ошеломляет настолько, что подчас способна привести к недоуменному раздумью о невозможности существования хоть чего‐то единого, общего для всех жанров цирка, той точки опоры, вокруг которой вращается все цирковое искусство.
Действительно, что, кажется, может быть общего между неторопливым бегемотом, под каждым шагом которого словно оседает весь манеж, и изящной гимнасткой, порхающей с трапеции на трапецию где‐то под самым куполом? Между клоуном, готовящим яичницу в шляпе, и тигром, прыгающим в огненное кольцо? Между джигитом, пролезающим под брюхом мчащейся вдоль барьера лошади, и петухом, клюющим пищу из миски сидящей подле него лисицы? Даже между мелькающими обручами, подбрасываемыми почти невидимыми руками жонглера, и торпедой, которую ловит на шею атлет?
И все же это общее есть. Его нетрудно обнаружить, приглядевшись к цирковым номерам внимательнее. Общее в том, что и полет гимнастки, и прыжок тигра, и жонглирование, и шуточный фокус клоуна – типично цирковые действия, трюки.
Трюк как определяющее действие циркового искусства впервые теоретически рассмотрел известный исследователь цирка Е. М. Кузнецов.
«Цирковой трюк, – писал он, – представляет собой отдельный законченный фрагмент любого циркового номера, хотя бы самый обыкновенный по технике и кратковременный по выполнению, но вполне самостоятельный и в себе замкнутый, и является простейшим возбудителем реакции, действующим на зрителя таким реально выполняемым разрешением задания, которое лежит вне обычного круга представлений и в этом кругу кажется неразрушимым»[4].
Именно трюк служит той точкой опоры, которая держит все цирковое искусство. Специальной литературы по цирку издано не так уж много, если сравнивать с опубликованными трудами по истории и практике театра, например. Но любознательный читатель без труда сможет разыскать на библиотечной полке или в Интернете пособия, которые помогут ему в практическом овладении трюками почти всех цирковых жанров. И тут‐то мало-мальски внимательный человек без усилий заметит, что количество трюков, составляющих любой цирковой жанр, – еще один парадокс цирка! – крайне ограничено.
Естественно, возникает вопрос, каким образом при этом номера даже одного жанра выглядят на манеже такими разнообразными, непохожими один на другой?
Но загадочность этого явления кажущаяся. Ведь всего семь нот звукоряда, всего лишь семь основных цветов служат основой бесконечных тональных сочетаний любого музыкального и живописного произведения. Точно так же можно утверждать, что и в цирке основой построения любого номера служит сочетание трюков, иными словами, трюковые комбинации.
Само собой, напрашивается вывод, что основа построения циркового номера заключается в отборе трюков и их композиционном соединении.
Композиция номера – это, прежде всего, распределение трюков.
Традиционным цирковым ходом является откровенное чередование трюков по возрастающей профессиональной трудности. Подобное построение номера вполне разумно.
Возрастающая сложность трюков подразумевает возрастающий интерес зрительного зала к номеру. И тогда на да капо, на повторный вызов, исполнение рекордного трюка достойно венчает здание композиционного построения номера. А так как последнее впечатление самое сильное – простите за невольный парадокс, – то артисты покидают манеж, запечатлев свой образ в душе зрителя именно в момент исполнения последнего рекордного трюка.
К сожалению, искусство цирка довольно коварно. При всей открытости оно таит от зрителя многое. Иногда слишком многое. Профессиональная неподготовленность часто вредит при восприятии музыкального произведения, живописной картины, скульптурного изображения. Вредит она и в цирке. Номер, поражающий сложностью исполняемых трюков профессионалов, у зрителей может встретить прохладный прием. Скажем, школьно и тактично работали корде-парель Елена и Зинаида Шевченко. Начинался номер с подъема на закидках. Взявшись рукой за канат, девушка предносом[5] поднимала ноги вверх и, вывернувшись в плече, забрасывала корпус за руку. Свободной рукой она бралась за канат и снова совершала перечисленные действия.
Так, меняя руки, девушка поднималась на высоту 4–5 м.
Трюк этот требует не столько выучки, сколько физической силы. Трюк, как говорится, сильный. Но воспринимает его зритель равнодушно, как должное. Зато простенький флажок-оттяжку с ногою, заложенной в петле, зал встречает восторженными аплодисментами. Эффектность позы заслоняет сложность трюка.
Такая несправедливость зрительской оценки в цирке – увы! – не редкость. Этим, а также возросшим с начала 1920-х гг. вниманием к изобразительной стороне номера обусловлено появление нового приема распределения трюков в цирке – чередование трюков по возрастающей зрелищной занимательности. Номер стал выправляться на оселке не профессиональной трудности, но зрительского интереса.
Не менее важное значение, чем распределение трюков, имеет для композиции номера соединение трюков.
Наиболее древней является связь через паузу-отдых. Этот прием откровенно заявляет о самостоятельной ценности трюка и, по сути, именно к исполнению трюка и сводит все задачи цирка.
Но цирк как вид искусства не может игнорировать важности актерского отношения к трюку. Другими словами, связь через игровую паузу.
Прервем наши рассуждения. Обратимся к практике цирка.
Цирковые номера, лучшие из них во всяком случае, отличаются редкой живучестью. В цирке номер, как правило, живет десятилетиями. И показывают его зрителю ежедневно. Разумеется, номер меняется. И в анализе этих изменений легче будет уловить те закономерности, которые формируют и определяют суть номера цирка.
Разговор с Владимиром Довейко
Владимир Владимирович Довейко. Прославленный прыгун с мировой известностью. Народный артист СССР. Единственный в цирке, кто был удостоен этого высокого звания в жанре прыжковой акробатики, и каждый вечер, выходя на манеж, доказывал, что он достоин этого звания (тройное сальто-мортале с пируэтом с подкидной доски – заветная мечта многих артистов). В 1947 году он стал руководителем и солистом лучшего отечественного номера акробатов-прыгунов. В 1975 году Довейко – руководитель и ведущий солист лучшего советского и мирового акробатического ансамбля. Почти 30 лет – срок рекордный даже для цирка. Здесь вернее всего искать разгадку тайны циркового номера. Воспользуемся этой возможностью.
Максимилиан Немчинский. Владимир Владимирович, первый номер акробатов-прыгунов с подкидной доской, который ты возглавил, состоял всего из четырех человек. Сегодня в ансамбле – 12 исполнителей. Скажи, чем вызвано такое численное изменение труппы – твоим возросшим мастерством руководителя или желанием создать более масштабный номер?
Владимир Довейко. Ни тем, ни другим. Численность труппы определяется характером трюков. Например, один прыгает, второй отбивает доску, двое пассируют[6] – вот уже в номере и не может быть меньше четырех человек. Возьмем такой трюк как перш. Один держит перш, второй стоит на перше, девушка идет к нему в руки третьей, два отбивают – пять человек. И обязательно четверо пассируют. Итого, девять человек. Когда стоит колонна из трех и четвертый идет к ним в плечи двойным сальто-мортале, отбивать доску должны опять‐таки двое и четверо – пассировать, – значит, уже 10 человек. Кроме того, раз номер состоит из таких грандиозных трюков, то и концовка должна быть массовой, грандиозной, как апофеоз всего номера. Поэтому заканчивать номер просто трюком, даже колоссальным, потрясающим трюком – сальто-мортале с двойным пируэтом на одной ходуле или полетом девушки бланшем на высоту чёрт знает какую, на перш ростом в пять человек, просто невозможно. Ведь тогда вся группа оказывается вроде бы ни к чему. Поэтому сам трюк диктует и характер финала – огненное, темпераментное, массовое шари-вари[7] всех участников номера. Грандиозный финал в мелькающем свете стробоскопа.
М. Н. Если я верно тебя понял, количество участников номера и трюки, которые они исполняют, диалектически связаны между собой. С одной стороны, конкретный трюк диктует присутствие на манеже определенного количества артистов, с другой – наличие некоторого числа участников требует включения в номер таких трюков, при которых именно это количество исполнителей было бы технически необходимо и художественно оправдано. Так?
В. Д. Верно. Трюк, если можно так выразиться, диктует не только привлечение в номер того или иного количества участников, но и разумное, наиболее эффектное их, этих артистов, использование. Другими словами, трюк предопределяет композицию номера. Например, я отошел в последнем варианте номера от партерных прыжков. Почему? Потому, что в спорте сейчас придумали трамплинную лыжную дорожку. Это изобретение, безусловно, сильно двинуло вперед прыжковую акробатику в спорте. Стали эту дорожку применять и в цирке…
М. Н. Владимир Максимов в «Черемоше»…
В. Д. Не только он. Уже многие. Была она и у меня. Но я очень быстро от нее отказался. Дорожка эта мне мешала делать грандиозные, космические, как я их называю, прыжки в высоту. Нет слов, лучше летать наверх, лучше свое, цирковое показывать, чем то, что уже где‐то ассоциируется со спортом. Я эту дорожку убрал и все партерные прыжки убрал. Оставил только чисто цирковые, по кругу, прыжки. По кругу – флик-фляки, за ними по кругу арабские, вместе с тем и на месте множество арабских, флик-фляков, колесиков. И все это, как я уже говорил, – под мигание стробоскопа, которое словно разлагает прыжок на его составные элементы. В этих, как бы остановившихся движениях, в трюках, производящих впечатление снятых рапидом, есть, мне кажется, современность, угадывается намек на полеты к другим планетам, на наш век с его теснейшим соединением достижений техники и мысли человеческой, его физических данных, готовность к полетам в космос. Мне кажется, что все эти мысли воплотились в групповом финале номера так, как это надо в цирке, – красочный апофеоз, эмоциональный взрыв, фейерверк! Именно такой финал соответствует основе номера – «космическим» прыжкам в высоту.
М. Н. Значит, ты считаешь, что цирковой трюк – это основной организатор номера, его участников, его композиции?
В. Д. Это не я считаю. Это практика цирка утверждает.
М. Н. Следовательно, если продолжить твои рассуждения, можно провозгласить трюк главным организатором циркового номера?
В. Д. Нет, ни в коем случае. Выразителем – да. Главным средством воздействия на зрителя – безусловно. Но организатором номера цирка, как и любого другого произведения искусства, мне кажется, является утверждение той или иной идеи. Она утверждается средствами циркового искусства, то есть прежде всего трюками, но важно знать – и помнить, – что трюк в цирке не самоцель, а средство общения с партнером и со зрителем.
М. Н. Означают ли твои слова, что ты сторонник так называемого сюжетного номера, который выстраивается как игровая сценка?
В. Д. Вовсе нет. Мне представляется неверной любая попытка ограничивать строгими установлениями, пусть даже самыми убедительными, попытку самостоятельно найти форму любого произведения искусства, а уж такого разнопланового, как цирковое, тем более…
Расскажу, для примера, каким родился первый номер, который я возглавил, вернувшись в цирк после окончания Великой Отечественной войны.
Раздавался «Марш энтузиастов», и под него шпрехшталмейстер объявлял, что сейчас выступят Довейко, Россини и Мамедов, участники Великой Отечественной войны, они бомбили Берлин, они взяли Берлин и вернулись, награжденные орденами и медалями. И на сцене появлялись мы с Гогой Россини, оба в спортивных костюмах, в рубашках с короткими рукавами и коротких штанишках. В руках у нас был волейбольный мяч.
Из главного прохода выходил мальчик (Коля Ивакин был такой щуплый и низкорослый, что ему с манежа нельзя было тогда дать больше 12 лет). Мальчик тащил за руку фотокорреспондента (Мамедов изображал несколько шаржированного корреспондента тех лет – клетчатые гольфы, сверкающий фотоаппарат и т. п.). Манеж был оформлен как уголок сквера в виде спортивной площадки с клумбой, скамейкой и тумбой. Вот туда, на спортивную площадку, мальчик и вел за собой отца.
Мы с Гогой, перебрасывая волейбольный мяч, случайно упускали его из рук, и он попадал в голову фотокорреспондента. Тот падал, делая каскад. Мы быстро сбегали по боковым лестницам на манеж и прыгали с барьера по сальто-мортале. К нам тут же подходил мальчик и просил показать, что мы еще умеем. Мальчик вроде бы тоже хотел стать спортсменом. Мы, конечно, не отказывали и тут же начинали делать всякие комбинации – двойной пируэт, два с половиной пируэта, двойной задний… А мальчик просил еще и еще… Мы без отказа – на, смотри на любые двойные сальто-мортале. И мальчик начинал прыгать вместе с нами.
После этого шла игровая пауза. Мы вроде бы уставали и садились отдохнуть на скамейку. А корреспондент пристраивался нас сфотографировать. Но когда он хотел уже сделать снимок, скамейка превращалась в подкидную доску, и мы все скатывались на манеж.
Следующая часть номера шла как игра с подкидной доской. Мы, спортсмены, присаживались на одну сторону доски, а корреспондент, желая сфотографировать нас, бежал к другой. Он напрыгивал на поднятый край доски вместе с мальчиком, и мы с Гогой шли в прыжки. Потом я стоял на тумбе, а корреспондент пристраивался с аппаратом внизу. Я прыгал на доску, и Мамедов, отбросив фотоаппарат в сторону, крутил с доски каскадный прыжок, просто так, дрыгая ногами в воздухе. После этого комического начала шли разные фигурные красивые двойные сальто-мортале. И как завершение этой комбинации без музыки исполнялось мое тройное сальто-мортале с подкидной доски на землю.
Затем у нас следовали прыжки в партере. Прыгали все. И мы с Россини, и мальчик, и сам корреспондент – всем на удивление. Последним шел я по кругу сальто-мортале с пируэтами.
Когда я заканчивал второй круг, униформа уже устанавливала у артистического прохода доску и тумбу. Я прямо с комплимента, не давая стихнуть аплодисментам, забегал на тумбу.
– Приготовились!.. Внимание!.. – говорил Буше (помнишь этого самого знаменитого шпрехшталмейстера советского цирка?). – Ап!
Я отбивал доску, и Гога Россини летел на сцену в плечи Мамедову (7 метров 15 сантиметров! Мы тщательно выверили этот рекорд по высоте. Заметь, прыжок шел без лонжи).
Россини приходил «в плечи» Мамедову, мы с Ивакиным быстро взбирались к ним наверх, на сцену, и там все вместе делали финальный комплимент спортивного плана.
М. Н. Типичный сюжетный номер.
В. Д. Правильно, я и не спорю. Но заметь, что в те времена сюжетных номеров в жанре прыжковой акробатики практически не было.
М. Н. Что же тебя заставило сделать номер именно таким? Ты сможешь это припомнить?
В. Д. Еще бы, конечно, смогу. Но однозначно тут не ответишь. Прежде всего люди, которые стали участниками номера. Мамедов, Гога Россини, я – взрослые, повидавшие жизнь парни, и Коля Ивакин – совсем мальчик не только по возрасту, но и по виду.
М. Н. Участие детей в номерах – старинная традиция цирка. Очевидно, не это было решающим в твоем постановочном решении.
В. Д. Разумеется, нет. Но и это тоже. Ведь возможности партнеров определяют характер номера. Что же касается рождения замысла номера, то я, как каждый артист, стремился к своему, оригинальному… Ты же помнишь труппы акробатов-прыгунов первых послевоенных лет – большие группы, обязательные шаровары как традиционная «акробатическая» одежда, лихое гиканье при прыжках… Я решил создать номер во всем отличный от существующих. Даже в костюме. Ведь это я придумал тогда коротенькие штанишки типа теперешних шорт, в которых до сих пор выступают акробаты-прыгуны цирка. Мне казалось, что такая одежда лучше подчеркнет мускулатуру артиста и тем самым поможет ему создать более ярко выраженный художественный образ. Но это так, к слову. Что же касается номера, то, мне казалось, сочетание светлого спортивного начала и добродушного юмора полностью соответствовало тогдашнему настроению – и моему, только что демобилизовавшегося боевого летчика, прошедшего через войну, и всего народа нашего, нашего зрителя, с облегчением вступившего в мирную жизнь. На том этапе именно такой номер и должен был быть создан. Чистая случайность, что первым это сделал я.
Шли годы. Менялись вкусы. Менялся состав моих партнеров. Менялся, разумеется, и номер. Совсем иные мысли волновали меня. Совсем иначе складывался и образ номера. Было создано несколько вариантов. Но я хочу рассказать о последнем. Он называется «Романтика». Акробатический ансамбль «Романтика».
М. Н. Почему «Романтика»?
В. Д. Сейчас объясню. Начались космические полеты. Человек не только оторвался от земли. Он покинул Землю, охватил ее всю разом взглядом и – полюбил еще сильнее. Вот эти два вроде бы взаимоисключающие чувства – любви к Земле и любви к полетам – и стали основой нового номера. Стремление к мечте, осуществление мечты, мечта, становящаяся былью, действительностью, – ведь в этом суть и нашей жизни, и нашей цирковой работы. Все мы романтики в цирке. Я ввел в номер девушку. Все удивлялись – девушка у Довейко? Как? Почему? Зачем? А затем, чтобы попробовать по‐цирковому отразить суть нашей эпохи – любовь к Земле, к девушке, к жизни и стремление к грандиозным полетам (поэтому трюковой упор номера я и делал на прыжках на перши и на ходулях) – вот это проявление романтики!.. Такую мысль я постарался воплотить не только в трюках, но и в композиции номера.
Темнота. Песня о цирковой романтике. И шпрехшталмейстер говорит о том, как в заграничных гастролях оценивалась работа труппы, о том, что газеты ФРГ писали о нас, как о «космических прыгунах», в США – «фантастических акробатах», в Японии – о «тайфуне», в Румынии назвали «летающими волшебниками».
Сразу же за этим прожектора высвечивали три точки на манеже. В центре у форганга я читал стихи о цирковой романтике. По барьерам, справа и слева от меня, в скульптурных позах (я их называю «группы тематических скульптур») стояли, замерев, участники номера. Каждую строфу ребята быстро меняли позы, всякий раз принимая такую, которая изобразительно отвечала звучащей в стихах мысли.
После этого тут же зажигался полный свет и шел бешеный темп. Завязка, фейерверк! Двойное сальто-мортале на колонну из трех! Сальто-мортале бланш по параболе через весь манеж на двухметровых ходулях! Сальто-мортале в плечи партнера на ходулях!
За сольными прыжками шла вольтижная работа девушки – две комбинации. И решены они не просто трюково, здесь, как и во всем номере, разработана и игровая сторона – все ребята как бы стремятся помочь девушке, подбросить ее, поймать, спассировать, быть в трюке рядом с ней.
И опять смена ритма. Перши. 4,5-метровый перш. Нижний держит его на плечах, на перше стоит верхний партнер, и на всю эту высоту идет парень двойным сальто-мортале, а за ним красивым сальто-мортале бланшем девушка. Кресло на высоком перше. Тройным сальто-мортале приходит в него парень! За ним следом девушка. И не как‐нибудь – двойным сальто-мортале (до Иры Мосиной трюк этот считали исключительно мужским). Мой тройной с пируэтом на манеж – иду в него легко и чисто. И наконец, Володя, сын, на одной ходуле, уже победив самого себя, новый мировой рекорд – сальто-мортале с двумя пируэтами.
Казалось, на этом можно и кончить. Но нет. Сильные сольные прыжки требуют массового финала. И все партнеры идут в прыжки, но не по пи`сте[8], не выбегая из форганга, а на месте, по всему манежу. И все это, как я уже говорил, под мелькание стробоскопа, которое придает цирковым прыжкам загадочную, неземную прерывистость, замедленность, как бы невесомость.
И комплименты. Замедленные, по сравнению с финалом, величественные. И здесь, заметь, мне удалось найти новый ход вместо обычных трафаретных одинаковых поз для всех с обязательно поднятой рукой.
Все мы шли в несколько рядов от шпрехшталмейстера к главному проходу свободным, как бы скользящим шагом и вдруг, по музыкальной фразе, все разом опускались на одно колено, склонив голову. Если объяснить такой ход словами, то хотелось передать следующее – мы гордимся своей работой и благодарны вам, зрителям, за ваши горячие аплодисменты, за то, что вы поняли, насколько сложны те трюки, которые мы дарили вам, насколько мы хотели доставить вам радость своим мастерством. После этого мы поднимались с колена. И стояли так, я с девушкой посередине, каждый в своей индивидуальной позе, выражающей его характер. (Хотелось, чтобы зритель понял это так – мы цельный, единый коллектив, но каждый из нас – своеобразная, не схожая ни с кем личность.) И самый уход – уже наша непосредственная благодарность зрителю за теплый прием – мы идем вдоль барьера лицом к зрителю и аплодируем ему.
М. Н. В каких костюмах идет этот номер?
В. Д. Костюмы были придуманы, конечно, совсем другие, чем в моем первом варианте номера, да и во всех последующих и не только моих. Хотелось, с одной стороны, создать именно русский, в чем‐то фольклорный костюм, с другой – обязательно цирковой костюм, а с третьей – найти необычное, новое одеяние для акробатов-прыгунов. И художница Марина Ратнер сумела очень точно понять и воплотить мою мысль. У всех белое трико, шнурованные сапожки. У солистов – белые колеты. Участники труппы – в фиолетовых или сиреневых колетах. Девушка одета совершенно отлично ото всех. Ее костюм розового цвета. Колеты расписаны очень интересно найденным русским орнаментом. И от русской одежды взяты большие, ажурные, как бы летящие за тобой рукава. (К слову, когда мы впервые надели эти костюмы, опять посыпались упреки – как можно, на прыгунах и вдруг трико! Куда, мол, лучше и точней шаровары или короткие штанишки – уже и штанишки предлагали! Но мы сумели отстоять наши костюмы.) И этот новый костюм, мне кажется, особо помог нам воплотить тот дух романтики, который соединяет уважение к фольклорным традициям с попыткой по‐цирковому осмыслить сегодняшнюю жизнь в таких ее проявлениях, как полеты в космос. Костюм стал не просто цирковой одеждой. Он отвечает – и подчеркивает – эстетическую и идейную устремленность нашего номера.
М. Н. Это верно. Костюмы эти как‐то удивительно точно соответствуют всему ходу номера. Фейерверку трюков отвечает фейерверк красок. И если первый номер, о котором ты рассказал, своей игровой основой имел конкретный сюжет и жизненные взаимоотношения определенных бытовых типажей (спортсмены – мальчик – фотокорреспондент), то в «Романтике» жизненные бытовые ассоциации выражены не столь определенно и конкретно. Хотя, конечно же, они угадываются зрителем и ненавязчиво, но точно и последовательно играются артистами. При этом трюк, даже рекордный трюк, – не просто трюк, а манежное действие, наполненное определенным актерским отношением.
В. Д. Правильно. Вот это и представляется мне самым важным в цирковом номере. Трюк – не просто спортивное достижение. Трюк – это способ артиста цирка рассказать о своем душевном мире. А уж на какую канву ляжет исполнение трюка, дела не меняет. Это уже дело вкуса артиста или же требование композиции номера.
Точка опоры
(Продолжение)
Физическая природа акробатических и гимнастических трюков прежде всего требует техничности их исполнения. Жонглирование, манипуляция и иллюзия тоже в первооснове своей сводятся к выработке определенных технических навыков, воспитанию легкой и точной руки. Фраза «Ловкость рук и никакого мошенничества» очень образно передает эту особенность циркового мастерства. Также и дрессура – прежде всего долгий и тяжкий труд натаскивания животных на определенные навыки, выработка цепи условных рефлексов. Техничность исполнительского мастерства – основа цирка, его точка опоры.
Но очень часто основа становится сутью, а первоочередное так и остается единственным. Вне трюка цирка действительно нет. Но один лишь трюк не может еще служить знамением циркового искусства. Обезличенный трюк, трюк всего лишь как пресловутое преодоление реальных препятствий, трюк, не одухотворенный отношением артиста, может свидетельствовать о выучке, профессионализме, школьности работы, наконец, но все равно останется лишь демонстрацией владения ремеслом. Стремление исключительно к техническому совершенству трюка в цирке равнозначно стремлению театрального актера к результату. В обоих случаях попытка противопоставить процессу действия заштампованный итог душит творчество в зачатке. Ремесленный трюк влечет за собой и ремесленную паузу. Паузу как перерыв между трюками. Паузу как отключение от действия. Паузу – отдых.
Возвращаясь к анализу композиции циркового номера, утверждаем, что трюк, включенный в манежное действие как его основной элемент, знаменует собой новую эпоху образного оформления номера. Объектом цирка становится уже не трюк, а человек, этот трюк исполняющий. Трюки, естественно переходя один в другой, образуют большие слитные комбинации. Манежное действие при этом развивается уже не как чтение по слогам, а складывается в цельные фразы.
Трюковая комбинация – высшая форма проявления циркового мастерства. Примитивная схема «трюк – пауза – трюк» заменяется в ней таким осмысленным соединением трюков, при котором вершина каждого трюка – момент его завершения – является в то же время исходной точкой начала следующего. Уже не отдельный трюк, а цельные комбинации составляют те звенья, из которых складывается цирковой номер.
Об этом уже говорил выше выдающийся советский прыгун Владимир Довейко. Но обратимся к представителю совсем иного жанра.
Итак – Александр Кисс. «Технически самым сильным жонглером в мире» назвал его известный исследователь циркового мастерства доктор искусствоведения Ю. А. Дмитриев. Это же мнение подтвердили артисты итальянского цирка, вручив Киссу почетный приз имени прославленного жонглера Энрико Растелли. Так же его характеризовали в рецензиях многих газет всех континентов, восторженно приветствовавших выступления блестящего советского жонглера Александра Николаевича Кисса, достойного представителя старейших цирковых династий Киссо-Чинизелли, еще в XIX в. ставших одними из самых последовательных пропагандистов циркового искусства в России.
Вот что пишет Кисс в своей книге «Если ты – жонглер…»: «Групповые жонглеры в партере выступают, как правило, в составе от двух до шести человек. На каждого приходится по три предмета, которыми надо владеть в совершенстве, ибо только при этом условии работа может идти уверенно. В группах встречаются жонглеры высокого класса – на их долю во время общей перекидки приходится по четыре и даже по пять предметов. Нередко они демонстрируют фрагменты сольной работы. Участие способных артистов дает возможность разнообразить перекидки, создавать оригинальный рисунок номера. Но дело, повторяю, не только в этом. Ни для одного из представителей названных выше разновидностей жанра умение бросать и ловить различные предметы не является самоцелью. <…> Весь арсенал выразительных средств, которыми располагает жонглер, может и должен быть подчинен решению определенной смысловой и художественной задачи. Об этом свидетельствуют лучшие работы и Энрико Растелли, и Николая Никитина, и старших мастеров труппы Бор – Кисс (и – добавлю – все те номера, с которыми в течение 35 лет выходил на цирковой манеж сам Александр Кисс. – М. Н.).
Жонглер, если он серьезно относится к своему творчеству, о многом может сказать людям. Мне вспоминается сочный шаржированный образ короля-пьяницы, который был создан в свое время Карлом Реппом (на афишах его именовали Кинг Репп, или Король комических жонглеров). Эксцентрический реквизит номера, эксцентрические приемы, эксцентрический костюм служили единой цели – осмеянию коронованных особ. Рыжебородый король выходил в утрированном монаршем одеянии с короной набекрень, сбрасывал горностаеву мантию и оставался в… пижаме. Изображая пьяного, артист отлично жонглировал скипетром, державой и короной. Больше трех-четырех предметов он не кидал, но владел ими виртуозно, тремя шариками жонглировал в самых необычных и смешных положениях. – И, приведя целый ряд убедительных примеров из репертуара многих жонглеров различных стран, Кисс приходит к закономерному выводу. – Конечно, без мастерства, без профессиональной техники никогда не создать настоящее произведение искусства.
Но трюк, каким бы сложным он ни был, взятый сам по себе, равнозначен, в сущности, рекорду спортсмена. Другими словами, трюк – не самоцель, он является одним из средств художественной выразительности и приобретает значение только в связи с другими компонентами номера, с его содержанием, с идейно-художественной задачей, которую поставил перед собой артист»[9].
Высказывания Александра Кисса, так же как и Владимира Довейко, постоянно возвращаются к утверждению одной и той же мысли – характер циркового номера, к какому бы жанру он ни принадлежал, определяет не только что` артист делает на манеже (трюки, их комбинация), но и как он это делает (актерское отношение к трюку).
Такой подход к цирковому номеру позволяет рассматривать его уже как цельное, самобытное произведение, подчиненное законам, общим для любого пространственно-временного искусства. Разумеется, на манеже цирка эти общие закономерности приобретают определенную своеобразную направленность, вызванную необычным характером основных действий цирка (трюков) и необычной площадкой для показа этих действий (круглый манеж).
Рассмотрим эти определяющие особенности циркового искусства, опору цирка подробнее.
Начало начал
Народный артист СССР Михаил Николаевич Румянцев, более известный как Карандаш, в своей книге «На арене советского цирка» вспоминал: «Народные пословицы и поговорки подсказывали мне немало реприз… В тех же целях я “инсценировал” отдельные ходовые выражения обыденной, повседневной жизни. Так, например, в ответ на вопрос “Как живете, работаете? Как отдохнули, как себя чувствуете?..” – нередко можно услышать: “На большой палец!”, “На большой!” Притом подчас отвечали одним жестом: сжав кисть руки, сильно оттопыривали большой палец, подчеркивая это восклицанием: “Во!” Нередко большой палец прикрывали ладонью левой руки, что означало: “С покрышкой!” Или, потирая кончики трех пальцев левой руки друг о друга, как будто что‐то сыпали на оттопыренный большой палец, что означало: “С присыпкой!” – и должно было выразить особо хорошие обстоятельства. А желая ответить: “Совсем хорошо…” или “Как нельзя лучше…” – показывали большой палец, делали “покрышку” и “присыпку”, причем каждый жест нередко сопровождали соответствующими восклицаниями. Это дало мне повод для репризы, сатирически вышучивающей бахвальство и одновременно высмеивающей вульгарное, пошлое, некультурное выражение.
Я смастерил большой бутафорский палец и после какого‐либо проделанного мной в манеже пустячка, когда я менее всего мог рассчитывать на похвалу, – незаметно, быстро насадив этот бутафорский палец на большой палец правой руки, четко показывал его зрителям, выкрикивая: “Во!” – покрывая бутафорский палец ладонью левой руки и посыпая его при этом опилками, зачерпнутыми пригоршней с манежа»[10].
Замечательный коверный клоун пишет об основном определяющем манежном действии – трюке, начале начал цирка.
Искусство цирка, как и каждое искусство, является отражением действительности, но в приемах и нормах именно этому искусству свойственных.
Цирк в силу своей специфики не способен к бытовой достоверности. Он содержит собственную логику – «алогизм обычному». Алогизм цирковых представлений – это не отказ от действительности, а ее утверждение в специфически цирковой форме. Цирку свойственно выражение обыденного через эксцентрическое его проявление. Разрушение привычных связей и представлений и создание специфических обоснований и закономерностей – закон построения циркового действия, циркового номера.
Своеобразие трюка как специфически циркового действия в том-то и состоит, что трюк не только преодоление реальных препятствий, он в то же время и преодоление бытующего взгляда на решение каждой ситуации. Будь то акробатический прыжок, гимнастическое упражнение или, скажем, несвойственное животному в естественной жизни хождение на задних лапах, не говоря уже о клоунской эксцентрической пантомиме, трюк естественно включает в себя необычность, алогизм. Цирковой трюк, воздействуя на зрителя самим фактом своей реализации, служит построению циркового образа.
При всей многожанровости цирковых номеров манежное действие в каждом из них состоит всего лишь из двух слагаемых и подразделяется на исполнение трюка и паузу между трюками. Степень их сочетания, органика слияния, актерская действенная наполненность каждого звена и регулируют манежную жизнь циркового артиста, формируют манежный образ.
Трюк – азбука цирка, его гаммы. Без виртуозного владения трюком цирк немыслим. Но техника исполнения трюка не исчерпывает возможностей цирка. Более того, именно после овладения трюком и начинается цирковое искусство.
Происходит это потому, что цирковой трюк воспринимается зрителем не сам по себе, а через отношение к нему. Актерское отношение к трюкам формирует его зрительское восприятие. Вместе с тем именно через отношение артиста к исполняемому трюку выявляется определенная система его поведения на манеже, выявляется манежный образ. В этом диалектика циркового трюка – формируя манежный образ, он сам возрождается в нем. Трюк в цирке организует и взаимоотношения партнеров. Но так как партнерами наравне с людьми могут выступать животные, предметы и аппараты, трюк, следовательно, объединяет все слагаемые циркового действия. Это и дает право воспринимать чередование трюковых комбинаций как организацию всей манежной системы отношений циркового артиста, как организацию манежного образа.
Трюк как основное специфическое действие цирка перемежают паузы. В традиционном чистом виде цирковая пауза так и была паузой, отдыхом между трюками. Но если паузу, подобно трюку, проанализировать как элемент логически обоснованный манежной жизни циркового артиста, то уже приходится вести об игре пауз.
Манежное действие при таком же анализе разлагается на подход к трюку, трюк и отход от трюка.
Подход к трюку всегда знаменует в цирке подачу трюка. Самый выигрышный трюк выигрывает вдвойне, если вовремя напомнить о трудностях его выполнения. Благодаря этому пауза может стать действием, не только организующим трюк, но и предопределяющим активность его восприятия зрительным залом. Разнообразное обживание паузы трансформирует сам характер трюка, раскрашивает его многоцветьем пантомимического действия.
Отход от трюка чаще всего принимает вид комплимента. Стилистика комплимента, подчиненная общей эстетичеcкой направленности эпохи, определяется как актерскими возможностями артистов, так и стоящими перед ними постановочными задачами. Комплимент как завершение трюка, его венец, является, по сути, прямым общением со зрительным залом.
Подача трюка и комплимент служат теми действенными прослойками, которые придают цельность как трюковым комбинациям номера, так и всему манежному образу. Игра пауз в условиях цирка равна «зонам молчания» (А. Д. Попов) театра. Если трюк – язык цирка, то именно в паузе артист обретает право на его «произношение». Игра пауз – это логическое обоснование манежной жизни циркового артиста.
Темпоритм, обусловленный необходимостью исполнения трюка, существенно изменяет и индивидуальный темперамент артиста, присущий его жизненному существованию темпоритм. Взаимопроникновение этих двух темпоритмов и рождает тот третий, который пронизывает манежное действие циркового артиста. Именно создание системы манежных отношений, манежного темпоритма приводит циркового артиста к овладению специфической логикой манежного существования. Другими словами, к внутреннему перевоплощению.
Зрелищность цирка обусловливает и определенное внешнее перевоплощение артиста. Будничности цирк всегда противопоставляет яркую эксцентричность своих проявлений, надбытовую праздничность своих артистов. Однако костюм и грим, столь важное звено внешнего перевоплощения в театре, на цирковом манеже имеют значение куда более подчиненное. Характерному изменению внешности цирковые артисты предпочитают изменение характера манежного поведения. Внешнее перевоплощение в цирке – это прежде всего овладение иной, манежной пластикой.
Но пластическая жизнь артиста на манеже не может быть случайной или надуманной, она естественно предваряет трюковые комбинации и сопутствует им. Поэтому‐то игре пауз цирка присуща особая упорядоченная пластика, которая конструктивно сводится к одному из трех возможных пластических решений: комплимент, мимодрама, хореография.
Комплимент, как отмечалось выше, является несомненным отчуждением создаваемого манежного образа. Вместе с тем характер движения трюка предопределяет жест комплимента. Двойная отчужденность – и в системе общения, и в характере совершаемого действия – сообщает пластике комплимента предельную условность. Это скорее не действие, а пластический знак, символ действия.
Цирковой номер при последовательном развитии манежных отношений как цельного действия логически связывает трюк и игру пауз и воспринимается уже как мимодрама, выявление через пластику актера внутренней жизни создаваемого им образа.
Мимодрама может проявляться как пантомима жеста (отношения партнеров в момент подхода к трюку или смене трюков внутри комбинации) или как пантомима тела (отношения партнера, выявляющиеся в смене комбинаций и возможных при этом пространственных переходах).
Кроме того, пластическую жизнь циркового артиста и в общем решении номера и в законченности отдельного жеста организует хореография.
Однако очевидный физический характер цирковой работы не должен обманывать. Своеобразие цирка в том, что через физическое он утверждает нравственное. «Ни одну минуту нельзя сомневаться, что ловкость и сила большинства артистов цирка, доведенная до пределов, сопровождается также изумительного напряжения вниманием, увлекательной отвагой, чертами уже психологическими и при этом чрезвычайно важными»[11].
Редкостная цельность циркового искусства обусловлена единением психофизических данных артиста во всех его внешних и внутренних проявлениях. Формы, которые принимает художественный образ в цирке при манежном воплощении, в равной степени зависят как от индивидуальности артиста, так и от обстоятельств, предлагаемых замыслом номера. Образ, определенно заявленный в начале номера, по большей части уже и остается таким до его окончания. Больше того, смена костюма или введение в номер нового трюка ни в коей мере не означает перемены сути создаваемого образа. Все это заставляет трактовать манежный образ циркового артиста как образ-маску.
Однако, как и в народном театре, маска циркового артиста – это четко обозначенные границы его манежной импровизации. Именно импровизации, так как каждый трюк, при всей своей сделанности и завершенности, многими поколениями артистов проверенной технической обоснованности любого составляющего его элемента, предельно сиюминутен. Но первозданность самого факта исполнения трюка, так же как и весь творческий процесс воплощения манежного образа, четко регулируют правила построения циркового номера.
Поэтому, кроме владения технологией мастерства исполнения конкретного трюка, артист цирка обязан задумываться и о том, чтобы сложность исполнения трюка была понятна не только коллегам, но и неискушенным зрителям. Эта задача входит в процесс подачи трюка, о котором речь шла выше. Этот элемент исполнения трюка артисты между собой энергично именуют «продажей трюка».
Вот как, обстоятельно, подробно разъясняя постановочные задачи и насыщая свой рассказ профессиональной терминологией, описывает этот процесс Е. М. Кузнецов: «…На арену выбегают девять юношей, рослых и стройных, радостных сознанием своей ловкости и силы, мускулистых, обветренных, загорелых, совершенно обнаженных: на них лишь узенькие, телесного тона “плавки” и легкие туфельки, как у пловцов. Что бы они не делали, они выполняют задачу непринужденно весело, вызывая ассоциации с физкультурной молодежью, которая резвится где‐нибудь на пляже, на песчаной отмели у реки, и зритель не сразу замечает, что по технике, по уровню профессионального мастерства, они легко справляются с такими заданиями, которые спортсменам недоступны.
Метод решения общетворческой задачи становится особенно понятным в финале номера Беляковых. Три рослых “спортсмена” стоят на плечах друг у друга, стоят во весь рост, “прямой колонной”, тогда как четвертый “спортсмен”, находясь на “подкидной доске” и получив нужный “посыл”, должен взлететь в воздух, сделать по пути взлета двойное сальто и “прийти” на плечи “верхнего” в колонне (т. е., говоря профессиональным языком, должен сделать “двойное сальто в колонну на третьего”). Рекордный трюк… Тишина… Принимаются предохранительные меры: еще раз проверяются “дистанции”, прыгун опоясывается предохранительно “донжей”, особым пояском, на котором он повиснет в случае просчета, ошибки, неточности. – “Внимание!..” Воцаряется настороженная тишина. – “Ап!..” Тело взлетело, развернулось, мелькнуло в двойном сальто… Сухо скрипнули блоки “лонжи”… Мимо!.. Просчет… Неудача… Повторение трюка – и… снова просчет!.. Внимание напряжено до предела. Степень трудности задачи сделана ясной: она кажется недоступной. И тогда “спортсмен” в последний миг неожиданно отстегивает спасательный поясок, отбрасывает “лонжу” (испуганный режиссер быстро подбегает с целью запретить продолжение номера) – и вот теперь, ничем не “связанный”, ничем не “застрахованный”, акробат-прыгун легко и свободно взлетает на девять-десять метров, мягко, как расправленная пружина, “крутит” двойное сальто, и точно, как вкопанный, “приходит” во весь рост на плечи “верхнего”, т. е. “третьего в колонне”»[12].
Настоящий артист стремится трюк не просто выполнить, но и сыграть.
Взаимопроникновение театра и цирка
С театром, исследованным вдоль и поперек, все представляется ясным и решенным. Там, выходя на сцену, драматическую, оперную или балетную, актер создает образ. Пусть он даже без грима, пусть он не говорит, а поет, пусть речь его не колебание голосовых связок, а пластика тела, сам факт того, что актер воссоздает логику действования вымышленного персонажа, вызывает к жизни инобытие сценического образа.
Язык каждого театрального искусства по‐своему условен и специфичен, но все они объединены тем, что суть их – действие. Сама структура и терминология говорят об этом. Спектакль подразделяется на действия (акты), действия – на явления. Исполнители именуются актерами, т. е. действующими, они и значатся в театральной программе как действующие лица.
Точный отбор действий, строгое соответствие предлагаемым обстоятельствам, жизненная достоверность и душевная наполненность при их воссоздании – залог рождения сценического образа. Так обстоит дело в театре. А в цирке?
Какое изменение претерпевает опрокинутая К. С. Станиславским в театральную практику пушкинская триада (правдоподобие чувств, истина страстей, предлагаемые обстоятельства) на цирковом манеже? Насколько действия, совершаемые в цирке, могут быть соотнесены с действием сценическим? Меняется ли облик и существо циркового артиста во время исполнения номера или же он так и остается на ученической ступени «я в предлагаемых обстоятельствах»? Наконец, ограничиваются ли предлагаемые обстоятельства исключительно жанром номера и реквизитом, с которым артист работает? Иными словами, правомерны ли разговоры о существовании некоего циркового сценического, манежного образа?
Вопрос этот предполагает в первооснове своей восприятие циркового мастерства как самостоятельного вида искусства.
Любое теоретическое рассуждение о цирке может явиться результатом анализа построения номеров не одной или нескольких, а по крайней мере десятков программ. Это связано с практикой постановочной работы в цирке, при которой режиссер-постановщик программы является прежде всего координатором и имеет отношение скорее к украшательской подаче номера, чем к подлинной постановочной работе над ним, которая в основном отдана на откуп самим артистам.
Артист цирка, в отличие от театрального, был (и чего греха таить – в большинстве случаев является и сейчас) един в трех лицах – и автор, и режиссер, и исполнитель. Качество номера, следовательно, зависит не только от его профессионального мастерства, но и от его вкуса, общей культуры.
Особенности производственного пространства, многожанровость, структура представления, действительность реализма, особое, неизвестное никакому другому искусству партнерство, метод обработки действия – вот что обусловливает самобытность циркового искусства. Проанализируем подробнее каждое из перечисленных слагаемых.
Наиболее бросающейся в глаза спецификой цирка можно назвать его многожанровость. Ни одно другое искусство, ни один вид зрелища, за исключением эстрады, не может похвастать таким многообразием жанров, которое объединяет цирковой манеж единым представлением.
Действительно, можно ли представить что‐либо, на первый взгляд более случайное и бессистемное, чем сменяющие друг друга выступления акробатов и гимнастов, жонглеров, эквилибристов, иллюзионистов, дрессировщиков, вело- и мото- номеров и, конечно же, клоунов? В свою очередь, акробатика подразделяется на такие несхожие номера, как акробаты-прыгуны, акробаты на батуте, силовые акробаты, пластические этюды (раньше кратко и образно именовавшиеся каучуком), акробаты в колонне.
Сюда же относятся конно-акробатические жанры – вольтижировка на лошади, гротеск- и парфорс-наездники, жокеи и джигиты.
К гимнастическим воздушным номерам относятся и групповые полеты, и одиночные трапеции, кольца, бамбук, штейн-трапе и корде-парель, корде-волан, лопинг и воздушные рамки, доппель-трапе и вращающиеся аппараты, так называемые вертушки.
Жонглеры могут работать на ковре, но могут быть и жонглерами на лошади и на лестнице, и силовыми жонглерами. Эквилибристы ходят по проволоке и канату, балансируют на лбу или на плече перша, держат на ногах лестницы. Даже дрессура включает в себя работу с голубями и тиграми, с кроликами, со слонами, с носорогами и, конечно же, с лошадьми, без которых до сих пор немыслим цирк вообще.
Точно так же и клоуны могут быть буффонными или музыкальными, мимистами, разговорниками, выходить только на одно антре или, заполняя паузы, «работать у ковра», пародируя номера программы.
Если приглядеться внимательно, то в этой бессмысленной, казалось, мешанине, в этом вавилонском столпотворении людей и жанров, животных и реквизита можно обнаружить определенную систему и понять, что формирование цирковых номеров восходит к трем источникам.
Первым можно считать распад классического конного цирка. Многие его элементы развились в самостоятельные жанры, такие как жонглирование, акробатика, эквилибр. Даже клоуны начинали свою цирковую профессиональную жизнь как акробаты конного цирка.
Как когда‐то конный цирк, сейчас на манеже господствуют спортивно-акробатические жанры. Их популярность способствует развитию физкультурной жизни нашей страны, что, в свою очередь, ведет к обогащению трюкового и исполнительского мастерства цирка. Спорт – второй источник, питающий цирковое искусство. Цирковую атлетику, акробатику и гимнастику постоянно пополняют воспитанники спортивных обществ. Обрели новую жизнь на цирковом манеже и многие спортивно-гимнастические снаряды. Сейчас уже трудно представить себе цирковое представление без турника и батута, без трапеции, колец, параллельных брусьев. Гири, ядра и штанга имеют многовековую цирковую биографию. Завоевывают себе право на жизнь в цирковом искусстве и разновысокие брусья.
Третьим источником формирования цирковых номеров следует признать технику. Столь понятное для любого искусства желание быть созвучным своему времени, в цирке вылилось в пристальное внимание к любым техническим новшествам.
Так, например, изобретение велосипеда и рост его популярности распахнули перед велосипедистами барьер циркового манежа.
Демонстрируемый первоначально в качестве технической новинки, велосипед постепенно приноравливался к цирковым условиям конструктивно (укрепление рамы, уменьшение передачи), трюково (за образец была взята жокейская работа на лошади и высшая школа верховой езды), а затем и образно (разборный велосипед, моноцикл, различно декорированные машины). Велосипед на манеже постепенно из объекта самодемонстрации превратился в средство создания циркового образного зрелища. Появились велосипедные номера, названия которых красноречиво раскрывают их содержание, – «Баскетбол на велосипедах», «Флирт в спортивном магазине» и тому подобное.
Схожий путь на манеж можно проследить у мотоцикла, автомобиля. Было даже время, когда таинственные ящики Кио не выносили или выкатывали, а вывозили в манеж на троллейкарах.
Техника принесла в цирк и такое понятие, как «механический аттракцион». Это и вращающиеся пьедесталы, и движущаяся проволока, и всевозможные поднимающиеся аппараты, и бесконечные «вертушки», упоминавшиеся выше. Номеров, взращенных на этой основе, развилось столь много, что их в настоящее время можно выделить в самостоятельный жанр.
Искусство цирка использует для своего роста достижения спорта и техники, но не заимствуя, а ассимилируя их. Поэтому многожанровость, сама являясь специфической чертой циркового искусства, таит в себе еще одну его особенность. Цирк не только широко использует приемы и достижения театра, цирк – искусство, поэтизирующее спорт и технику.
Цирковое искусство за долгие годы своего существования выработало строго соблюдаемые особенности производственного пространства.
Круглый манеж постоянных размеров, окруженный со всех сторон амфитеатром, – основное место действия цирка. Несмотря на предельную простоту, форма манежа таит в себе целый ряд художественных и эксплуатационных моментов, определяющих и своеобразие построения цирковых номеров, и существующую в настоящее время систему их проката.
Цирки, по сути, являются прокатными площадками как отдельных номеров, так и целых программ. Именно неизменность, постоянство манежа служит основным залогом стабильности показа циркового номера. Стабильность размеров манежа гарантирует стабильность места установки любого циркового аппарата (и длину его оснастки – растяжек, блоков и т. п.), стабильность количества прыжков акробатов, когда они производятся из центра манежа или же из форганга, стабильность размеров центральной клетки при выступлениях хищников и, конечно же, стабильность демонстрации конюшен дрессированных лошадей. Именно соблюдение зрительского и исполнительского удобства конного цирка и продиктовало в свое время форму и размеры циркового манежа. Поэтому они постоянны во всем мире, диаметр манежа колеблется между 13 и 11,8 м.
Цирковой манеж представляет собой соединение двух игровых разновысоких плоскостей, это площадка самого манежа и верх барьера, его окружающего. Барьер несет определенную функциональную нагрузку, вызвавшую в свое время его появление – он служит ограничением при беге лошадей и местом крепления всевозможных растяжек и лонж.
Но художественное значение барьера в цирковом представлении несоизмеримо выше его функционального значения. По барьеру бегут друг другу навстречу животные в любом собачьем номере. Перебирая передними ногами по барьеру, а задними по манежу, ходят лошади. По барьеру коверный совершает свой первый выход, кончающийся каскадом на манеж. С барьера – или через барьер – делают прыжки акробаты. Был даже номер, в котором наездник вольтижировал на лошади, галопирующей по верху барьера. Словом, все цирковые номера, за исключением разве что воздушных, используют барьер в пространственном разрешении своих трюковых комбинаций, комплиментов или реприз.
Круглый цирковой манеж требует от артистов и режиссеров особой изощренности при мизансценировании. Зритель, сидящий почти по всей окружности манежа, должен быть равно удовлетворен просматриваемостью и адресованностью лично для него исполняемых трюков. Это породило крестообразные и диагональные построения номеров с непременным акцентированием комплиментами всех тех сторон, к которым артист при исполнении трюка не был повернут лицом. Но наиболее эффектным разрешением пространственных трудностей круглого манежа все же надо признать классическую цирковую работу на лошади, скачущей вдоль барьера. При этом зритель через равновеликие промежутки времени имеет возможность видеть артиста (артистов) и самым крупным планом, и общим, к тому же в циклически меняющемся ракурсе – прием, почти равнозначный кинематографическому столкновению монтажных кусков. Этот же принцип мизансценирования повторяют акробаты-прыгуны в прыжках вдоль барьера.
Его механизированный вариант – исполнение номеров на вращающихся пьедесталах. Несмотря на многовековую культуру цирка, круглый манеж постоянно дарит нас новыми сюрпризами пространственного мизансценирования.
Расположение циркового манежа как бы на дне чаши амфитеатра предопределяет особый ракурс, в котором зритель видит артистов цирка. Театральные актеры воспринимаются, в основном, с нижней точки и действуют, соответственно, на фоне задника. Тела цирковых артистов читаются в проекции на манеж. Круглый цирковой манеж, как увеличительная лупа, придает всем, на нем находящимся, всему на нем происходящему особую значимость, масштабность и выразительность. Любопытно, что цирк, искусство контрастов, верен себе и здесь. Четко выраженный верхний ракурс при восприятии основной массы цирковых номеров – партерных – для воздушных сменяется столь же определенным и резко выраженным нижним ракурсом.
Цирковой манеж, открытый со всех сторон зрительскому вниманию, предоставляет свое трехмерное пространство для работы трехмерного циркового артиста.
Цирковой манеж венчает полусфера. Брезентовая или железобетонная, она организует свое, цирковое, небо. Цирк в исключительных случаях загромождает купол элементами оформления. Разумеется, не из экономии. Ведь воздух в цирке не живописный пленэр, а место работы.
Полусфера служит вертикальным продолжением манежа. Цирковые номера тяготеют к вертикали. Это касается не только першей, ножной или переходной лестницы и проволоки, в которых сама аппаратура диктует оторванное от плоскости манежа вертикальное мизансценирование. Ведь и жонглирование, особенно у соло-жонглеров, по сути, происходит в вертикальной плоскости. То же можно сказать и об акробатах-прыгунах. Но если в приведенных примерах воздух «обживается» в момент исполнения трюка, то целый ряд номеров, таких как акробаты в колонне, силовые акробаты или выступления всех видов наездников, даже пространственно строятся именно в высоту.
Полусфера – это земля гимнастов. Все воздушные номера от групповых полетов до солисток на трапеции или корде-пареле располагаются в пространстве купола. Уже сам факт исполнения трюков не на надежном манеже, а на зыбких гимнастических снарядах, конечно же, увеличивает их эффектность. Этому же способствует резко выраженный нижний ракурс, в котором зритель воспринимает работу гимнастов. Попирая законы тяготения, артисты парят в полусфере купола.
В полусфере же, приподнятая над уровнем манежа, располагается сцена. Ее постоянное место находится над форгангом, актерским выходом.
Оформлением и его сменой сцена может внести определенный изобразительный акцент в развитие циркового представления. Чаще всего она используется в параде или эпилоге программы. Но иногда ее оформление может помочь выступлению аттракциона или крупного номера.
Сцена представляет дополнительные возможности для мизансценирования. Расположение сцены над форгангом позволяет, скажем, проводить на ней показ какого‐либо номера в то время, как манеж готовится для более крупного номера. Прыжком со сцены на манеж начинал когда‐то свои репризы коверный Константин Берман. На сцене же могут появляться, а затем спускаться на манеж и участники каждого номера в парад-прологе или непосредственно перед своим выступлением, это уже зависит от изобретательности режиссера.
Сцена может служить истоком водопада, обрушивающегося с четырехметровой высоты на манеж и заполняющего его водой в считанные минуты. Но это уже производственные особенности не любого циркового представления, а непосредственно водяных пантомим.
Что же касается повседневного использования сцены, то перенос места действия с манежа на сцену и обратно, соединение сцены и манежа лестницами по бокам форганга и подвижной лестницей, перекрывающей трехметровую ширину форганга, использование живописных задников, постоянных или по необходимости сменяемых, а также включение в оформление сцены элементов декорации создают неисчерпаемые возможности истинно циркового мизансценирования.
К особенностям производственного пространства цирка следует отнести и расположение оркестра. Где бы оркестр ни находился, над форгангом или центральным проходом, важна именно его оторванность от манежа.
При отсутствии светового акцента на оркестре и сосредоточенности внимания зрителей на исполняемом номере оркестранты как бы дематериализуются, и музыка звучит сама по себе. Звучит из‐под купола, отовсюду. При таком исполнении музыкальное произведение теряет самостоятельную ценность и воспринимается уже не более как ритмически организованный фон работы номера. Но вместе с тем возвышенное расположение оркестра позволяет в необходимые моменты, как, например, в номерах музыкальных эксцентриков, акцептированным вниманием превратить оркестр в зримого партнера, с которым можно вести музыкальные диалоги. Вернуть оркестр из небытия можно, разумеется, не только действенным, но и световым акцентом, сосредоточив на нем лучи прожекторов, но это обычно делается, когда оркестр солирует, то есть на увертюрах.
Рассмотренные особенности цирка – круглый манеж постоянных размеров, окруженный со всех сторон амфитеатром, полусфера купола, сцена и оркестр, оторванные от плоскости манежа и размещенные соответственно над форгангом и центральным проходом, – составляют специфику производственного пространства. Цирковые номера, производственные условия которых в свое время сформировали особенности производственного пространства циркового здания, в настоящее время сами вынуждены соизмерять с ними свои выразительные возможности.
Не менее значительное место в специфике циркового искусства занимает структура представления.
Контрастность как принцип выстройки программы характерна для циркового спектакля. Речь идет не о схеме «номер – пародия на него коверного». Принцип воплощается более объемно и многосторонне. Здесь столкновение партерных и воздушных номеров, героики и буффонады, иллюзии и техники.
Контрастность цирка диалектична, ведь в ней не только демонстрация многообразия циркового жанра. В ней прежде всего утверждение многогранного мира и способности человека всем этим многообразием овладеть, подчинить своей воле, силе и ловкости, утверждение безграничности возможностей человека.
Контрастное столкновение номеров по жанрам, по разрешению, количеству и индивидуальности участников, контрастность костюмов, музыкального сопровождения, места действия, освещения – все служит тому, чтобы из контрапунктирующей мозаики номеров сложить цельную картину праздничной цирковой программы.
Цирковому представлению в целом и каждому номеру в частности присущ динамизм. Речь идет не о быстроте, не о скороговорке. Динамизм в цирке – это предельная насыщенность действия, образная и трюковая, в минимально возможное время.
Стремление дать в кратчайший отрезок времени наиболее яркое, образное и законченное художественное произведение делает каждый цирковой номер самобытным и самостоятельным. Цирковой номер, как афоризм, должен сразу запасть в душу.
В противном случае он теряет смысл. Прошло 7–10 минут, номер закончился, за артистами запахнулся занавес. Самое лучшее, через год, через три зритель снова сможет увидеть их на манеже.
Настоящий цирковой номер и за это время не должен быть забыт.
Умение каждую минуту сделать емкой, каждый трюк, каждое действие провести на гребне физического и духовного накала определяет цирковой динамизм. Начатое на высокой ноте представление в цирке так и развивается по восходящей, поднимаясь по актерскому и зрительскому эмоциональному регистру. Столь же динамично, насыщенно, как номера, проходит в цирке и их смена.
Пауза между номерами в цирковом представлении отличается от чистой перемены в театре. Там закрывающийся занавес или наступающая темнота дают возможность зрителю передохнуть, проанализировать виденное, отвлечься от магии сцены. Цирк своему зрителю передышки ни в чем и никогда не дает.
Паузы между номерами в цирке не перерыв, а развитие представления.
Действенное разрешение пауз не однотипно. Чаще всего их заполняет коверный клоун. Его репризы могут быть и самостоятельными, классическими или современными, разговорными или мимическими, это уже смотря по репертуару коверного и его индивидуальности.
Но традиционный ход построения циркового представления предписывает заполнение пауз пародированием только что показанных номеров. Традиционным является и эксцентрическое разрешение уборки аппаратуры исполненного номера, ковра или манежа. Участие коверного превращает ее из служебного мероприятия в смешную, а иногда и поучительную интермедию. Кстати, и в отсутствие коверного приготовление манежа к выступлению очередного номера обставляется по возможности постановочно. Как самый распространенный пример назовем разравнивание манежа из опилок перед выступлением конников шеренгой униформистов, выполняющих эту работу под специальный оркестровый номер, согласовывая шаги и движения граблями друг с другом и с музыкой.
Пауза в цирковом представлении носит преимущественно зрелищный характер и подчинена заданному темпоритму программы. А в представлении тематическом является носителем и сверхзадачи спектакля.
Трудно переоценить значение, которое в структуре циркового представления имеет пользование светом. Праздничность, яркость, мажорность, свойственная цирку, – это и лучезарность его освещения, ровным светом заливающего зрительный зал и манеж.
Свет в цирке используется сообразно необходимости организовать тот или иной круг внимания. То, что К. С. Станиславский предлагал для учебного тренинга актерского внимания, цирк использует для организации внимания зрителя.
Аналогия, конечно, чисто внешняя. Ни о каком заимствовании ни с той, ни с другой стороны не может быть и речи.
Пользуясь терминологией Станиславского, отметим «большой круг внимания» – полный свет, соответствующий парадам и эпилогам; «средний круг внимания», при котором освещен предпочтительно манеж и занимающие его крупные номера; и «малый круг внимания» – работа в кольце прожекторов.
Свет в цирке может по желанию быть и цветным. Вся осветительная аппаратура снабжена фильтрами, прожектора – сменными, фонари же световых колец заряжены красным, желтым, синим и зеленым, оставляя каждый пятый для белого света. Цветной свет позволяет живописно трактовать номера или, по надобности их фрагменты.
Наиболее эффектным способом использования света в цирке можно признать пользование световой диафрагмой. Концентрированные лучи прожекторов усиливают изобразительное решение номера. Особенной выразительности можно добиться в освещении воздушных номеров, когда по куполу вместе с гимнастами синхронно работают их многократно увеличенные двойники-тени.
Использование света в цирке уже сейчас несет большую эмоциональную нагрузку. Но еще много нужно сделать для того, чтобы попытаться на цирковом манеже осуществить мечту Вс. Э. Мейерхольда: «Свет должен воздействовать на зрителя как музыка»[13].
Контрасту цирковых номеров и жанров сопутствует контраст сопровождающей их музыки. Характер исполняемой в цирке музыки неоднороден. Здесь сказывается прежде всего музыкальный вкус, культура самих артистов. И конечно, ритмические требования номера, возможности организации его пластики.
Праздничность, стремительность, легкость большинства цирковых номеров предопределила и привлечение в качестве первостепенного материала так называемой легкой музыки. Модные танцы, мелодии песен из кинофильмов, опереточные арии и танцевальные номера широко представлены в музыкальном сопровождении цирка. Не меньшее значение, чем соответствие музыки характеру трюков, имеет ее популярность, что предполагает зрительское расположение к номеру. Поэтому музыкальное сопровождение цирка так чутко откликается на каждую смену музыкальной моды, на появление любого шлягера.
Исходя из тех же соображений, номера, требующие медлительности, величавости для своего развития, так охотно обращаются к музыке оперных маршей и балетных шествий.
Еще более значимым представляется обращение к симфонической музыке. Это знаменует и рост музыкальной культуры самого цирка, и действенную пропаганду лучших образцов отечественной и зарубежной музыкальной классики. Многие цирковые номера находят в подобной музыке естественное и свободное подспорье своей пластической жизни.
Но какой бы ни была музыка в цирке, она, в отличие от балета, не ведет за собой артиста, а следует за его работой. Музыка в цирке всего лишь сопровождение номера, но сопровождение, придающее номеру цельность и законченность произведения искусства.
Музыка в цирке подстегивает зрительский интерес к каждому номеру, выявляет ритм трюковых комбинаций, организует финальные аплодисменты. Музыка в цирке – это пульс представления.
Своеобразную, отличную от всех театральных искусств форму приняло в цирке партнерство.
Конечно, цирку свойственно привычное общение артистов друг с другом, выраженное как в словесном действии, так и в трюковой работе. Это партнерство – основа всей спортивно-акробатической, клоунской и гимнастической работы. Специфичность этого вида партнерства в том, что она более остро, чем в театре, ставит вопрос об ансамблевости работы, так как в цирковых условиях это не просто вопрос верного сценического самочувствия, но залог возможности существования номера. Согласованность действий, синхронность работы, равная ответственность за успешное выполнение каждого фрагмента номера, каждого трюка, а в ряде случаев и за жизнь партнера ведут к тому, что партнерство в цирке – это не просто слаженность работы, но и созвучие пластики, характера, индивидуальности артистов.
Уже собственно цирковой является работа человека с животным. Лошади, львы, голуби, кенгуру, собаки, медведи, страусы, белки, журавли… Пришлось бы переписать почти всего Брэма, чтобы полностью перечислить четвероногих или пернатых партнеров цирковых артистов. Трудно найти живое существо, которое человек не подвергал бы дрессуре. Фигура дрессировщика неразрывно слита с цирковым манежем. Различная форма дрессуры (болевая, дуровская гуманная, «кнута и пряника») и различная манера поведения дрессировщиков на манеже могут составить тему специального исследования. Здесь же внимание хотелось бы сосредоточить на партнерских, равноправных взаимоотношениях человека и животного.
Это явление характерно в основном для развития современного цирка. Хотя и в истории можно найти схожие прецеденты. Самым замечательным и до сих пор, кстати, не повторенным можно считать работу русского дрессировщика Петра Крутикова. Он появлялся из форганга без шамбарьера, без стека и, поклонившись публике, тотчас покидал манеж, располагаясь в зрительских креслах. Он даже разговаривал со своими соседями. А жеребцы, заполнившие тем временем манеж (Крутиков работал исключительно с жеребцами, что гарантировало особую красоту экстерьера, грациозность движений, темп работы), самостоятельно меняли аллюры, построения, очередность следования друг за другом, направление, скорость бега. Дрессировщик неприметно управлял своей конюшней. Он представлял вниманию зрителя не демонстрацию своей власти над лошадьми, а именно выучку лошадей.
На манеже государственного цирка, также самостоятельно, без всадника в седле, исполнял номер высшей школы верховой езды жеребец Юрия Ермолаева (дрессировщик при этом сидел в зрительном зале).
Так, на рубеже XIX и XX вв. и в 50‐е гг. XX в. на отечественном манеже было заявлено о самостоятельной художественной ценности выступления животного, то есть, по существу, о праве животного на партнерство.
Но одно дело, когда верная мысль декларирована творчеством какого‐либо выдающегося мастера, и совсем другое, когда она становится традиционным воплощением данного положения. Очень долго и очень непросто равноправное партнерство человека и животного утверждалось в практике цирка.
Быстрее всего обрела права гражданства так называемая клоунада с животными, в которой животные «изображали» людей. Кстати, такая клоунада имеет одну из самых славных цирковых родословных и восходит к выступлениям поводыря-скомороха с медведем. Наиболее древние примеры подобных клоунад – «Как сельские девки смотрятся и прикрываются от своих женихов», «Как малые ребята горох крадут и ползают, где сухо, на брюхе, а где мокро, на коленях, выкравши же – валяются», «Подражают судьям, как они сидят за судейским столом» и тому подобное – письменно засвидетельствованы уже в XVIII в.[14]
В этом случае партнерство заключается в том, что разыгрываемая животным пантомимическая сцена получает окончательное художественное оформление в словесном комментарии дрессировщика.
Наиболее популярными представителями этой школы дрессуры принято считать династию Дуровых.
Другая школа дрессуры, которая в отечественном цирке объявила животное равноправным артистом программы, была заявлена «Медведями-канатоходцами» Бориса Эдера и разностороннее развитие получила в «Медвежьем цирке» Валентина Филатова и в «Цирке шимпанзе» Ванды и Валентина Ивановых. В этом случае разыгрывалась не ассоциативная бытовая или политическая ситуация, а самостоятельное цирковое представление, в комментариях не нуждающееся, говорящее само за себя количеством представленных номеров цирковых жанров и качеством работы.
Следующим шагом в признании за животными права на равноправное с человеком партнерство было объединение их на исполнении трюка. Первоначальная реализация этого хода сводилась к включению животных в отлаженные трюковые комбинации или же к дублированию исполняемых человеком действий, в том числе трюков. В первом случае животные как бы подменяют собой реквизит.
Так, в аттракционе «Слоны и танцовщицы», созданном Александром Корниловым по сценарию А. Н. Буслаева, слоны держали в хоботах трапеции и корде-воланы, на которых работали гимнастки, или же, расходясь, опускали в шпагат девушку, опиравшуюся на их лбы ногами.
Во втором же, более прогрессивном по подходу случае животные привлекались на исполнение отдельных трюков или же ставились в сходные с человеческими ситуации. Здесь можно назвать номер Александра и Анатолия Сосиных, в котором отдельные комбинации включали участие собачки в акробатических трюках. С бурым медведем на плечах поднималась Ирина Сидоркина по вольностоящим лестницам. Гималайский медведь жал стойку в руках у Луиджи Безано.
Собаки, лошади, медведи, слоны, одетые в разнообразные одежды, под музыку танцевали разные танцы. Лошади, например, приходили в устроенную на манеже спальню, струей воздуха из ноздри тушили свечу и ложились в кровать, натягивая зубами на себя одеяло. Или же ужинали в ресторане. Причем существовали сценки, когда лошадь обслуживала человека-клиента и когда она сама являлась клиентом.
Сошлемся на примеры драматизированного участия конницы в цирковых пантомимах братьев Франкони еще на рубеже XVIII и XIX вв., как в массовых перестроениях лошадей под всадниками, соответствующих поведению миманса, так и в сольной работе (трюк с раненой и хромающей лошадью и т. п.). Е. М. Кузнецов одно время даже предлагал выделить самостоятельный раздел конного цирка под условным наименованием «дрессированная лошадь в драматической ситуации» или «дрессированная лошадь как актер».
Но все это были отдельные трюки в ходе демонстрации привычной дрессуры животных.
Поистине новаторской можно назвать работу Вениамина Белякова. В свой номер «Акробаты на качелях» он ввел бурых медведей как равноправных участников номера. Медведь вместе с человеком приносит подкидную доску. Медведь помогает людям отбивать доску, с другого края которой идет па трюк человек. Медведь сам становится на подкидную доску и крутит сальто-мортале, только что исполненное человеком. И в конце номера медведь, как и все его участники, делает финальный кульбит и комплимент. Если в свое время новаторскими представлялись номера Филатова и Ивановых, то теперь, с дистанции времени, можно сказать, что их работа, при всей ее серьезности, лишь количественно расширяла ассортимент трюков, тогда как Беляковы качественно по‐новому подошли к решению самой сути проблемы участия дрессированного животного в цирковом представлении.
Был период, когда принцип работы с животными как с равноправными партнерами широко применялся при подготовке новых номеров отечественного цирка.
Наибольшей популярностью отличалась «медвежья полоса». По сценарию Ивана Брюханова, многолетнего помощника Кио, акробат Геннадий Минасов выпустил аттракцион «Медведи-иллюзионисты». Семейство Бирюковых включило медведедя в свой номер музыкальной эксцентрики. Флора Минина превратила медведя в партнера своего номера пластического эквилибра.
Словом, современный цирк практически провозглашает художественное равноправие животного с человеком в исполнении любого трюка в любом номере любого жанра.
Этот подход утверждает не столько возросшую школу дрессуры, сколько поиск средств выразительности, обогащение палитры цирка.
В цирковом представлении имеются номера, где партнером артиста выступают предметы.
Цирк предметен, и артиста в его работе почти всегда сопровождает реквизит, будь то стек в руках дрессировщика, «сигара», которую крутит на ногах антиподист, штанга, выжимаемая атлетом, или же кусок мыла, никак не дающийся коверному в руки и заставляющий его гоняться за собой по всему манежу. Реквизит, при помощи которого, благодаря которому артист в состоянии выполнить определенный трюк, определенный номер.
Но в данном случае речь идет не о предметах, которые служат средством выявления мастерства актера. Речь о предметах, выступающих носителями актерского мастерства. В номерах жонглеров, так же как в номерах манипуляторов, основным объектом зрительского внимания являются не сами артисты, а предметы, с которыми они работают.
Так, в работе манипулятора главным действующим лицом номера является игральная карта, самостоятельно вылезающая из колоды по требованию зрителей, папироса, в произвольных местах возникающая из дыма, или, скажем, блестящие никелированные кольца, которые в руках зрителя упрямо не желают разъединяться, а подхваченные манипулятором, легко расходятся и тут же нанизываются в звенящую цепь. Смысловой акцент номера строится именно на действовании предметов. Впрочем, действие это неоднозначно и может вылиться в диалог между артистом и предметом.
Или, скажем, артист, окончив манипуляцию с шариками, прячет их в карман и хочет приступить к следующему фокусу, но тут из его цилиндра появляется спрятанный шарик. Его походя снимают и прячут вслед за остальными в карман. Но шарик вылезает у артиста изо рта. Один раз, второй, третий, пятый. С большим трудом манипулятору удается утихомирить расшалившийся предмет.
Конечно, качество трюка зависит от техники престидижитации, но именно виртуозность владения этой техникой одухотворяет предметы и делает номер явлением искусства.
Точно так же при выступлении жонглера внимание зрителя поглощает не движение рук, бросающих предметы, а самое их движение, будь то кольца, булавы, палочки, мячи, ракетки или любые другие оживающие в руках артиста предметы. Их количество, чередование, ритм их движения, направленность полета – вот что определяет композицию номера. Этим, конечно, не перечеркивается индивидуальность самого жонглера. Но ведь индивидуальность его проявляется именно через отношение к предметам, с которыми артист работает.
Поэтому нельзя не согласиться с профессиональной убежденностью А. Кисса: «С некоторых пор степень мастерства жонглера почему‐то стали измерять количеством выбрасываемых предметов. Думается, что такой критерий ошибочен. Можно и с пятью-шестью предметами исполнять такие трюки, которые по своей сложности не уступят жонглированию восемью обручами… Только освоение технически сложных трюков, сочетание их в интересные комбинации может выдвинуть артиста в ряды лучших представителей жанра»[15].
Индивидуальность артиста, его техничность сообщают индивидуальность и движению предметов.
Если темпоритм актерского существования манипулятора сравнительно спокоен и может произвольно меняться соотносительно с реакцией зала, что сообщает движению предметов, с которыми работают, как бы повествовательность, то жонглер (руки его, во всяком случае) живет в более организованном, циклическом ритме, а потому и движение предметов жонглирования воспринимается уже как зримая музыка.
Это и позволяет при рассмотрении работы иллюзиониста и жонглера говорить соответственно о пантомиме вещей и танце вещей.
Заострение внимания зрителей именно на работе предметов – лучшее подтверждение специфической цельности циркового реализма, неизвестной никакому другому искусству спаянности формы и содержания.
Своеобразными партнерами артиста в цирке выступают и аппараты. Присущая цирковому искусству способность поэтизировать технику одухотворяет механические конструкции.
Проследим эту мысль на примере с велосипедом.
Ассоциативное, свойственное искусству сопоставление велосипеда с лошадью в свою очередь предопределило развитие возможной работы на велосипеде как равнозначной конной акробатике и выездке лошади. Подтверждением этому ходу рассуждений могут служить афиши, рекламирующие велосипедистов как «акробатов на стальном коне». Каждая лошадь, как известно, предельно индивидуальна мастью, экстерьером, норовом. И работа на каждой лошади сопряжена с акцентированием внимания на ее индивидуальности. Поэтому, должно быть, с развитием велофигуризма на манеже стали появляться и велосипеды «с индивидуальностью». То есть трюковые.
Дальнейшее развитие велосипедных номеров в советском цирке шло преимущественно по линии выявления спортивно-акробатических возможностей жанра, и акцент делался на фигурную езду и вольтижную работу артистов, а не на трюковое раскрытие машин. Впрочем, разборный велосипед, так же как разновысокие моноциклы, присутствовал почти в каждом номере. Демонстрацией целой «конюшни» подобных велосипедов был номер гастролировавшего в 1925 г. в советских цирках Пауля Петцольда.
Постоянно меняя маски, вернее, состояние, он менял и машины. Пьяный, он выезжал на велосипеде, оба колеса которого имели сильную восьмерку. Влюбленного, его несли колеса в виде сердца. Торопящимся, он появлялся на машине, колеса которой представляли собой укрепленные по кругу ботинки. И так далее на всем протяжении 10-, 15-минутного номера. Вся работа, по существу, сводилась к демонстрации небывалых машин. И именно машины воплощали образное начало номера. Аппарат «сопереживал» артисту. Он становился собратом по несчастью и счастью, партнером.
Подобную тенденцию, правда, в более общем виде, можно проследить и в оформлении номеров воздушных гимнастов.
Скажем, традиционную воздушную рамку в номере Немчинских обнимал полумесяц с юмористическим профилем и широко открытым глазом, который подмигивал в определенных местах смены трюковых комбинаций. Да и весь полумесяц, в созвучии с работой артистов, светился каждый раз другим цветом, а в финале номера вспыхивал вихрями фейерверка и, крутясь, опускал гимнастов на манеж. Сочетание стиля работы артистов с внешним видом аппарата, с его световыми акцентами и пространственными перемещениями, дополняя друг друга, сливалось в цельный художественный образ и воспринималось зрителем, по словам Е. М. Кузнецова, как «гимнастический ноктюрн».
Здесь можно вспомнить и номер Бараненко с самолетом или «Полёт на ракете» В. Лисина и Е. Синьковской. Артисты и аппарат в приведенных примерах настолько полно гармонировали друг с другом, что под куполом, казалось, вниманию зрителей предлагалась работа не двух, а трех исполнителей. Аппарат в этих и подобных им номерах являлся не просто декоративно-оригинальным оформлением функциональной конструкции, он задавал и разрешал смысловое звучание номера.
Много позже Виктор Лисин, уже как режиссер, создал аппарат и номер для Эльга Анзорге и Рены Мануковой. Никакого повествовательного образа за этим аппаратом не стояло: очень экономно решенная конструкция типа воздушной рамки. Но настолько продуманы, целесообразны, элегантны были линии хромированных труб, так свободно и естественно трансформировались они, спускаясь, в бамбук, на котором артистки могли передохнуть в комплименте, так своевременно вбирали трубы в свое полое нутро отработавший реквизит, настолько каждая линия была функциональна и эстетична одновременно, что номер явился утверждением гармонии нашего механизированного века – содружества человека с машиной, причем машиной настолько совершенной, что аппарат воспринимался уже не мертвой механической конструкцией, а одухотворенным помощником гимнасток.
Отношение к аппарату как к партнеру артистов сродни поэтическому антропоморфизму и служит лишним утверждением синтетичности циркового искусства.
И, наконец, своеобразным партнером артиста в цирке постоянно является сам зритель. Этому способствуют и особенности производственного пространства, и структура представления, и композиция ряда номеров, и техника выполнения отдельных трюков. Открытость мастерства цирковых артистов позволяет им свободно вступать в контакт со зрителем, не боясь никаких разоблачений.
Невысокий и неширокий барьер, отделяющий манеж от зрительного зала, – вот и вся, скорее символическая, преграда между артистами и зрителями цирка. Скорее, барьер даже является местом, соединяющим манеж с залом. Целый ряд цирковых номеров для своего разрешения требует прямого вовлечения зрителя в действие.
Зрители, например, приглашаются на манеж контролировать такие иллюзионные номера, как «Полёт в космос», «Сундук-молния». У зрителей заимствуют ценные вещи для осуществления фокуса «Загадочная посылка». Или приглашают ассистировать иллюзионисту («Неисчерпаемый сундук»), вызывая смех остальных зрителей, когда секрет разоблачается и видно, в какой скрюченной позе и как, притаившись, лежит новоиспеченный фокусник. Когда‐то зрителей приглашали на манеж, чтобы сесть в ладью, которую потом балансировал на лбу Рафаэль Манукян. Зрителю предлагается выбрасывать назад на манеж мячи, помогая лошади-футболисту или же жонглеру, ловящему их на зубник…
Словом, цирк постоянно и разнообразно вовлекает зрителя в свое действие, превращая его пусть из активного, но созерцателя, в непосредственного соучастника, партнера. Общую для любого искусства мечту об идеальном зрителе цирк – единственный! – эксцентрически реализует введением фигуры «подсадки», то есть специального человека в зрительном зале, установленным образом реагирующего и действующего в заранее оговоренный момент развития номера или репризы.
Структура представления, так же как особенности производственного пространства, организует цирковое искусство внешне. Но есть специфические особенности, выполняющие ту же функцию как бы изнутри.
В отличие от всех иных искусств, которые иллюзорны, цирк предельно реален. Реальны исполняемые трюки. Реальны дрессированные животные, поднимаемые тяжести, высота работы, шаткость аппарата, жесткость манежа. Реальна опасность.
Работа циркового артиста складывается из преодоления реальных препятствий, будь то сила притяжения при акробатических и гимнастических упражнениях, жонглировании или образ жизни и хищные инстинкты животных и тому подобное. Если за реальностью театра стоит истина страстей и правдоподобие чувствований в предлагаемых автором и режиссером обстоятельствах пьесы, а затем и спектакля, то есть в первую очередь овладение логикой иного мышления, то цирковая реальность прежде всего – во владении артистом своим телом. Цирк не зря называют храмом физической культуры человеческого тела.
Разумеется, это деление на внешнее и внутреннее чисто умозрительно и возможно лишь на бумаге. Как в театре каждое действие может быть только психофизическим, так и выполнение любого трюка, его школьность, филигранность, завершенность возможны лишь в едином, слитном напряжении тела и души. И чем значительнее препятствие, которое цирковой артист должен преодолеть, тем цельнее и значимее напряжение всего его существа. Предлагаемые обстоятельства цирка в основном определяются жанром номера, реквизитом, включенным в работу, количеством исполнителей и характером трюков, то есть обстоятельствами, формирующими зримое мастерство циркового артиста. А так как основная группа препятствий цирка материальна и действительна, она требует затраты именно физических усилий. Но каждое физическое действие, как известно, есть результат определенного внутреннего действия, духовного посыла. И чем тяжелее, ответственнее препятствие, тем целенаправленнее посыл на его преодоление. Сама суть циркового действия придает реализму цирка небывалую цельность. Он сродни тому «фантастическому реализму», о котором так любил говорить Евгений Вахтангов. Именно в цирке «содержание и форма созвучны, как аккорд»[16].
Реализм цирка на редкость спаян и слитен. Реальное преодоление препятствий формирует своеобразие циркового реализма как действительного.
В дрессуре и иллюзии работа циркового артиста связана с преодолением, скорее не физических трудностей, но неожиданностей поведения животных или же дефектов действия секретов аппаратуры.
Провозглашенная когда‐то МХАТом импровизационная «сиюминутность» спектакля как нельзя полно воплощается в самой структуре номеров названных жанров. Здесь артистам необходимо владение неизвестной театру выдержкой, мгновенной реакцией, умением оправдать самые немыслимые положения, так как его партнеры – животные и аппараты – способны лишь создать и усугубить критические ситуации, оправдание и выход из которых приходится искать самолично артисту. При всей выверенности каждого иллюзионного трюка, отработанности любой минуты пребывания животного на манеже предвидеть нежелательный поворот действия практически невозможно. Неожиданная реакция животного зависит, например, от непривычной реакции зрительного зала, неотрепетированного изменения света, неожиданного звука или запаха и тысячи иных причин. Все это влияет на состояние животного, сказывается на исполнении трюка и требует немедленной корректировки со стороны дрессировщика. Поэтому цирковые номера, несмотря на сделанность, всегда импровизационны. Оттого каждое действие в цирке естественно. Так что еще одной особенностью циркового реализма является его достоверность и подлинность.
Реальная работа требует реального реквизита. Действительность цирковой аппаратуры вызвана именно необходимостью на ней работать. Бутафорией и имитацией при этом не обойдешься. Поэтому аппараты и реквизит в цирке не имитируют образы действительности, а предоставляют реальные возможности для работы. Отсюда их первостепенная функциональность и утилитарность. Отсюда еще одна грань циркового реализма – его вещественность.
Все это и позволяет считать специфически цирковыми чертами подлинность, действительность, овеществленность реализма.
Но, разумеется, функциональность, скажем, цирковой аппаратуры не означает еще отказ от ее бытовой оправданности. При сюжетном построении номера она даже предполагается. В каждом случае обытовление должно решаться конкретно. Здесь очень легко нарушить меру, такт и преступить границу цирковой условности.
Когда‐то Алексей Бараненко сконструировал маленький самолет-«этажерку», который поднимался и летал тягой собственного винта, а подъемные тросы фиксировали только величину возможного в цирке радиуса полета. Под этим самолетом Бараненко с партнером, одетые в летные комбинезоны, выполняли гимнастические трюки. Реальность самолета, комбинезонов, трюков, молодость и отвага исполнителей складывались в одну большую победную реальность современно решенного циркового номера. Тем более что в то время бурно развивался воздушный флот нашей страны. Реальность приема, совпав с актуальной реальностью жизни, стала гармонической реальностью искусства.
Когда же Бараненко, приглашенный в программу, решенную в приемах русской этнографии, задекорировал самолет жар-птицей и под брюхом ее исполнял те же трюки уже в костюме доброго молодца, номер потерял достоверность. И вовсе не потому, что из груди сказочной птицы торчал доподлинный пропеллер. Артисты переступили грань циркового реализма. Бутафория задавила подлинность номера, цельный образ подменили оригинальной формой.











