Читать онлайн СКВОЗЬ ВОПЛОЩЕНИЯ И ПРЕВРАЩЕНИЯ
- Автор: Дарья Перунова
- Жанр: Современная русская литература
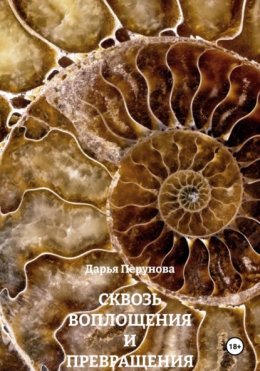
Дарья Перунова
СКВОЗЬ
ВОПЛОЩЕНИЯ
И
ПРЕВРАЩЕНИЯ
Часть первая
До прихода Тэтчер «столица мира» вовсе не была землёй обетованной. После Второй мировой войны Британская империя ухнула так, что её английский позвоночник едва выдержал, и Лондон, осев поближе к земле, тоже превратился в серый индустриальный город. Со всеми его противоречиями. С одной стороны, свингующая золотая молодёжь, вроде богатых хиппарей, модников, рокеров, битников с их бесконечными ту́сами. С другой – бедный люд, местные молодые бузотёры запущенных рабочих окраин, какие-то скинхеды, панки и прочие. Лондон наводнили всяческие невиданные фрики, как пролетарского, так и состоятельного племени. Все они рьяно демонстрировали вызов и протест.
Странная публика из городских захолустий, неопрятная, нечесаная, с хаерами и ирокезами, или бритоголовая, зачастую укурёная вусмерть, облюбовывала ступени, к примеру, бывшего работного дома, так и сидела, вяло покачиваясь, словно ленивая карамора. Либо они, каждый в своих группировках, шлялись без цели, топтались в переулках кучками или слегка пританцовывали на улицах какого-нибудь Брикстона, отрешённо посасывая кто косячок, кто эль, а кто чего и покрепче. Либо ввязывались в разборки между собой.
На все эти безобразия недобро косились честные работяги-кокни, с продублённой кожей, коренастые, кряжистые ребята, утомлённо бредущие каждый вечер с фабрик.
До Тэтчер Лондон не имел особого блеска.
Но позже, и уж тем более в 2014 году, лондонские огни уже успели сманить к себе толпы деньжѝстых новых кочевников со всего света.
Этим новоявленным пришельцам-толстосумам коренные лондонцы глухих районов, что еще помнили былые пабы с обычными недорогими пирогами и элем, одежду, которую донашивали всей семьей, могли бы в красках передать картины прошлого города и своей страны. Но какое дело богатым космополитам до этого – они приехали за здешней красивой буржуазной жизнью, и их не интересовало ни прошлое, ни история, ни будни простого люда. По правде говоря, сами местные не очень-то и рвались вести разговоры с заезжей чванливой братией.
Им приходилось прятать свой страх перед будущим и ожесточенной каждодневной экономией под маской горделивого презрения. Вроде и усмехались вслед очередному иммигранту-нуворишу на «Бентли», но ухмылка выходила кривая, с горьким привкусом. А вскорости большинство из них, задавленные ростом цен, стали постепенно переселяться в пригороды, их сметало ветром истории, как мусор со старых тротуаров.
Город 2014-го полностью переродился и переустроился под новоприбывших состоятельных горожан. Одни пришлые богачи, окроплённые несметным золотым дождём, жадно скупали замки, виллы, яхты, футбольные клубы. Другие, довольно обеспеченные, но не настолько, желали бы им подражать, но могли – только в мечтах. В реальности ограничивались шопингом в самом роскошном модном супермегамаркете «Хэрродс». Обычным же местным жителям «Хэрродс» был просто не по карману. Им только и оставалось, что пересказывать друг другу адреса дешёвых барахолок и возможные уловки сбережения своих кровных.
Каждый день арабы, индийцы, китайцы, русские, нажившиеся на различных махинациях, лихорадочно заполняли дорогие рестораны, премиальные торговые центры. Охапками сгребали вещи, даже не меряя, как безумные, не веря в свое внезапное богатство. Взахлёб отстегивали наличные и безналичные направо-налево.
Приезжих не занимала история страны, в которой осе́ли. Зачем? Да какая может быть история! Вот настоящее, хватай его целыми пригоршнями, хватай пачками, кучами, кипами, утрамбовывай, упаковывай. Кушай, пей, кути́, потребляй. Захватывай – что можешь. Это их настоящее так смачно и сочно лилось в рот – что́ им историческая пыль веков!
К тому же, в 2014-м время летело так стремительно, что какой-нибудь мохнатый 1979 казался им уже седой древностью. А ведь именно с 1979-го, с приходом Тэтчер, им открылась дорога в этот лондонский рай.
И именно с Тэтчер, началось крушение маленького мирка простого лондонца, мирка бедного, но привычного. Этой леди решительности было не занимать. Она расправилась с работягами с жестокостью и презрением лавочницы, каковой была по происхождению и по психологии. Действовала, исходя из опасений среднего и мелкого буржуа: чем больше рабочих – тем больше их прав и больше возможности для социализма с его народными профсоюзами; и это пугало всех буржуа. Значит, рабочих, профсоюзы, и вообще тягу к социализму – раскатать в прах, полностью и навсегда.
По воле Тэтчер крупнейшие фабрики, заводы ушли в частные руки, как потом стали говорить, их приватизировали. Часть перебросили в страны третьего мира. Рабочих – на вольные хлеба. Затем и шахты взлетели на воздух, взорванные, чтоб и не восстановить.
Отчаяние вздыбило огромную лаву шахтёров металлургов, угольщиков, решившихся показать зубы. Они прыгнули со всей непреклонной решимостью загнанных в угол – в забастовку. И началось. В стычках со стражами закона огребали по морде, едва успевали уворачиваться из-под копыт коней констеблей на массовых сборищах, без кровавых увечий не обходилось. Тюрьмы буквально трещали от бунтарей. Это казалось настоящей войной, да и было войной, безжалостной и опустошительной. Но Тэтчер выиграла. Не сделав ни одной уступки.
Правда, на телеэкранах для нуворишей из 2014 года, всё происходящее тогда в Англии выглядело как нечто комичное. Их забавляли сцены оттеснения забастовщиков плотными полицейскими рядами; драки простонародья с полисменами-бобби в шлемах, пускавших в ход свои дубинки; неожиданное и стремительное появление конных блюстителей порядка; смешная растерянность среди протестующих. Их бегство.
Бывшие рабочие, весь простой люд, глядя на те хроникальные кадры, вновь ощущали то зловещее чувство, вызывающее из памяти работу прессовального катка, давильной машины, вытеснившей их в ещё бо̀льшую безработицу, нищету и бездомность.
Конечно, у английской лавочницы, занявшей позицию «железной леди», не получилось в то время открытой давильни-душегубки, вроде гайдаровской, она лишь пустила пробный шар. Но этот сокрушительный свинцовый шар покатился по миру, и находившиеся внутри зародыши монстров, созревая, начинали шевелиться, выползать наружу.
В ответ на беспощадную борьбу Запада против рабочих и против возможного социализма – уже слабеющий социалистический мир, попытался помочь забастовщикам. И даже что-то вяло промямлил о своей озабоченности и об оскале империализма, да так и запутался в словах, испугавшись решений, которые в произнесённом могли обнаружиться. Стоявшие у социалистического штурвала крупные верховоды напоминали чеховского человека в футляре, страшившегося, как бы чего не вышло. Они так и не извергли из себя мысль, которую смогли бы убедительно предъявить лавочнице западного мира. Они были, скорее, склонны к добровольной смене политических акцентов, кое-каких принципов со своей стороны, чем к противопоставлению. И даже к постепенному частичному вписыванию, вхождению в западный мир. Их вдохновляло это вхождѐнчество. Разумеется, со всеми своими домочадцами и прикормленными возле.
Этих переродившихся руководителей социалистического мира, уклонившихся от изначально заявленных целей, – даже свой народ и соцпартнёры уже не слушали, как перестают слушать тех, кто потерял доверие и уважение.
Тэтчер в экономическом запале реформ срыла с британской земли многие производства и шахты, растерзала казённую промышленность под корень. И старый Лондон, консервативный, фабрично-шахтёрский, потёртый, как кожаная косуха, – исчез, пережив однако послереформенное перелицевание своего вида.
Он принял новый облик – облик мегаполиса частного бизнеса и банковско-финансового капитала.
Изменение обличья города, захваченного агрессивной энергией разрастающегося капитала, в некоторой мере сродни жутковатой истории одного фантастического фильма: в заброшенном ангаре некоего энтузиаста-исследователя лабораторная серая мышка, в результате стечения обстоятельств, превратилась вдруг в панцирного саблезубого звероящера; и тот первым делом закусил владельцем помещения, захватил его место обитания, а затем и место то претерпело колоссальные изменения, подстроившись под образ жизни новоявленного прожорливого хозяина.
Не так ли происходило не только с Лондоном, но и со многими другими столицами на свете?! Подобная фантасмагория превращения зверька в нѐчто, с последующим его аппетитным жо̀ром, поглощением всего вокруг, – изменила весь мир и людей. Это возникшее нечто постепенно вылезало, становясь пожирающим монстром, стремящимся любой ценой вырваться на ещё бо̀льший простор, и распространяться дальше и дальше…
На месте былого Лондона и его старой пыльной застройки образовался, как и в других точках мира, обновленный, щедро омытый деньгами, сверкающий сто́льный град – город гигантского финансового насоса, работающего без передышки. Чудовищная машина эта шуровала неумолимо и безжалостно, и в оба направления – поглощения и опорожнения. Она неустанно выплевывала обедневших бывших горожан в предместья.
Новые богачи, точно крысы в быстро растущей популяции, пробирались везде, присматривались, принюхивались, ненасытные и всеядные, захватывали освободившиеся территории и начинали жить заново, забыв о своем прошлом мародерстве в тех краях, откуда приехали.
Они легко освоились в возрождённой столице Туманного Альбиона, выбрав для обитания статусные старинные кварталы. Названия этих кварталов – Белгравия, Мэйфер, Шордич, Найтсбридж, Кенсингтон, Хампстед – известны далеко за пределами Англии. Их определённая публика во всём мире произносит, как музыку, они звучат магической абракадаброй, заклинанием на богатство. Особенно неотразимо действовали они на нуворишей из колоний Индии, Эмиратов, Сингапура, Саудовской Аравии и постсоветской России. Выходцы из этих стран скупали там целые улицы.
«Понаехавшие» бесили местных жителей, вздувая цены и оттесняя коренных лондонцев на задворки. Пострадали не только бедные местные. Но и та̀мошние мелкие буржуа. Но что могли поделать эти старожилы, такие же бакалейщики и булочники, вроде Тэтчер. Тогда, в начале 1980-х, они сами втайне радовались железной воле её реформ, перетряхнувших весь привычный уклад, не подозревая, чем это аукнется им. Сколько лет они мечтали приструнить опасную возню рабочего класса и угрозу для своих маленьких гешѐфтов. И вот – их мечта сбылась. Однако, как ни странно, вместе с обузданием пролетариев и появлением свободных рыночных порядков – рухнула и их жизнь. Исчез правильный, по их мнению, викторианский почтенный классический капитализм старой добропорядочной Англии. На его место взошло тёмное чудовище лондонского Сити, прожорливое чудовище банковско-финансовых операций, спекуляций и махинаций. И когда начался его безудержный жор, на хозяйчиках средней руки, прежде всего, сомкнулись его челюсти. Это поначалу. Но лондонское чудище, сглотнув старое благонаследие, стало пожирать и новые более жирные активы, перемалывая добычу, небрежно выблёвывая останки.
Тэтчер умерла в 2013 году, и злобная похабная радость захлестнула небогатых англичан, более всего уязвленных «жестоким капитализмом» тэтчеризма. Беднота ликовала. Высыпав на улицы, упивалась вдрызг от избытка чувства удовлетворения. Вела себя так же злорадно, как и лондонское простонародье времен Генриха Тюдора, исто̀шно приветствовавшее смерть казнённых на эшафотах.
Правда, кончина «железной леди» и последующее мелочное торжество рабо́тного и люмпенизированного люда ничего не изменили в их жизни. Да и их крики и фейерверки на обочинах – панцирь сытого чудища выдержал без ущерба для себя и продолжал набирать силу.
И к лету 2014 тэтчеризм уже вовсю расползся по миру, переманил на свою сторону даже бедноту, хитро́ соблазнив кредитами, не акцентировав их каба́льные условия.
И в центре этого слабоумного, нищего умом, а подчас и кошельком, нового мира, не замечающего неявного ограбления, – сиял новый Лондон-град имени Тэтчер. Он высокомерно игнорировал отдалённые признаки подкрадывающегося будущего кризиса и упадка на фоне разорения производственных предприятий. Здесь по-прежнему царили кредитная вакханалия и беспредел купли-продажи-перепродажи-переперепродажи финансовых средств. А вместе с этим щупальцы монстра заползали в души людей и изменяли их.
Но было бы все же несправедливым и крайним упрощением считать Лондон только гигантским финансовым монстром, сча́вкивающим всё вокруг.
От старых времен пока еще оставалось кое-что из культуры. И в первую очередь, английский театр. Не знавший периода классицизма, той ходульности и скованности от канонов, штампов, когда каждый жест актёра уже рассчитан, выверен и словно окаменел в веках, от чего так долго освобождались на своих подмостках французы и подражавшие им русские.
Держался-таки пока британский театр, преимущественно внекоммерческий. Он регулярно поставлял со своих сценических площадок сотни настоящих талантов дельцам от искусства – голливудским ремесленникам. А те уж сумели внушить миру, что все должны обзавидоваться сиянью их успехов. Ну и творческий народ неизменно пёр туда отовсюду со всего мира.
***
Так произошло и со знаменитым актером То̀масом Мэ̀ррилом, когда-то никому не известным молодым человеком, в тридцать лет отправившимся испытать судьбу в голливудской киноиндустрии.
Голливуд, конечно, заметил в британском актере и мастерство, и ум, и тонкость, и даже некую сложность, трудно поддающуюся словесному определению, но все-таки использовал его дар примитивно, в рамках своего обычного жанрового схематизма, больше делая ставку на внешнюю фактурность.
Поскольку отстранённый английский аристократизм его не совсем вписывался в продюсерско-американское понимание амплуа «хорошего парня», ему частенько предлагали роли злодеев с налётом истерической нотки. Такие типажи хорошо удавались Мэ̀ррилу. Злодейские персонажи в его исполнении, облачённые его плотью и артистическим талантом, получались весьма выразительными и убедительными. И в силу ма́стерской психологической проработки образов, и в силу особенностей собственного облика, имеющего оттенок некоторой внутренней напряжённости.
Его высокое прямое тело производило впечатление тетивы, готовой выпустить стрелу. Возле тонкогубого рта пряталась складочка как будто бы… да, недоверия. Сосредоточенный взгляд неулыбчивых глаз, временами поражающий неожиданной колкостью, всматривался в вас столь проницательно, что становилось неуютно. Хотя те, кто уже знал и понимал его вдумчивую натуру, воспринимали это спокойней, ибо в близких дружеских контактах То̀мас проявлялся как человек обострённой и несокрушимой интеллигентности, деликатности и душевной тонкости.
С тех пор его голливудской «выучки» минуло чуть больше двадцати лет. Он смог уже стяжать лавры мировой славы.
Но тогда в Голливуде – поначалу его привели в ужас безумный потогонный американский график, довлеющие мысли режиссеров об экономической целесообразности, тормозившие любые искания художественной выразительности, и потому снимавших эпизоды скорей-скорей, почти без дублей. Мэ̀ррила, как и многих других ловцов удачи, отвращала эта гонка – без репетиций, без поиска, без творчества, без импровизации.
Но он сдюжил в этом откровенном мире продажи и прибыли. Не без потерь, конечно, но и не без внутренних приобретений: удалось кое-что понять, глубоко заглянув в себя, и не всё ему там понравилось.
После творческих разочарований в Голливуде То̀мас решил не оставлять насовсем Великобританию. Стал жить по известной поговорке – ласковое телятко двух маток сосёт. В его случае даже трёх. Подпитывался он, так сказать, от трех источников. Один из них – Америка, она давала ему славу и презренный дьявольский желтый металл. Звонкая монета помогала, как ни закрывай на это глаза, сохранять комфорт и удовольствия жизни. Другой источник его жизни – Англия. Здесь его родина, родное гнездо, мать, и здесь его любимый театр, где он по-настоящему мог самовыразиться. А вот от третьего источника он наполнялся радостью общения с людьми своей профессии, открытым душевным соприкосновением с ними, наивным, простодушным, немного сентиментальным, но абсолютно искренним. Это была Россия.
(2014. Англия)
Сейчас в свои пятьдесят два он плодотворен, в отличной форме, никаких загулов и скандалов, свойственных его богемной среде. И, слава богу, в Лондоне всё ещё жив его любимый театр, где он даже бо́льшая звезда, чем в Америке. И в кино тоже нарасхват.
В первый день лета То̀мас Мэ̀ррил сидел у камина в уютном кожаном викторианского стиля кресле в своем фешенебельном лондонском особняке с садом в престижном районе Ке́нсингтон. Наблюдал через окно за набегающими друг на друга тучками. Те своей толкотнёй напоминали ему засидевшихся в буфете зрителей, спешащих уже после звонка занять места до открытия занавеса. Задумавшись, он не заметил, как выпустил из рук листки присланного сценария. По телу разливалось приятное чувство удовлетворения, что расслабляло. «Надо же» – пришла ему мысль – «лето, вроде бы должно быть, как у других, затишье. А мне везет. Принесли сразу три новых сценария, да ещё объявились пять приглашений на интервью…».
Обычно он считал бессмысленным оставаться летом в городе, но в этот раз оказалось иначе.
И сейчас из открытого окна он пытался уловить ностальгический запах полей любимого родного До́рсета, где прошло детство, возле мамы и отца, в старом доме со скрипучими полами, с беготней мышей, которых мама категорически отказывалась изгонять. «Мыши бегают, скребутся – это бегает и скребется сама наша судьба…», – говаривала задумчиво она, ни к кому конкретно не обращаясь.
Мать нередко выглядела чудаковатой. Она была то доброй, то мудрой, случалось, взбалмошной, часто растерянной, словно ребенок. Среди соседей слыла странноватой. И главная странность – увлечённость Россией. Хотя, конечно, знание русской литературы, по меркам светской образованности, считалась хорошим тоном. Но ведь у неё литературой дело не ограничивалось – миссис Мэ̀ррил любила всё, связанное с Россией. Можно сказать, была наполнена страстью к стране, в которой никогда не бывала. Это у многих вызывало вопросы.
Как-то раз пришедшая в дом гостья остановились в замешательстве, увидев на стене фотографии с кинокадрами из «Андрея Рублева» Тарковского. Да и копии с картин Шишкина, Мясоедова показались ей неуместными в английском доме простой домохозяйки: нет чтобы украсить домик пейзажами здешних окрестностей или собственноручно выращенными на грядках цветами, да мало чем ещё! Как же хорошо бы смотрелись на стенах рамочки с вышивками крестиком или гладью, выполненными в часы досуга! Она, разумеется, не сказала ни слова, но недоумение сквозило в её выражении, даже кончик носа слегка покраснел от неприязни.
А детство Тома совершенно естественно прошло под этими фотографиями и картинами. Он смотрел, как убегает дорога во ржи у художника Мясоедова. И как вот-вот колыхнутся сосны в преддверии грозы у Шишкина. Если зажмуриться, иногда ветка могла чуть закачаться, а Мясоедовский путник с сумой сделать первый шаг, скрывшись по пояс в густой траве. Кажется, что сам бредёшь, теряясь в зреющих хлебах. Явно слышишь, как шуршит ветер, и чувствуется пряность травы. И тут – охватывает тебя невероятная мощь, налетает дыхание ветра и предчувствие отдаленной грозы. Всё это то гудит, как огромный колокол, то тихонечко позванивает, то шепчет едва уловимо непонятные слова.
Мать при этом в его воображении всегда стоит рядом, чуть приобняв, словно поддерживая его на этом пути в необъятное пространство.
Отец, несмотря на всю любовь к своему первенцу, не мог разделить с ним тех переживаний, он был более земным человеком. Том попытался было доверить ему свои ощущения, утверждая, что картина говорит с ним, но тот решительно отверг такое.
Окружающим непонятная увлеченность миссис Мэ̀ррил казалась, в лучшем случае, чудачеством. И это в то время, когда на дворе 1960-е – холодная война в разгаре. И даже дети играют в ядерный взрыв, прячутся, как взаправду, от бомбежки под столом. Теледикторы, пожилые, достойные, наглухо запакованные в классные деловые костюмы, взволнованными голосами предостерегают о «красной угрозе». И голоса их дрожат, звучит и скорбь, и металл. Пуританские губы поджаты. И бровь ползёт вверх: как! у этих русских варваров ракеты! да что они себе позволяют! И говорящие головы пытаются притвориться, что здесь-то, в этом их буржуазном мире нет ничего подобного, словно бы очерчивали свой мирок, где якобы нет и не может быть подобного непорядка. Наоборот – опрятный благонравный мирок!
Но хаос там был. Был. Несмотря ни на какие игры в благонравность. Внутренние социальные войны лицемерно прикрывались лживыми словесами, брызганьем слюной и поддельно-благородной слезой в голосе.
Юный Том, обладая артистическими способностями, очень скоро научился воспроизводить эту фальшивую мимику, забавляя домашних. Потом уже и всерьёз, будучи уже в актёрской профессии, он не раз использовал этот опыт, чтоб показать лицемерие своих героев.
У матери Тома, несмотря на её глубокую увлечённость Россией, не было никакой связи с ней, за исключением одного случайного обстоятельства. Во Франции, где она пятнадцатилетней девчонкой училась живописи, ей повезло прослушала лекции старого русского профессора Алмазова, которому было за восемьдесят. Это был маститый русский философ, высланный из России на знаменитом «философском пароходе».
Том видел его несколько раз в гостях у них дома, когда ему самому было лет десять, а Алмазову уже девяносто два. Алмазов, ставший впоследствии другом семьи, словно бы заразил миссис Мэ̀ррил своей тоской по оставленной любимой им России. А мать передала это сыну.
То̀мас прочитал почти все книги русской классики, которые смог найти в английском переводе. Он даже смотрел советское кино, в отличие от русской литературы, бывшее у них явлением экзотическим. Большинство фильмов не имели проката в Англии. И в 1972-м, и в 2014-м – и в его десять лет, когда он практически был ещё несмышлёныш, и в пятьдесят два, как сейчас. Любая информация о России давалась с трудом. Томас собирал её по крупицам.
И вот совсем недавно, в 2014-м, нашел, наконец, еще один советский фильм – «Однополчане» 1963 года производства. Правда, с субтитрами. Там рассказывалось о двух приятелях во время Второй мировой войны – как они прошли сквозь боевые испытания и встретились в конце той бойни, как изменились после пережитого…
Сидя перед экраном, он полностью ушёл в происходящее, захватившее его. Но – звонок в дверь. То̀мас нахмурился. Да кто там ещё! Пришлось отвлечься. Ах да, он и забыл, что должна прийти Ру̀та, помощница по хозяйству, которая упорядочивала его холостяцкий быт.
Она приехала в Лондон по визе из Латвии. Ровная, легкая в общении, державшаяся незаметно, эта девушка имела все качества вышколенной прислуги, несмотря на то, что ей всего-то двадцать четыре года.
Лет десять назад Лондон наводнила вот такая же дешевая рабочая сила из Восточной Европы, из России, наподобие Ру̀ты. Эти люди были очень воспитаны, трудолюбивы, чистоплотны, нередко хорошо образованы, выглядели совсем как европейцы, так что поначалу хозяева смущались отдавать им распоряжения. Прислуживающие усердно работали и казались довольными. Да, первое время они не только казались, но и действительно чувствовали себя довольными. Они рвались в старую Европу, и их, наконец, пустили в нее. «Эти люди просто выскочили из своих черных дыр коммунизма, им повезло», – думали о них наниматели. Иногда, правда, возникало у них нечто вроде недоумения – а как в этих черных дырах могли появиться настолько образованные, интеллигентные люди, явно выше уровнем той работы, которая им предлагалась?
То̀мас, открыв дверь, с некоторым стыдом сообразил, что, в сущности, ни разу и не заговорил со своей помощницей. Та была безгласной, неслышной, как скользящая тень. И сейчас, впервые взглянув повнимательней на Ру̀ту, едва она отвернулась, – он пристально изучал ее. Затем собрался с духом и спросил:
– Ру̀та, вы ведь, кажется, из Латвии?
Девушка улыбнулась своей обычной улыбкой – она всегда была доброжелательна и спокойна.
– Да, я приехала оттуда. Вместе с мамой.
То̀мас слегка хлопнул себя по лбу, точно вспомнив что-то. И обрадовано выпалил:
– Так вы, должно быть, знаете такого актера – А̀ндриса Мѝенса?
Девушка в растерянности отрицательно мотнула головой.
– Нет, к сожалению, не слышала. Это, наверно, кто-нибудь давний, из ретро-фильмов. Но могу спросить у мамы…
– Ну да, ну да, – скороговоркой твердил То̀мас, сам удивляясь своей готовности к общению. Конечно, он мастер перевоплощений, однако, как правило, довольно неконтактен и сдержан. Он всегда пытался замкнуться в себе в круговороте людей, гостей, неизбежных в его профессии. Особенно напрягали его репортеры, среди которых за ним даже закрепилось прозвище «самая закрытая дверь британского театра». Но сейчас он коснулся своей излюбленной темы – советского кинематографа, поэтому горел желанием раздобыть побольше информации.
– Конечно, давний… «Однополчане». Этот фильм сняли еще при коммунистах… – не унимался он. – Я смотрел дату выпуска, 1963 год.
Ру̀та тряхнула головой, улыбаясь все той же улыбкой. Улыбка ничего не значила, она служила лишь аккуратно протертым окном, сквозь которое проглядывают предметы, обыденные и разочаровывающие своей однотипностью.
– Но я родилась в 1990-м. Незнакома особо ни с чем советским. А потом мы и вовсе уехали с мамой сюда. Мама-то наверняка знает, могу ее спросить. Она здесь в небольшом городке сейчас работает. Завтра приезжает ко мне. Спрошу её.
– Но неужели вы не видели этот фильм?! – разочарованно вырвалось у Томаса. – Он ведь довольно известен в России.
– Простите, но это такое… старьё… К тому же я поклонница британского кино. Потому-то и захотела работать у вас.
Томас вдруг криво усмехнулся, но тут же, пристыженный, взглянул на девушку, – не задел ли ее? Очень уж бестактно начал расспрашивать, и расспрашивал-то не о ней, не о ее жизни, а о каком-то актере, словно она сама – пустое место, всего лишь информатор, ресурс сведений. Вся надежда на то, что в его последних словах хотя б не прозвучало осуждающего оттенка. Её ответы, конечно, стереотипны. Но и его собственное бестактное поведение, да и нелепое любопытство – полное бескультурье.
Ру̀та принялась за уборку. Закончив и всё расставив по своим местам, она тихо вышла, аккуратно закрыв за собой дверь.
Ее мать, Ѝнга Ѝрбе, уже ждала дочь в небольшом па̀бе. Сухощавая интеллигентная женщина лет пятидесяти точно дремала с открытыми глазами, неестественно недвижная, как сурикат, замерший на лапках, слившийся с природой и окоченевший в медитации. Ярко-голубые глаза ее смотрели перед собой так же застыло и напряжённо.
Ру̀та, видя этот знакомый взгляд, опять подавила недовольство. Но оно лишь на миг проступило, и тут же пропало. Её затопила нежная горькая жалость. Все пять лет взгляд матери очень беспокоил ее, вызывая подчас досаду. Ее тревожили эти внезапные замирания. Ѝнга как бы спала с открытыми глазами, а когда пробуждалась ото сна наяву, чуть морщилась, словно пыталась что-то вспомнить, говорила, что не может вернуться к самой себе. В эти минуты мать казалась человеком немного «не в себе». Всматриваясь в её растерянные глаза, дочь недоумевала, откуда это.
Ру̀та с наигранной веселостью поздоровалась. Заказала сандвичи и кофе. Специально стала рассказывать о своих приятных новостях. Мать немного расслабилась. И Ру̀та, воспользовавшись моментом, решила уговорить её сходить к психологу. Она даже предложила, что сама оплатит услуги специалиста, лишь бы тот помог преодолеть матери её всегдашнее потерянное состояние.
– Мама, психолог ещё и научит, как лучше подавать себя работодателям.
Но мать улыбнулась тихой улыбкой бессребреницы:
– Как ты сказала – продавать…?
– Да! – не выдержав, в сердцах воскликнула Ру̀та. – И продавать – тоже! Не делай такие глаза!
– А все же смотри… как любопытно… как слова-то эти совпадают. Подавать – продавать… Учение – мучение… – горечь сквозила в интонациях Ѝнги. – Как иногда интересно в русском языке получается, не правда ли… М-да, и отец вот твой, уж на что русский – из сердца России, из Москвы родом, а и тот отмечал и забавлялся всегда таким созвучием и находил в нём свой курьёзный смысл.
Ру̀та поняла – та думает об отце. Он давно умер. Странная смерть, нелепая, семь лет назад. Он пошёл на митинг против сноса какого-то памятника в честь Победы. Итог – черепно-мозговая травма. Ударили сзади чем-то тяжелым, металлическим. В сутолоке толпы даже невозможно было понять кто.
С тех пор мать вроде как и не жила, частенько погружалась в воспоминания. В повседневности она прикрывалась, как занавесом, лишь видимостью жизни, тогда как сама жизнь её, по сути, осталась гораздо дальше, чем за занавесом. И случись кому-нибудь раздвинуть занавес – за ним оказалось бы даже не безмолвие черной сцены, а сама пустота, ничто. От этой мысли Ру̀те стало больно и страшно. Она нахмурилась. И замолчала.
На сей раз мать пришла в себя довольно быстро:
– Ру̀та, если можешь, порекомендуй меня на место Пила̀р.
Пила̀р, филиппинка, заменяла Ру̀ту по выходным в доме То̀маса Мэ̀ррила. Она собиралась выйти замуж и уехать. Ру̀те, чтоб узнать об этом, пришлось попотеть, многих из своего иммигрантского круга порасспрашивать. Место вот-вот станет вакантным. На это место – уборщицы в доме звезды театра и кино – оказывается, уже выстроилась череда желающих. Но Ру̀та надеялась. То̀мас Мэ̀ррил вроде бы расположен к ней и, скорее всего, примет во внимание её рекомендацию. И все же… ни в чем нельзя быть уверенным.
– Даже информацию про это место я выцарапала зубами, – дала понять Ру̀та, каких трудов это ей стоило.
– Зубами не выцарапывают, ими выгрызают, – слабо откликнулась мать.
– Мама, хоть раз выслушай меня без этих своих словечек!
– Прости! – отозвалась Ѝнга. – Я ведь, наоборот, удивляюсь твоему напору, даже восхищаюсь им. Но сама я так не умею.
За кофе и разговорами Ру̀та успела оглядеться. Ее не переставали изумлять лондонские пабы – они сочетали в себе не только бары, но и клубы по интересам, а иногда и мини-библиотеки.
Здесь, в этом уютном компанейском мирке, люди чувствовали себя невероятно легко, вольготно – у них, видимо, водились и деньги, и время, и они часами могли обретаться в этих стенах, наслаждаясь своим незатейливым времяпровождением. Вот две чистенькие старушки, которые зашли сюда почти сразу, как объявилась и сама Ру̀та. Они принялись играть в шашки. Немного чудны́е – высокие, костистые, типичные долговязые англичанки, напоминающие цапель на тонких ногах. Их стильные стрижки из седых, но ухоженных волос, обрамляли сморщенные и весьма удачно намакияженные лица. Одна бабуля уверенно обыгрывала вторую, энергично стуча своими пешками по старой пошарканной доске. А вторая пожилая леди, нимало не обеспокоенная этим, с азартом наблюдая за манипуляциями счастливой соперницы, лишь посмеивалась, время от времени восклицая неизменное: «Оу!». Ее увлекал этот процесс. Она наслаждалась, как представлялось Ру̀те, безбедной старостью, непринуждённым спокойным существованием в довольстве, недоступным иммигрантам, бывшим жителям рухнувшего СССР.
Ру̀та так зябко и нервно передернула плечами, будто старалась сбросить «советскую шкуру», которая приросла к ней и никак не спадала.
В поле зрения её попала барменша. Спокойно раскованная, в шёлковой жилетке с бабочкой. Барменшу не смущала её довольно нестандартная полнота – в этой благословенной стране, понятное дело, царят бодипозитив и толерантность! И зеленый ирокез на голове ярко подтверждал это. Раскрепощённая толстушка ловко священнодействовала с бокалами, разливая посетителям алкогольные коктейли, и вовсе не выглядела обслугой. Больше похожа была на продавца-фокусника, ловко смещающего внимание клиента с рутины продажи на эффектные, замысловатые трюки руками, придающие товару более желанный вид. Работала играючи, радостно, с огоньком. Вот он, западный недремлющий рекламно-маркетинговый ход в действии.
– Я уже не могу видеть эти холодильники, в которые мы по четырнадцать часов распихиваем клубнику, – продолжала мать. – У меня совсем руки от мороза распухли, как рачьи клешни. Я не в состоянии вдыхать этот жуткий ледяной пар из открытой двери, точно в морге. В морозилку, того и гляди, упакуют и мое тело, я…
– Мама, какие четырнадцать часов? – прервала ее дочь. – Восемь часов по закону…
– На нас закон не распространяется, Ру̀та, пойми ты, наконец… Тебя, я вижу, легко удивить. А вот ты еще больше удивишься, если представишь, что моей работе ещё и завидуют. Находятся люди, жаждущие попасть на мое место, так же, как я мечтаю получить место Пѝлар. У меня появилась одна знакомая. Галина. Она из Харькова…
– Я не успеваю следить за твоими новыми знакомствами, – попыталась пошутить дочь.
– Она бывшая учительница английского… Я теперь только с ней и могу поговорить, отвести душу. Без нее я бы пропала. Она мне и квартиру нашла с маленькой платой.
– Ты хочешь довольно прозрачно намекнуть, что я тебе не помогаю?
– Нет, нет, Ру̀та, конечно же, нет. Это я так, просто… делюсь впечатлениями. Она работает в теплице. Думаю: да что ж она мне завидует-то? Я ведь в морозилке, а она – всё-таки в теплице. Так, оказывается, всё потому, что я получаю в месяц тысячу фунтов, а она – лишь четыреста… Так Галина смеется, мол, за такие деньги могу и поморозиться, ничего, мол, потом «беленькой» отогреюсь… И хохочет. Такая хохотунья. Я с ней прямо оттаиваю…
Ру̀та не знала, что на это сказать, и продолжала только слушать. Взгляд ее скользил по жестяным гербам с диковинными длинномордыми единорогами на кирпичных стенах бара.
Через полукруглую арку виднелась маленькая комната, где стояло несколько книжных стеллажей и старых, винтажного вида шкафов, сохранивших обаяние потёрханости временем. Кресла-качалки из новенькой коричневой кожи облюбовали вездесущие ухоженные английские пенсионеры. А молодежь, если и забредала в книжную комнату, расслабленно делала селфи, не задерживаясь больше пяти минут. И уходила, смешливая, звонкая, не взяв в руки ни единой книги. Молодых особ привлекали лишь огромные глянцевые альбомы живописи или энциклопедии, и то не из-за их содержимого, а из-за красивых золочёных корешков и формы, увесистой, внушительной – на их фоне им так классно фоткаться!
Обосновался там за чтением и дедуля лет восьмидесяти. У него рядом с креслом на маленьком столике лежала целая стопка книг. Он читал одну из них, полностью погруженный в мысли, уютно покачиваясь, не раздражаясь на молодых, не одергивая их по советскому обыкновению. Даже ни разу не взглянул на них, не отвлекся от пожелтевших страниц. Его невозмутимость и сдержанная вежливость восхитила Ру̀ту, и тоже служила для неё свидетельством достоинства и свободы того мира, в который они с матерью пытались встроиться.
Увиденное, казалось, примирило ее с действительностью: ничего, рано или поздно, они тоже станут частью этого мира.
– Ладно, мама, – отреагировала она на рассказ матери о новой знакомой, – вот мы устроим эту Галину на твое место, а тебя на место Пила̀р. И все будут довольны.
Но Ѝнга опять вернулась к своему обычному пессимизму. Она лишь слабо пожала плечами, выражая сомнение:
– Это – если повезет.
– Просто так – никому не везет, – поджала губы дочь, – а эта женщина из Харькова наверняка приехала ещё и нелегально, и не имеет ни визы, ни разрешения на работу.
– Вот ведь… Не имеет разрешения мыть полы! – подковырнула Ѝнга. – Этой чести тут надо еще добиться! Знаешь, что мне сказал начальник… Не люблю, говорит, я с вами, коммунистами, работать…
– С коммунистами? – поморщилась Рута. – При чём тут коммунисты?
– Да так думают про всех нас из бывшего Союза. Вы, говорит мой начальник, коммунисты, все чего-то требуете, все о каких-то переработках кричите. Вы должны, мол, радоваться, что вообще оказались здесь. Вы бы без нас и дальше у себя при своих коммунистах пухли бы с голоду. Откуда они это взяли, про голод?
– Мама, тебе и вправду лучше не ссориться со своим работодателем. Я попрошу Пила̀р, она тебя тоже порекомендует. Можешь не беспокоиться. Твоя проблема в том, что ты слишком много… – дочь замялась, не находя подходящего слова.
– …думаешь, – подсказала мать.
– Нет, нервничаешь…
– Но у тебя-то, слава богу, есть перспективы, – посветлела Инга, отвлекаясь от своих бед, – ты у меня девушка с характером, шустрая. Я на тебя нарадоваться не могу. И учишься здесь, и работаешь – на все времени хватает.
Тут шумно ввалилась большая компания полных женщин в подпѝтии в легких цветастых платьях на бретельках, одинаково коротко стриженых, словно под копирку. Они, перебивая друг друга, громко, по-хозяйски потребовали эля. «Наверное, из России» – предположила Ру̀та. Компания решила петь в караоке. Леди радостно заголосили, их вопли сменились пьяными песнопениями, не попадающими в ноты. К большому облегчению, скоро все ушли в караоке-комнату, чудо звуконепроницаемости.
– Ну, а как тебе этот Мэ̀ррил знаменитый? – поинтересовалась Инга. – А то отхватила синекуру и молчишь. Какой он человек?
Рута, мечтательно прикрыв веки, протянула с восхищёнием:
– Замечательный. Мягкий, вежливый, интеллигентный. Поверишь ли, он даже словно стесняется просить меня о чем-нибудь… Да, кстати, сегодня расспрашивал… не знаю ли я такого актера… А̀ндриса Мѝенса? Я, представляешь, оконфузилась, не знаю латвийского актера. Ты-то, наверно, слышала о нем?
– А̀ндрис Мѝенс! – в восторге вскричала Ѝнга. – Ну, конечно же, слышала. Да я на него в театре Вичу̀таса в Риге два часа в очереди стояла в семьдесят девятом году. И не я одна, вся Рига, да что я говорю, многие из Москвы и Ленинграда еще приезжали… А ты спрашиваешь – знаю ли я А̀ндриса Мѝенса… А вы-то молодежь, ничего не знаете и не слышали. Эх, знали бы вы, чем тогда для нас был театр!
– Ох, мама! – в сердцах остановила ее дочь. – Это же ненормально!
– Почему же… ненормально?
– Да хотя бы потому, что в бывшей нашей тоталитарной советской стране искусство занимало такое непропорционально большое место. А здесь, в демократическом обществе, где нет цензуры, и вся информация открыта, здесь – всё на своих местах…
Ѝнга ехидно и коротко перебила, развив мысль Руты:
– Мы с тобой, значит, здесь тоже на своём месте?
– Мама, ты не о том… я ведь не собираюсь всю жизнь быть прислугой. Лондон – это же мировой центр. Центр всего: экономики, финансов, торговли, трендов…
– И заезжей прислуги… почти бесплатной, со всего мира. Их всех пережуют и выхаркнут. И никто не помешает им тут бессловесно сгинуть, – не устояла мать, чтоб не вставить свою горькую ремарку в дифирамбы дочки.
Ру̀та пропустила её замечание мимо ушей, как и не слышала:
– И в этом мировом центре – я буду одной из тех, кто создает тренды. Я выбьюсь в средний класс. Моя мечта – работать здесь в рекламе. В общем, я вырвусь в креативный класс… Буду уметь… – Ру̀та умолкла, видя, что она с матерью не на одной волне.
– …продавать себя, – шлёпнула ей мать подсказку с отвращением, как дохлую склизкую рыбину бросила в помойное ведро. Потом добавила тоскливо, – прости меня, и мою тягу к ехидству… но это единственное, что остается мне…
Ру̀та чуть поежилась от неприятных слов, скребнувших по самолюбию, как железом по стеклу. Но не стала продолжать, чувствуя, что непонимание между ними непреодолимо. Без резких замечаний перешла на безопасную тему. Немного поговорили о предполагаемой работе Ѝнги у мистера Мэ̀ррила. Обе решили действовать быстро для получения освобождающегося места после Пила̀р. Ведь будет гораздо удобней работать в паре, сообща. Потом тепло попрощались. И разошлись.
После встречи Ру̀та две остановки проехала на двухэтажном автобусе до своей рекламной школы, где как раз и учили «продавать» себя.
Эта школа располагалась на одной из тех своеобразных площадок, которые обознача̀ли модным словечком «лофт». Помещалась она в здании полуразрушенной фабрики, некогда дававшей рабочие места беднякам. Прочные низенькие стены из красного кирпича воздвигли ещё в первые годы правления королевы Виктории. А во времена реформ Тэтчер эту фабрику, как и многие другие, прихлопнули. Потом со стен соскребли историческую копоть. И нате вам – школа рекламы, плюс множество других плодящихся офисов и конторок, которые умеют извлекать прибыль из всего, что можно продать и купить, и учат этому же других.
А в эпоху королевы Виктории и писателя Диккенса эти стены помнили бесконечные унылые ряды длинных столов в свете чадящих под потолком керосиновых фитилей. Тощие синие от холода руки с изгрызенными ногтями и воспалёнными «цыпками» на коже возились с обувными лека̀лами в неласковом свете раннего утра. Стоял тяжелый дух кожи и клея. Сей труд одаривал мастеровых людей безрадостным полуголодным существованием, не обещая бо́льшего. Но и за это они благодарили бога.
Однако времена менялись.
Дух негодования, идея бунта – этот неведомый науке вирус – проник в темное сознание трудяг, заронил семя надежды, и вбросил, в конце концов, в протесты на черные, закопченные улицы, стиснутые трущобами. Вывел под дубинки, а то и пули, полисменов.
А затем… затем пришли диковинные, а для истеблишмента просто невероятно дикие, новости о… революции в далекой заснеженной стране, до этого ассоциировавшейся исключительно с косматыми медведями. Если верить газете «Таймс».
И трудовому классу, некогда покорному, в их тяжелодумные головы вползла простая, но крамольная мыслишка – а чем они хуже медведей? И мыслишка эта подточила старое прочное здание викторианства.
Своих детей некоторые работяги больше не отдавали фабрике, они отводили их в школы.
1926 год – всеобщая английская стачка. Высшие чины Скотланд-Ярда решили даже стрелять по этим мо̀рлокам, осмелившимся вылезти из своих чёрных нор. Некая леди тогда испуганно писала, что боится, как бы чернь не начала их рвать на части. Она, мол, уже слышит стук гильотины. Обошлось.
Но хозяева вдруг стали чувствовать себя неуютно под пристальным взглядом мо̀рлоков. За ними слышалось тяжелое дыхание медведя с востока.
Шло время, медведь успел создать свою индустрию, и сумел прогнать незадачливого австрийского художника Г., борца с мировым большевизмом, возомнившего себя месси́ей. Страна медведя взошла на пик своей силы и могущества.
И британский занету́живший лев, одряхлевший, дрожал перед медвежьей мощью, ему пришлось объединиться с новым партнёром на другом континенте, некогда бывшим кровным врагом.
Годы бежали своим чередом. И далее произошло совсем непредвиденное, чего и не ждали. Медведь вдруг перестал скалиться и рычать, а неожиданно решил побрата́ться, попросил, ломая лапы, взять его в их цирк. А главный медведь с любопытной подпа́линой на лобѐшнике, его так и звали Миша, изо всех сил ходил на задних лапах, забавно плясал цыганочку и делал сальто-мортале. Всем своим видом он показывал теперь, что он вовсе не страшный, он свой в доску. Настолько пленял его западный цирк.
Это уже были времена лавочницы Мэгги Тэтчер. Она своим практичным умом смекнула – пятнистого мишку до́лжно срочно приласкать. И самое время нанести удар по своим крепким башкам с идеями и мыслишками – по бедняцким рожам упрямцев с дублёной кожей. Стереть эти ненавистные фабрики, перевезти какие-то за моря, к азиатам, и главное – дать полную свободу частникам. Так решила лавочница Мэгги, так и сделала.
Труженики оглянулись было на медведя, тот улыбался им, но был занят другим. Он в это время всё катился и катился на блестящей бочке, жаждал понравиться партнёрам-компаньонам, посылая им воздушные поцелуи и срывая аплодисменты одобрения. Не заметил в своём заискивании, как и скатился на обочину мира. Рабочие поняли – не будет поддержки. Они проиграют: силён медведь, да в цирке на него сбрую в блёстках накинут, не до нас будет.
И вот… затихли станки. Захлопнулись ворота фабрики. Она закрылась, переехала за моря. А там уже мураши-китайцы, по слухам, начали вкалывать на ней всего-то за миску риса.
Ну а здесь, оказалось, поменяли шило на мыло. Пришло производственное безделье. И видимость дела на биржах и в банках. Заводы, фабрики разрушили – зато появилось множество конторок и офисов, извлекающих прибыль из всего, что можно продать.
И на этой фабрике тоже. Вместо безблагодатного бедняцкого труда, но создающего материальный продукт, в ее стены заселилась тьма-тьмущая посредников-приживальщиков всех мастей – клерков, консультантов, имиджмейкеров, менеджеров, стилистов, персональных шо̀пперов, ко̀учей, риелтеров, агентов по эскорту. Прослойка денежных грызунов, оказывающих так называемые креативные и прочие услуги всем, кто платит. Они ничего не производили – они бары̀жничали, продавали воздушные мечты, самую общую информацию, не способную дать реальный метод для выживания, и множили иллюзии граждан за их же собственные купюры, успевая прежде, чем те опомнятся, откусить изрядный кусок от финансов в их кошельках или на банковских счетах.
И на развалах бывшей фабрики, в ее пыльных коридорах, появился некто в джинсовой куртке с модными клёпками и искусственной драни́ной. Он оглядел черные от копоти потолки, стены, всё это видавшее виды помятое бьюти-великолепие. Блаженно зажмурился. Расчу̀хал в этом месте жившую когда-то историю, которую можно удачно подлакировать и превратить в арт-объект. Ему чудился тот запах истории, превращающийся в его бизнес-раскладах в солидный ку́ш при продаже. Вожделенно суча ножками в стильнх брючках и ботинках на тракторной подошве с по-клоунски вздёрнутыми носками, он чуть ли не выделывал антраша̀. Предвкушал, сколько же круты́х «плюшек» с этого можно хапану̀ть. Множество планов уже роилось в нем.
Модный неформально-расслабленный прикид и некоторая игривость его внешнего вида не должны никого обманывать – чувствовал себя и держался этот субъект вполне по-хозяйски. По-хозяйски осматривал, измерял заваленное осыпавшейся штукатуркой разорённое пространство, не упуская ни одной детали, способной дать выгоду. Да, этот тип тоже был из породы хозяйчиков, только рангом пожиже, но фарисейски оскорблялся, когда кто-нибудь понимал его сущность. Он-то примерял на себя совсем иной имидж – имидж творческого человека. Непременно – творческого. Он называл себя по-разному – креати́вщиком, креативным менеджером, дизайнером, руководителем по развитию творческого кластера, креа́клом. В разговорах же всегда демонстративно сочувствовал революциям, по большей части «цветасто-оранжевым», рассуждал о «свободе самовыражения личности», «толерантности», «правах человека», не упоминая, что это всего лишь понятия-симулякры, за которыми либо пустота, либо подмена смысла. И не терпел, когда в нем узнавали новый, модифицированный тип буржуа, привыкшего успешно дармоедничать не на прямой эксплуатации рабочих, а оказывая услуги наивным мечтателям, или присасываясь к капиталам солидных дядей, особо не утруждая себя тяжёлой работой. Он за дерзость обнаружения в нём обильно паразитирующего буржуа наказывал уничтожающей заимствованной у великих интеллектуальной тирадой. С неизменным лицемерием напяливая на себя образа «благородного рыцаря без страха и упрёка». Бывало, и просто увольнял без пособия, если человек находился в его власти, – торгашеская мораль натуры это вполне допускала.
В общем, с пожухших стен фабрики содрали старые слои, выкрасили в яркие цвета, кое-где оставили ободранную кирпичную кладку. Вывели на обозрение – для креативности – обломки труб, а где-то заржавелые рамы. И рекламная школа-студия в стиле лофт стала выглядеть необычайно модерно̀во.
К её мастер-классам потянулась молодежь, тоскующая о лучшей жизни, амбициозная, лелеющая чувство своей особой значимости. Здесь им ещё больше надували радужные пузыри ожиданий, опыляли мозги ложными представлениями, что из бесполезного человечка тут могут сотворить ценного представителя среднего класса, который будет нарасхват на рынке труда. Молодые готовы были продаваться только «за дорого». И каждому казалось, что после этого он будет жить в неземном эстетском мире без чумазых мо̀рлоков, в обществе модных и приятных их сердцу креа́клов, хѝпстеров-эло̀ев и прочих метросексуалов, которые одним касанием мизинца превращают любую дрянь в предмет «современного искусства» и эстетизируют белый свет одним только своим присутствием.
Ру̀та приложила карточку к электромагнитной двери своей рекламной школы, счастливо вдохнув присутствующий там воздух творчества и свободы. Перед занятием заглянула в мини-кофейню на первом этаже. Отхлебывая ароматный чёрный кофе и изредка посматривая на тонконогих хипстеров в массивных шарфах поверх пиджаков, она безмятежно предалась бесцельному созерцанию. Ей нравилась творческая атмосфера и дизайнерски оформленная обстановка. Ребята вокруг тоже были продуманно стильными, модными, напомаженными стайлингом и парфюмом. Чувствовалась тяга к эстетике. Они светились полуулыбками, хотя взгляды их отстранённо скользили мимо неё. Каждый был занят собой, производимым впечатлением от их имиджа, каждый нёс и преподносил себя, даже когда просто шатался в холле, переминаясь с ноги на ногу, или неторопливо шёл в неизвестном ей направлении. Походка независимая, самоценная – просто звезда шествует: налетайте, раздаю автографы! Дрейфовали свободно и автономно. Броуновское движение это стало несколько утомлять её, создавая, как ни парадоксально, при наличии множества людей ощущение пустоты. С досады она поднялась и пошла в класс.
***
(2014. Англия)
Под впечатлением от фильма «Однополчане» То̀мас Мэ̀ррил пытался найти хоть что-нибудь об А̀ндрисе Мѝенсе, но англоязычный интернет политично помалкивал. А в письменном русском он не был настолько силен, он неплохо владел лишь разговорным.
В этой же картине он открыл для себя и другого актера – Юрия Бельского. Поначалу То̀мас обратил внимание на импозантного Мѝенса, обладающего какой-то необъяснимой актёрской харизмой, ему захотелось узнать о нём: кто он, что он. Но и Бѐльский заинтересовал его своей игрой, он потрясающе справился с ролью и запомнился невероятной силой темперамента. Мэ̀ррил настойчиво искал информацию и о нём. Но попадались очень скупые данные об этом актёре.
Ему семьдесят четыре. Родился в 1940-м. Бѐльский, судя по информации, относился к самоуверенным, категоричным людям, легко раздающим оценки. Он был театральной легендой в России. Являлся не только актёром, но и худруком в своём театре, который при нём приобрёл неповторимый стиль, свою творческую эстетику. Там сформировалась сильная труппа. Его стараниями был организован также и ежегодный фестиваль, где представлялись самые хито́вые спектакли. Это ещё больше заинтересовало То̀маса.
Мэррилу удалось ещё и разыскать парочку фотографий Бѐльского. С найденных фото на То̀маса смотрел породистый старикан с крупным римским носом и прищуренными иронией глазами. В воображении Тома, тот представился ему почти в образе старого боевого генерала, выступающего против придворных заговорщиков и считающего возможным для себя перетряхнуть их псевдо-династию, не по праву узурпировавшую трон, и тем самым вырвать с корнем их измену.
В одной из статей, едва разобрав русские фразы, Мэ̀ррил смог прочитать, что Юрий Бѐльский с труппой приедет на фестиваль в небольшой городок на Волге. Тут же был крошечный ролик. Мэ̀ррил кликнул мышкой на видео. Мини-выступление Бѐльского подтвердило опасения Тома о вредном, задиристом, неуживчивом характере актёра.
– Мы всех ждем на наш фестиваль, – сначала говорил в ролике Бѐльский с подкупающей душевностью добродушного человека, – мы всем рады.
Но вдруг его лицо стало воинственным, почти свирепым:
– Всем рады, кроме этой мафии московских критиков, критикесс и прочих сытых околотеатральных.., – тут он осёкся, крепко сжал рот, не дав выскочить слову, готовому сорваться; и после краткой заминки продолжил с саркастичной, едкой улыбкой, призванной скрасить гневную вспышку, – …которые пусть лучше остаются у себя дома и ходят на свои, особые, специально сделанные для них так называемые прогрессивные, продвинутые спектакли…
По низу экрана шли невнятные, обтекаемые английские субтитры, смягчающие резкость выражений. Но Мэ̀ррила было не обмануть. Ему так и виделась в руке Бѐльского сабля, которой тот будет рубить врагов. Чувствовался человек большой энергетики. И она притягивала То̀маса.
Том Мэ̀ррил использовал любую возможность, чтобы побывать в России. Он воплощал свою мечту, и мечту матери, так и несбывшуюся в её эпоху «железного занавеса». Мать умерла в 1993 году. А Том впервые приехал в Россию в 1997 с премьерой спектакля по Чехову, а в 1999 – с фильмом по Пушкину. Ездил он и в 2011-м, и в 2012-м, и не только в Москву, но и в маленькие города. И в тот городок на Волге, о котором говорил Бѐльский, – Ю́рьевец – тоже приезжал. Мать рассказывала Тому, что там была малая родина, родина детства почитаемого ею режиссера Андрея Тарковского. Там, говорила она, пробудилась его знаменитая философская созерцательность, наполняющая всё его творчество, родившаяся в неповторимой атмосфере того места.
Действительно, То̀мас помнил, когда побывал в Ю́рьевце, какой это чудесный небогатый провинциальный городок, тихий, с множеством зелени, зарослями дикорастущей вишни на улочках, маленькими трогательными купеческими домами с мезонинами, огородами, деревянными заборами, зданиями старой застройки. Как же он располагал к медитативно-философскому состоянию духа.
Тут же воскресла в памяти Тома картинка, как он сам плыл тогда по Волге с одним местным жителем на лодке.
Лодка идёт, а ты сидишь себе, вдыхая волжский воздух, чуть ли не в трансе, как будто душа вылетает из тела и кружит где-то над тобой, а мимо движется огромная река, вся светящаяся, мимо поволжских городков в зеленых берегах…
Чудно̀, два года назад он был там, но судьба не свела его с Бѐльским.
На сегодня, познакомившись с творчеством и Бѐльского, и Мѝенса, он даже не мог бы сказать, кто из двоих производит на него бо́льшее впечатление своим талантом.
«А любопытно, как же в их тоталитарном государстве, за колючей проволокой, сформировались такие творцы, как же там могло родиться такое искусство?» – подумалось То̀масу. – «Откуда оно могло там появиться?».
Если фестиваль в Ю́рьевце начнется 16 июня, то почему бы Мэррилу не отправиться опять в Россию, где он всегда желанный гость, где люди всегда принимают его с такой простодушной радостью, где можно подробно спорить о мотивах героев Чехова. Вот здесь, в Лондоне, не любили проблемных разговоров вне репетиций, вне театра. Да То̀масу и самому не нравилось с кем-либо рассуждать здесь о театре. Начинаешь говорить – и получается как-то как будто бы неуместно. Собеседник замолкает, предпочитая более нейтральные темы, ни к чему не обязывающие, избегая выражать своё мнение, и сказанное Томасом выглядит как напыщенное умничанье и повисает без отклика.
А в России всегда готовы поддержать беседу, пусть и без обязательных дежурных улыбок, как в Европе, зато слушают внимательно, всматриваются в глаза, чтоб лучше понять. Бывало, на каких-то мероприятиях в России разговоришься, понесёт тебя, половины слов не знаешь, а переводчик по твоему лицу умеет угадать скрытый подтекст и донести смысл.
Сначала Мэ̀ррила обескураживала высокопарность русских, когда они высказывались о театре. Очень уж па̀фосно они выражались, эти русские актеры. Ему запомнилась фраза, которую часто повторяли: «Я служу в театре». Или: «Мы жрецы Мельпомены». Да его просто ошарашило, когда он впервые такое услышал. Все это провозглашалось без тени юмора, с серьезным, почти торжественным лицом. Он объяснял себе это отсутствием чувства меры у русских.
Или же дело не в русских? Или он сам, То̀мас Мэ̀ррил, так закрыт, застёгнут на все пуговицы, настолько захлопнут, что боится говорить о самом важном, о том, что театр это и есть его жизнь. Он вырос в обществе, где именно о важном-то говорить и непринято, где надо все время с вежливой отстраненностью болтать о всяких пустяках и демонстрировать непрекращающуюся, вечную, пусть и мифическую, успешность…
Боже мой, конечно же, он поедет на фестиваль. Свободное время до новых съемок есть. Билет в Россию есть, срок визы не истёк. Поедет!
В полдень в его лондонский особняк нагрянула Ребѐкка, его землячка, бывшая юная соседка, жившая когда-то рядом с его домом в До́рсете. После многих лет они случайно встретились в Лондоне и возобновили знакомство. Умная ироничная Ребѐкка обнаружила полнейшее равнодушие к его славе и этим пленила его. В свои сорок лет она уже снискала репутацию классного фотографа. Этой черноволосой хрупкой стремительной особе с мальчишеской юркой грацией всегда удавалось быть в эпицентре и схватить самую сердцевину в ситуации, в людях. Ее фотографии становились настоящим зеркалом человеческих характеров и происходящих событий, поэтому многие заинтересованные издания не прекращали усилий заполучить её снимки.
Войдя, она нервным движением бросила свое гибкое лёгкое тело в викторианское кресло и сразу же, без промедления, на одном дыхании шарахнула в Томаса новостью:
– Тони Га̀ррета задержали прямо в аэропорту. Сегодня в шесть утра он своим звонком меня разбудил.
– Разбудил..? – повторил Том, еще не понимая, о чём это она.
Тут у Ребѐкки замигал и загудел смартфон, она отвлеклась. И стала резко бросать в трубку:
– Да-а?! Так, значит, только что выпустили? Искали оружие? Ну и уроды! Приезжай сюда, нужно хотя бы выяснить, что к чему.
То̀мас Мэ̀ррил осуждающе прицо́кнул языком, едва Ребѐкка оторвалась от телефона.
– Очень странно, Бѐкки, что ты приглашаешь гостей – в мой дом.
– Гостей? – удивилась та. – Это ты о То̀ни? Он же твой друг… едва не с пелёнок… Или ты уже, как все эти трусы из Би-би-си, не хочешь его видеть?!
Том устало возмутился, заранее зная, ему не одержать верх над убеждённым упрямством Ребѐкки:
– А почему они не хотят его видеть, ты в курсе? Потому что он чуть ли не в военных действиях участвует. Это недопустимо для журналиста.
Ребѐкка гневно тряхнула шевелюрой и заявила:
– Так… Минуточку… Маленькое уточнение, Том… Не в войне тут дело. Ведь столько репортёров торчит и в Ираке, и в Сирии. Дело в том, что он почему-то попёрся – к русским, в восточную Украину… И ты боишься теперь, что тебя, с твоим увлечением русскими, о котором все знают, каким-то образом притянут к делу То̀ни Га̀ррета… То̀ни уже сейчас для всех вроде зачумленного… А ты – его лучший друг, да еще постоянно сам ездишь к русским… Слушай, я в этой политике, конечно, буксую, даже не знала до этого лета, что Россия и Украина разные государства, но ты, по-моему, – неправ…
То̀мас насуплено молчал. Не мог же он открыто дистанцироваться от То̀ни только из-за того, что тот вляпался в политику, связанную с Россией. И от России, которую демонизировали все западные СМИ, опять же по политическим мотивам, тоже не мог отказаться. В его мозгу сейчас крутилась фраза из собственного интервью, слова, когда-то казавшиеся ему очевидными, почти общим местом: «Россию надо воспринимать без стереотипов холодной войны». Би-би-си же и показало это интервью.
Том захотел вернуть себе равновесие и, извинившись перед Ребѐккой, вышел в сад, лелеемый им с такой любовью, что даже садовнику не доверял его. Сам здесь подолгу занимался посадками. Он, как и японцы, постигающие дзен, глядя на свои маленькие бонса̀и, – тоже находил радость в созерцании своих карликовых сосен и пихт в бочонках, покрытых мхом и вьюнками. Он тоже, почти по-японски, старался приручить природу в своём саду, сохраняя в нем вид природной нетронутости. Обожал размышлять в этой природности, растворяться в её ароматах. Здесь у него имелось даже маленькое озерцо, выложенное галькой вперемежку с нежнейшим мхом. В озерке плавало двое утят, доверенных его заботам одним из многочисленных приютов защиты животных. У одного из маленьких водоплавающих его беспокоила поврежденная лапка, и Том потратился на лучшего ветеринара, выхаживал птенца, баюкал его у себя на руках, лично кормил размоченным в молоке зерном. Ребекка посмеивалась тогда над ним: «Добрая ты душа. И при этом-то – всё злодеев играешь».
Ребѐкка не могла дождаться возвращения из сада расстроенного Тома, не выдержала и шагнула за ним. Смартфон в ее руке продолжал призывно мычать, но она не откликалась. Бродила среди садовых растений, пока не наткнулась там на старинную потемневшую мраморную скульптуру мальчика, потрескавшуюся, с отбитыми руками и носом. И только тут неподалёку разглядела стоявшего в раздумье То̀маса. Она рванулась к нему, невзначай задев фигуру из мрамора. Та повалилась, но, слава богу, в мягкую траву, и не раскололась. Ребѐкка с опаской глянула на Тома, зная, что он дорожит этим антикварным объектом. Но Том не видел ничего, он был поглощен тревогой перед внезапным десантом То̀ни Га̀ррета. Ребѐкка же, как могла, поставила, потемневшего каменного калеку, прислонив его к ближайшей кадке с сосновым банса̀ем.
Пыхтящая, сердитая, она еще больше распалилась, когда увидела за стоявшим к ней спиной Мэ̀ррилом нелепую большую размалеванную скульптурную фигуру, перед которой он в задумчивости застыл. Это была большая глянцевая лягуха – шутовской презент То̀ни Га̀ррета, представленный со смехом своему другу как символ эволюционных трансформаций, поскольку лягушка претерпевает ряд изменений: сначала в виде икринки; затем она становится головастиком, который может существовать исключительно только в воде; потом развивается и превращается во взрослую особь, окончательно принимая лягушачий вид; и в этом виде она уже способна не только пребывать в водной среде, но и прекрасно чувствовать себя на земле. Для То̀ни Га̀ррета она олицетворяла посредничество между двумя мирами и транформацию. По его мысли, подобные транформации характерны и для человека. И не только касательно его физических изменений, но и духовных состояний и преображений. Одних только пороков и ложных представлений в человеке столько, что для преображений – поле непа̀ханное, считал То̀ни.
Томас из вежливости не решался выкинуть сие ехидное подношение друга. Наглая жаба, разинув рот, беспардонно лы̀билась и, казалось, возвещала: «Привет, придурки!». Это была воплощенная дерзость самого То̀ни Га̀ррета, его издёвка над любителями не замечать сложности реального существования, над их желанием ни во что не вмешиваться, отгородить своё «тёпленькое болотце», свой маленький островок блаженства от противоречий жизни, чтобы комфортненько жить в собственном мирке, без изменений. Видимо, теперь Том увидел в нелепой лягушке неприятный для себя намёк… Он остановился перед ней и зло смотрел в нахальную жабью морду. Падение антикварного мальчика так и осталось им незамеченным.
И тут затрезвонил дверной звонок, слышимый и в саду. С невероятной быстротой То̀ни Га̀ррет свалился им на голову. То̀ни был тоже из До́рсета. На пять лет старше Ребѐкки. Неутомимый живчик, прирожденный телерепортер. На хорошем счету у боссов. Его мнение имело для них значение. Ребѐкка, как всегда, подтрунивала: «Да к мнению нашего Тони прислушивается весь кабинет министров в полном составе!». В общем, ему светила отличная карьера, считай, она уже обеспечена. Но случилось нечто, что перечеркнуло лучезарную будущность.
В ноябре 2013 года То̀ни Га̀ррет, как и многие другие британские, да и не только, журналисты, уехал на украинский Майдан. Снимал щедро, подробно живописуя жестокость милиции спецподразделения «Бе́ркут», защищавшего от возмущённых повстанцев правительственное здание. Он, как и остальные репортёры, брал интервью не только у протестующих, но и расспрашивал каждого прохожего.
Постепенно у То̀ни, в отличие от собратьев по профессии, начал проглядывать едва уловимый скепсис в отношении майданных активистов. В его репортажи уже попадали сцены провокаций и агрессивные вакханалии националистов-бандеровцев. Появлялись кадры с молодёжью, готовящей зажигательную смесь для использования против стоящих в защите милиционеров. Он стал упоминать, что милиционеры-«бе́ркутовцы» не используют огнестрельное оружие, им запрещено его использовать против граждан, у них, кроме резиновых дубинок, касок и щитов, ничего нет для отпора наглеющим молодчикам Майдана – а те в них кидали «коктейли Молотова». Он рассказывал о своих приятелях-репортёрах, зверски избитых майданными националистами. Его камера начала снимать самые драматичные моменты ожесточённого противостояния государственных служителей правопорядка и оголтелых украинских протестующих, поддерживаемых фашиствующими западѐнцами. Показал и агрессивные неонацистские шествия в центре Киева с портретами Бандеры и Шухевича в черных одеждах и балакла̀вах с факелами, как в Германии перед Второй мировой войной. Очень походило на реанимацию духа фашизма. Это мысль вспыхнула на долю секунды в его сознании, но он не хотел признавать ее и гнал прочь – ну не может же этого быть после разгрома фашизма в Германии, это просто невозможно.
В его профессиональной среде все чаще стало звучать, что у То̀ни – «свой зритель», думающий, ищущий правдивую информацию, а не подслащенную розовую водицу-киселёк. Даже недруги повторяли это.
Но кадры беснующейся майданной толпы и неофашистские процессии, отвергнутые большинством британских телеканалов, так и не прорвались к английскому зрителю. И британцы продолжали наслаждаться телевизионными реалити-шоу и мыльными операми.
В марте 2014, после победы толп протестующих Майдана и формирования нового временного правительства Украины, мгновенно признанного Западом законным, все иностранные журналисты, как по команде послушно зачехлили камеры и разъехались по домам.
Но Га̀ррет не спешил с этим. Телебоссы, встревоженные его отсутствием, потребовали вернуться и на месте подготовить материал по Майдану. Да поживей! То̀ни недоумевал – какой такой материал он может подготовить в Лондоне? Если вернётся, что он там может наснимать вдали от места событий? Придётся только всякие слухи, байки да фейки собирать!
И То̀ни выкинул фо̀ртель. Командировочные его давно закончились, но он на свои средства поехал самостоятельно наблюдателем в Крым, жители которого выступили против нелегитимно появившейся в результате Майдана новой украинской госвласти.
То̀ни погрузился в это крымское бурлящее политическое море. Он активно курсировал по нему с камерой на плече. Приставал ко всем барахтающимся в нём со своими сомнениями. Говорил с теми, кто смело и уверенно плыл к своей цели. Выяснял мотивы сочувствующих победившему Майдану, пытающихся грести против течения крымского сопротивления, но не справляющихся с этим и проносящихся мимо. Не проигнорировал он и ажиотаж крымского референдума.
Наконец, он вернулся в Лондон, и 1 апреля, по злой иронии в День дураков, опубликовал свой привезённый объективный репортаж. То, что он явил миру, многие восприняли как па̀сквиль. Боссов скособочило от него, и они придушили неугодную информацию, запретив репортаж тиражировать в эфире. Ютуб заблокировал его. И Тони погнали метлой с Би-би-си.
Он поначалу не сильно расстраивался, думая, что при своей известности не останется без работы, но не тут-то было. И телевидение, и радио, и газеты словно окружили его стеной молчания.
Публика по-прежнему любила его. Приходили сообщения от зрителей, возмущенных его увольнением. Он ведь поддерживал славу Би-би-си и в Ираке, и в Сирии, и в Афганистане. То̀ни еще не успел осознать, что с ним стряслось, как снова помчался на Украину, опять за свой счёт.
В восставшем против новой майданной власти Мариуполе он вновь бросался со своей камерой повсюду.
А потом, в середине мая 2014 года, грянул скандалище. На первых полосах всех британских газет запестрели заголовки статей, вопивших, что То̀ни Га̀ррет – «агент Кремля», а Россия крайне демонизировалась. Сначала одна влиятельнейшая газета задала тон, а все таблоиды только и ждали случая расправиться с ним. Вся пресса замычала разом. И понеслось. Одно за другим. Отобрали все звания, все почетные степени университетов, выкинули из всех жюри, заморозили счета в банках.
Но То̀ни всё равно было не заткнуть. Безусловно поддержала его только Ребѐкка. Жена устроила грандиозную ссору и пригрозила уехать и забрать детей, говоря, что он губит их будущее.
Закадычные друзья, вроде То̀маса Мэ̀ррила, страшно растерялись. То̀мас Мэ̀ррил с его актерской сверхчувствительностью был склонен преувеличивать угрозу для себя. Актер, вообще, существо зависимое, а кинопродюсеры не менее щепетильны в вопросах политики, чем телевизионное начальство. То̀мас, несмотря на сердечную привязанность, решил аккуратно дистанцироваться от То̀ни.
Но вот То̀ни здесь – в его доме. Взирает на него пронзительными черными глазами. Всматривается в лицо. Чернявый, живой, из тех, про кого говорят, шило в одном месте. Он сразу же схватил предложенный Ребѐккой стакан воды и выпил его с жадностью, задрав голову, двигая жилистым кадыком на щетинистой шее.
То̀мас как будто впервые увидел То̀ни. И разглядывал его весьма неодобрительно. Всё-таки они – полные антиподы друг другу. То̀мас любил хорошее вино, классическую музыку, элегантность и сдержанность во всем. Он слыл интеллигентным человеком. У То̀ни же вкусы были попроще, и ходил он, размахивая руками, как ярмарочный зазывала. Запросто мог выйти в люди в мятом пиджаке, скрученном галстуке. А когда задумывался, запускал в волосы всю пятерню, и чесал с такой яростью, точно хотел снять скальп. Брился он два раза в день, но к вечеру всю равно зарастал чёрно-синей щетиной настолько, что сразу приобретал вид субъекта, живущего под мостом в картонных коробках.
Еще он обожал уличную еду, пакистанскую шаурму и классическую английскую картошку «фиш-энд-чипс». Частенько заляпывался едой. Томас только брови поднимал. Но встречая Тони в бедных кварталах, Том замечал, что тот хорошо там вписывался в обстановку. Там репортер был в своей стихии, излучал своеобразное обаяние.
Оно, казалось, действовало даже на уличных собак. Привычная картина. Тони идет, болтая по мобильнику, отчаянно жестикулируя, а вокруг него собирается свора огромных лохматых бездомных псов. Псы, можно подумать, заражались его непринуждённостью, гавкали, гарцевали, пританцовывая, улыбались во всю пасть и преданно крутили хвостами. Он никогда не обижал их. Как-то раз одна собака увязалась за ним, и То̀ни завалился с ней в особняк друга, и она, шуруя хвостом со скоростью пропеллера, разбила у То̀маса индийскую вазу, принадлежавшую ещё его дедушке, долгое время жившему в Индии. А в другой раз приведённая им щенная бродяжка одним махом сожрала индейку, над которой колдовала Ребѐкка. То̀ни всегда щедро делился с этими божьими тварями, скармливал им то, что ел сам, покупая что-нибудь на улице, – шаурму ли, картошку ли. Те, в свою очередь, признавали в нём своего вожака. И он умел держать себя вожаком. Если какая-нибудь барбосина распоясывалась, то получив от То̀ни свернутой газетой по носу, и не думала рычать или кусаться, воспринимала это понимающе. А если ему надо было остаться одному, или пойти по своим делам, он издавал определённый звук и делал известный только ему одному жест рукой – и пёсья кавалькада послушно укладывалась на траву на обочине, не смея ослушаться.
Дети То̀ни выглядели противоположностью ему. Особенно забавно то, что при этом его мальчишки, десяти и двенадцати лет, лицами до смешного похожи на него. Но в отличие от него, такие чистенькие в своих превосходных твидовых костюмах, такие причёсанные и примерные, с подстриженными челочками. Просто образцовые ученики дорогой частной школы. Но во всём этом в них укрывалась отцовская чертовщинка неповиновения. Даже Ребѐкка однажды, смеясь, заметила, что в пай-мальчиках То̀ни больше скрытой независимости и непокорства, чем в его косматых полка̀нах.
Жена То̀ни не работала, воспитывала этих пацанов и великолепно вела дом. Но что-то в ней вызывало у окружающих неприязнь, она мало кому нравилась. Разговаривая со знакомыми, имела привычку высокомерно прищуриваться, будто одолжение делала. Даже феминистки не любили жену Га̀ррета, считая, что она идеальная «рабыня патриархального бытового уклада мира мужчин», хотя она и отчитывала мужа, как школьника.
Супруги друг с другом в последнее время не ладили. И То̀ни в собственном доме чувствовал себя неуютно. Все сочувствовали, обожали его – и не выносили его правильную женушку. То̀мас находил это несправедливым, он всегда был на стороне женщин, и слегка журил Ребѐкку, которая за глаза зло вышучивала вторую половину То̀ни.
Всё связанное с То̀ни не́когда веселило То̀маса, кое-что забавляло, а иногда и удивляло его как человека более сдержанного и скрытного. Однако сейчас, в новых обстоятельствах, всё в нём начинало бесить Мэ̀ррила. Он теперь критически смотрел на друга.
Донельзя взвинченный, То̀ни, выпив воды, отдышался и сразу же взбудоражено обрисовал инцидент, выведший его из себя:
– Только я вошёл в зал прибытия – тут же скрутили… Да еще так грубо… Потом держали два часа… Вот идиоты – искали гранаты и автомат, с которыми я якобы не расстаюсь, по их дебильному представлению… И знаете, что ещё ко всему прочему? Мне жена говорит, будто я попал под дурное влияние Томаса.
– Бред! – резко, как ужаленный вскочил с места Том.
– Тони, ты его не дразни, – предостерегла Ребѐкка, – он теперь вон какой нервный.
– Но все ж знают, я-то Россией никогда и не интересовался, – вернулся Тони к своей теме. – А вот Том – да… Том, ты ведь с детства всем этим увлекался, вот жена и ищет в тебе виноватого. Но я-то знаю, ты тут совершенно не при чем. Я углубился в проблемы на Украине – из злости, даже из вредности. Кто они такие, чтобы запрещать мне видеть всё своими собственными глазами?! За меня и за людей решают, что нам смотреть – так, что ли?.. – и видя помрачневшее лицо своего товарища, сразу повесил нос, – да ладно, Том… я понял тебя… Зря я пришёл…
То̀мас смутился:
– То̀ни, я совсем не имел ввиду…
– Почему же! Я ведь обо всем догадываюсь. Я побывал там – и это изменило отношение ко мне знакомых, близких… Изменило и меня, все мои представления… Знаешь, Том, я видел там необыкновенных людей… Именно там мне вспомнились твои рассказы о России… В своё время я не обращал на них особого внимания, слушал и не слышал… А там увидел – и почувствовал: вот оно, здесь Толстой, вот здесь «Война и мир». Вот эти люди, вот эпос, они существуют сейчас, в 2014. Это удивительные люди… Готовы отдать жизнь за дру̀ги своя… А мы… журналисты, политики, обыватели… не понимаем и судим их… Я вспомнил многое из твоих слов… Но ты остановился на полдороге…
Том нахмурился:
– О какой это ты дороге?
– Да о такой – ты не пошел дальше… В тебе была определенная самостоятельность мышления, ты через русскую литературу увидел всю нашу мелочность, весь наш расизм, всё наше двуличие, обман… Мы так уверенно раздаем оценки по всему миру. И мы даем право людям в Киеве восставать против законно избранной власти. Но когда так же восстают в Мариуполе несогласные с майданным нелегитимным захватом власти в Киеве – мы называем их «нецивилизованными»… Потому что – то, что в Киеве, нам на руку… А то, что происходит в Мариуполе, – рушит наши политические планы… Разве это не двойные стандарты? И ты тоже, Том, оказывается, пронизан этим лицемерием. Едва я сказал тебе, что герои русской литературы существуют сейчас – ты боязливо отворачиваешься. И становишься снобом, вроде моего начальства с Би-би-си… Впрочем, ты всегда больше любил литературу, чем реальную жизнь.
То̀мас возмутился:
– Но, То̀ни, ты слишком откровенно поддерживаешь одну из противоборствующих сторон. А это как-никак идет вразрез с журналистской этикой. Да и с любой другой этикой тоже…
– И какую же сторону я поддерживаю? – усмехнулся уголком рта То̀ни. –
А-а… ну да, кажется, я поддерживаю людей, регулярно подвергающихся «демократическим» бомбардировкам с молчаливого согласия Запада, то есть нас с вами. А это ничего, что у этого самого Запада вошло в привычку сжирать правительства и государства, которые им – в помеху? Да ещё и прикрываться «демократией»…
И замолчал, разочаровавшись в разговоре. Стал нехотя бесцельно перемещаться по гостиной, натыкаясь равнодушным взглядом на скопище антикварных вещей, доставшихся То̀му от дедушки. Его дедушка Бен Линн когда-то владел огромноми чайными плантациями в британских колониях – в Индии, в Австралии. И многие предметы интерьера дышали стилистикой той культуры. Роскошные тёмно-бордовые ковры, низкий пестрый диван в подушках с таинственными цветами и загадочными птицами, кованный журнальный столик на гнутых массивных ножках, тяжелые вазы, украшенные яркими геометрическими орнаментами, зеркала в массивных рамах. Всё броско, сочно. Не обошлось и без религиозно-философских скульптур: многорукого танцующего Шѝвы и Ганѐши с головой слона. То̀ни проходя мимо, засмотрелся на серебряного Бу̀дду, улыбающегося во сне, прикрыв тяжелые веки.
– А я не хочу улыбаться только потому, что сплю… или потому что меня усыпляют! – вдруг взбеленился он. – Не хочу блаженствовать в вашей тупой нирва̀не! Нет уж, увольте! – загремел он, наэлектризованный эмоциями.
Перевел глаза на стеллажи с пластинками. Привлекло фото на конверте: наклонившийся над клавишами величайший пианист-виртуоз Го̀ровиц. Но То̀ни упрямо мотнул головой, словно не давал соблазнить себя дивной гармонией звуков. Передёрнулся, не замечая, что То̀мас наблюдает за ним.
Мэ̀ррил достаточно хорошо знал друга, чтобы суметь прочитать его мысли: То̀ни, конечно же, осуждал его за попытку укрыться в своей «башне из слоновой кости».
А То̀ни бросил взгляд на портрет миссис Мэ̀ррил на стене, в широкой блузе и пестрой хиппарской юбке, улыбающуюся одними уголками рта с заговорщическим видом. Он часто говорил То̀масу, что её загадочная полуусмешка на картине, затаённая в прищуре глаз, точно отражала присущий ей внутренний настрой «себе на уме». Мать друга всегда вызывала симпатию у То̀ни. И сейчас ему вспомнилась её бесстрашная верность своим взглядам и мечтам.
Ребѐкка растерянно поглядывала то на одного, то на другого и, в конце концов, схватила за руку То̀ни, подтащила его, сопротивляющегося, к Мэ̀ррилу и сделала примирительный жест, попытавшись одновременно обнять их обоих. Но у нее ничего не вышло. Оба оставались жесткими, деревянными. Впрочем, плечи То̀ни на ощупь были более поддатливы, его смягчало чувство своей правоты. А Томас прямо-таки уперся. Однако бо́льшую жалость у Ребѐкки почему-то вызывал именно То̀мас. Безусловно, его мучил стыд за свою трусливость, и за ту глупую резкость, которой он эту трусливость прикрывал.
То̀ни ушел, так и не найдя понимания. После – распрощалась и Ребѐкка. Она сослалась на какое-то неотложное дело, хотя То̀мас с Ребѐккой этим вечером должны были отправиться на благотворительное мероприятие – концерт классической музыки, который устраивал русский олигарх, желавший сделать себе пиар меценатством. Уже на пороге у То̀маса, как он этому ни противился, всё же сорвалось с языка:
– Ребѐкка, ты, конечно, тоже осуждаешь меня…
– Нет, почему же? – она отвела глаза. – Судить кого-то – верх самонадеянности. Я просто… в смятении.
Оставшись один, То̀мас в скверном настроении дотерпел до вечера и заставил себя пойти прислониться-таки к музыке, раз уж его пригласили. Может, полегчает.
На музыкальную вечеринку, несмотря ни на что, они с Ребѐккой пришли оба, но каждый отдельно. Музыка не развеяла тоску Мэ̀ррила. Ребѐкка тоже скучала. Это был типичный бал тщеславия для нуворишей.
Ребѐкку, чисто по-женски, привела в восторг присутствующая там арабская принцесса в изумительном струящемся муслине, с закрытыми руками и плечами, но с дразнящим вырезом, где в смуглом декольте мерцал изумруд. Такой же изумрудный тюрбан украшал ее красивую голову. «Бывают же такие женщины!» – подумалось ей. Но впечатление испортил подошедший к диве старый-престарый муж-шейх, едва доходивший ей до плеча, с вислыми щеками.
Взгляд Ребѐкки выцепил ещё и высокого волоокого юношу-индийца, сверкавшего яркими белками чёрно-агатовых глазищ. Выделялся он и национальным одеянием, в Индии называемым «шервани», – элегантным светло-бежевым френчем до колен из шёлковой ткани с очень изысканным жаккардовым рисунком. Судя по всему, черноокий бог был из индийской знати. Его шикарная чёрнокудрая шевелюра, ниспадавшая на плечи из-под парчовой чалмы, притягивала взоры гостей. Особенно блондинистых юных дев с золотистой кожей без единого изъяна, что фланировали вокруг в своих дизайнерских шифонах. Они напоминали тропических птичек, слетающихся в поисках нектара к экзотическому цветку. Их вертлявые головки цедили напитки, пересмеивались, а порой возмущённо топорщили свои клювики, готовые по какой-то причине рассориться между собой, вспорхнуть и улететь прочь. Но опять успокаивались и чирикали дальше, трепеща крылышками-воланами своего яркого оперения и нет-нет да и поглядывая на себя в разных зеркалах, достаточно ли хороши.
За всем этим балом самовлюблённости и гордыни наблюдал, как и Ребѐкка, сдержанный, полный невозмутимого достоинства, китаец, стоявший у одной из колонн зала. В глазах его, казалось, притихла бесконечная мудрость Востока. Он задумчиво, с философическим спокойствием взирал на это общество – как взрослый снисходительно смотрит на играющих ребятишек, пытающихся казаться старше своих лет и вырядившихся в родительские одежды.
То̀мас внезапно заметил, что мир вокруг него, да и в нём самом, трансформировался с момента, как только он понял своё малодушие и стремление избежать неприятностей. Его артистическое нутро уже не так жадно тянулось вовне – к рассматриванию типов людей, их повадок, как бывало раньше. Он витал внутри себя, в своих сомнениях. А все из-за То̀ни! Зачем, почему чертов То̀ни оказался его лучшим другом! Зачем он, То̀мас, сейчас предает его! Черт дернул То̀ни свалиться на его голову с его русскими впечатлениями и восхищениями! Уж не является ли его, То̀маса, собственная увлечённость русскими, его интерес к их культуре – игрой? Это что, у него не по-настоящему? То̀масу стало неприятно от всплывавших в нём вопросов. Как-никак внутренне он был уверен в своей искренности. Но неужели ему всё-таки было удобнее лишь выдумывать русских? А они, неугомонные, вот врываются в его жизнь, не желая оставаться буквами на бумаге… Существовали бы себе в книгах, статьях, где читаешь о них, и можно поразмышлять о русской душе, её страстях, смыслах… Так – нет же…
Вот и здесь – подрулил к нему, держа бокал с вином, развязный тип по имени Виктор, русский журналист, якобы беженец, или, как он сам отрекомендовался, жертва политического давления. Он, играя приторной улыбочкой, пригласил Томаса на авторский вечер какого-то малоизвестного писателя из России Еропкина.
Для То̀маса Мэ̀ррила всякий писатель из России виделся некой мистической фигурой, он каждому мысленно примеривал бороду Толстого. В каждом русском писателе он пытался безуспешно найти черты нестяжа̀теля и подвижника. И сам То̀мас, сколько бы не смеялся над собой, над своими ожиданиями и стереотипами, не мог от них избавиться.
Виктор позвал его в местный модный книжный магазинчик, который держала русская же мигрантка, супруга опа́льного у себя на родине бизнесмена.
– Там у нас маленький русский Лондон, – хихикнул Виктор.
– Но я бы не был так в этом уверен, – опротестовал самодовольное высказывание неприятного типуса Том, – потому что сейчас в Лондоне русские повсюду, никуда не денешься от этого.
– А вам это, похоже, не очень-то нравится, – вставил Виктор. – Однако вы же, как мне известно, вроде увлекаетесь русской культурой, национальным характером… Но смею вас уверить, вы не знаете русских… Вы придумали себе неких идеальных русских из XIX века. Но их нет в реальности. Нет уже тех, кого вы хотели бы видеть…
И тут у Мэ̀ррила внезапно вырвалась реплика, которую не следовало бы выпускать:
– Да что вы?! А вот, оказывается, – есть. Они есть, просто они не в Лондоне, и уж тем более не в вашем «маленьком русском Лондоне» – а в Мариуполе, на Украине. И в России. Мне То̀ни Га̀ррет об этом рассказывал, журналист, вернувшийся из горячей точки.
Виктор чуть отстранился от него, конечно, легонько, неуловимо, это нельзя было бы назвать шараханьем в сторону. В Британии, известной своей чисто английской выдержкой, даже русские стараются вести себя сдержанно. Он лишь чуть отодвинулся и скептически приподнял брови. То̀маса вдруг донельзя разозлила его важная мина: вот ведь, просто сам оракул пред тобой. И стремление его отдалиться при имени То̀ни – ожгло сердце. То̀мас резко произнёс с несвойственной для него бесцеремонностью:
– Что, это имя табу̀ в городе? И вы, я вижу, – уже в курсе.
Виктор впал в обиду, резво, как из пулемёта застрочил в оправдание:
– Кое-что слышал о нём… Но я ведь его не осуждаю за его несообразные репортажи из Мариуполя, он был вынужден, его наверняка заставили. Его ведь могли пытать, мистер Мэ̀ррил. Поймать и угрожать расправой…
– Кто же?
– Да агенты ФСБ. Вы разве не знаете, что ими нашпигован восток Украины?
– Какой вздор! – буркнул То̀мас.
–– А вы категоричны, – Виктор прикусил нижнюю губу. – Ну, ну… не будем ссориться… Мы поладим… Надеюсь увидеть вас на нашем мероприятии…
Среди публики, собравшейся на авторском вечере писателя, То̀мас оказался единственным англичанином, да еще и знаменитостью. На откормленном сочащемся себялюбием лице литератора при виде его мелькнуло хищно-радостное выражение, которое он тут же погасил. Переводчица, ничем не занятая, с очевидным удовлетворением и готовностью подсела к Мэ̀ррилу. Она принялась объяснять ему непонятные места в речи сего сочинителя, подгоняемого бесом тщеславия.
– Вообще, как влияет на нас классическая русская литература? – говорил Еропкин, толстозадый малый лет сорока. – Она содержит и много негативных сторон. Ведь что привил нам наш хваленый Достоевский? Культ страдания… А эти его мечты о русском Константинополе… Мечты о миссии русского народа, об особом пути… Все это привело нас только к сегодняшней изоляции… от всего цивилизованного мира. Так что, Достоевский в настоящее время вреден, господа. А что же Толстой? У него – всё тот же народ-богоносец: учитесь правде у простого мужика, опрощайтесь, нюхайте портянки… Мы все, вся наша русская интеллигенция, всегда слишком идеализировали народ. А народ оказался гробом с гниющими потрохами. Вскрыли гроб – ударил запах. По Крыму все это увидели…
На этом месте какая-то нежная розовощекая девушка исступленно зааплодировала. Через секунду и зал взорвался общими овациями.
То̀мас Мэ̀ррил, оглядевшись, увидел, что не хлопает он один. Ему даже стало неловко, но заставить себя присоединиться не мог, очень уж смехотворно всё прозвучало. Да более гениальных и более русских писателей, чем Достоевский, Толстой – пойди, ещё поищи! Русский дух у Достоевского так глубоко раскрывается – всеми своими гранями, всей своей сложной потаённостью, противоречивостью, размахом, неохватностью, и при этом всечеловеческой вместимостью, что едва ль кому ещё такое под силу! А этот фарисейчик, сбежавший из России, как только там возникли неприятности, тут смеет сучить своими мелкими мыслишками, полагая, что он в силах соперничать с такими гигантами. В пересказе переводчицы слова Еропкина отдавали ещё более невероятной гнусной мерзопакостью.
Переводчица тоже спохватилась – углядев всеобщий восторг, но не углядев всеобщей глупости. Зачем-то извинилась перед Мэ̀ррилом, вскочила и вознесла рукоплескания. То̀мас сидел раздраженный, негодующий, хотя на лице его сохранялась вежливо-отстраненная маска.
Литератор Еропкин, насладившись своим торжеством, закончил речь, после чего принялся читать какие-то самодеятельные стихи о митингах в Москве. То̀мас даже не мог вдуматься в их смысл. У переводчицы получалось плоховато: ни ритма, ни рифмы, ни мелодики. Впрочем, вряд ли тут была только ее вина.
Он от нечего делать начал смотреть по сторонам. Магазин, как ему уже было известно, купили русские, одни из тех, из-за кого цены в городе взлетали в космос и заставляли страдальчески морщиться местных лондонцев.
Подобные же русские типажи в 1990-х, например, просили завернуть им содержимое бутиков «Шанель», «Армани», «Гуччи», «Прада» – небрежным взмахом ладони от угла до угла. И без всяких банковских карточек – просто отслюнявливали наличку в оплату. Такие же субчики устраивали гонки на дорогѝх спорткарах. А их женщины, эффектные супермодные блондинки, вызывали у простых англичанок в футболках и джинсах приступы острой неприязни и брезгливости.
Типы такого рода незаметно под себя меняли город, куда приехали.
Они считали главным достоинством в нём именно роскошную жизнь. Не понимали, что, собственно, роскошная жизнь в последнее время вызывала, напротив, показное недовольство современных западных политиков-прогрессистов, что её они как раз хотели бы закамуфлировать, естественно, не борясь с самой сутью финансового превосходства в верхах общества.
Появилась даже соответствующая риторика, рассчитанная на наивность и недомыслие в народе: о «тихой роскоши», «постро̀скоши», о соблюдении «этичного подхода к вещам», «экологичности потребления». В сущности, в этом проявлялось лицемерное намерение переклеить былые ярлыки, сменить их на новые с надуманными названиями. Желание прикрыть фиговыми листочками богатство высших буржуазных слоёв. Стремление завуалировать демонстрацию ими изобильного роскошества, исключительность их статусного господства – лишь убрав это из поля прямого обозрения низов, создав некий заслон. Типа – всё это придётся демонстрировать на закрытых раутах и не раздражать остальное население. Иначе недалеко и до социального взрыва.
Но приехавшие русские, и нувориши всех мастей, как раз и ценили в Англии именно это богатство, демонстративное богатство, эту экс-колониальную роскошь, они жаждали в ней купаться. И утрировали её, кто как мог, и насколько позволяли объёмы вывезенных капиталов.
Вот и русские владельцы книжного магазина, где сейчас выступал писатель Еропкин и мучился То̀мас Мэ̀ррил, содрали со стен приобретённой недвижимости серенькую неприглядную обивку. И заменили ее шикарными темно-красными обоями с индийско-восточным орнаментом, обили по низу бордовыми панелями, наставили повсюду посеребрённых слонов величиной с небольшую собаку. На стены хозяйка распорядилась повесить картины индийской же тематики, правда с блошиного рынка, на большее потратиться – жаба душила, а пустить пыль в глаза хотелось. Вся эта бутафория задумывалась в подражание ни с чем не сравнимому ост-индскому стилю. Но по вложенному в это вкусу и культуре, естественно, не дотягивала до оного, что остро ощущал То̀мас Мэ̀ррил, впитавший наследованный дедовский опыт жизни в британско-колониальной Индии.
Еропкин продолжал самодовольно мурлыкать свои вѝрши. Но То̀мас улизнул по-английски, не дослушав. Тем не менее присутствующие это охотно простили ему – как представителю «цивилизованной Европы», почтившему их междусобойчик.
Осадочек от Еропкинской дымовой литзавесы, рассчитанной, скорее, на отмывание репутации этого проходимца и придания ему статуса политически гонимой творческой личности, так въелся в голову То̀маса, что мешал ему мыслить позитивно.
Разбив вдребезги тягучие рассуждения Мэ̀ррила о своей жизни, в особняк вдруг впорхнула Ребѐкка, преображенная, свежая, смуглая, в тонком бледно-розовом платье вываренного шёлка с тонкими проблесками люрекса. И потребовала сопровождать её на день рождения к одному из её русских приятелей, из той породы, о которой говорят «человек мира», то есть без родины. Он издатель, в журнале которого всегда охотно размещали её авторские, неоднозначные по содержанию, а иногда политически скандальные фотографии.
Отказать можно было кому угодно – только не Ребѐкке. То̀мас смирился. Как в броню, облачился в доспехи смокинга с бабочкой. Была бы возможность, с радостью нацепил бы и шлем с забра́лом – но увы.
В просторном доме этого приятеля Ребѐкки тоже оказалось много русских, чуть ли не больше половины, под какими только предлогами ни прибывших сюда с миграционными потоками в разные годы.
Хозяин вечера, олигарх, высокий, корректный джентельмен, выглядел совершенным европейцем. Он лично вышел встретить Ребѐкку и То̀маса Мэ̀ррила. В его тени мерцала его последняя жена, юная пугливая милашка, лет на тридцать моложе, она не проронила ни слова, ни по-английски, ни по-русски.
Шумная компания на этом па́ти развлекалась, находясь в свободном движении и не отказывая себе ни в горячительных напитках, ни в деликатесах, под которыми ломились шведские столы, ни в танцах до изнеможения под живую музыку. Некоторые предавались лёгкому флирту. Другие – игре в преферанс или бридж. Кто-то увлёкся приятными беседами, обсуждениями новостей.
Ребѐкка казалась веселой, оживленной и болтала с виновником торжества о последних литературных новинках, вышедших в его издательстве. Она шутливо пеняла ему, что в его планах мало места для русской классической литературы. Он так же шутливо отбояривался от её доводов, поглядывая на молчавшего Мэ̀ррила, всё ещё погружённого в свою внутреннюю разла́дицу. Не дождавшись от Томаса реакции, олигарх посерьёзнел и адресовался уже лично к нему сам:
– Вот вы, мистер Мэ̀ррил, тоже восхищаетесь русской литературой. Особенно Достоевским… А не думаете ли вы, что Достоевский в вашем европейском мире – это нечто иное, нежели в нашем… Конечно, вы в своем обустроенном упорядоченном мире богатства, благосостояния, из своего, так сказать, прекрасного далёка – можете себе позволить восхищаться нашими художественными образами страдания и протеста. А мы, было бы вам известно, так живем… мы чувствуем по Достоевскому… В общем, по большому счёту, у нас из-за этого и некоторые реформы провалились… Да-да, в 1990-е у нас был шанс построить нормальное капиталистическое государство. Но нас хорошо тормозну́ло тогда духовное наследие в менталитете нашего народа, доставшееся от русской литературы критического реализма. Мы не подумали об этом, не поработали как следует над этим… И ничего у нас не получилось. А сейчас нам советуют, что надо побороть ещё и пережитки сталинизма… как будто это что-то решит… Но не в сталинизме дело, уж поверьте мне.
– А в чем же? – Мэ̀ррилу тошнотворны были рассуждения издательского короля.
– В гораздо более глубинных вещах. Сталинизм тоже ведь не на пустом месте вырос… Он вызрел на почве достоевщины – на униженных и оскорбленных; на старухе-процентщице, кровопийце бедных… и на том, что Достоевский показал: убивать таких, как она, можно…
– Если судить по его книге, то как раз-таки – нельзя, – возразил То̀мас.
Но респектабельный высокомерный господин отмахнулся от него, как от не понимающего азбучных истин, и цицеро̀нил в своё удовольствие дальше:
– Нет! Достоевский это убийство не осуждает – а пристально рассматривает. И направляет… Ведь Достоевский сам и дает в руки Раскольникову топор. А мерзкая старушонка у него берёт, подлю́ка, жидовские проценты… Так и сказано в его черновике – «жидовские»… писатель-то был антисемитом… И берёт – с нуждающихся… наживается на них… У Достоевского нет слова «капитализм», но, по сути, его произведения против капитализма и капиталистов… Вспомните, и его противного Лужина… И что в итоге? В итоге – осуждение, ненависть народа к финансово успешным людям. И невозможность построить нормальный капитализм… И вдобавок к тому же – уродливый культ страдания… Так что, не со Сталиным надо бороться – а с Достоевским.
«Вот странно» – подумалось То̀масу, – «буквально три часа назад я слышал подобное же, но от писателя. Писатель и олигарх слились в идейном экстазе по своим воззрениям – удивительно!».
После развлечений и разговоров на этой вечеринке ему казалось, что голова совсем забита дурацким словесным мусором, извергнутым понаехавшими тщеславными нуворишами – радѐтелями капитализма для России, народ которой они презирают, великую литературу которой не принимают, и даже хотели бы отменить вовсе. Не верх ли глупости?! А что, вообще, они из себя представляют – без народа, без великой русской классики?! И без России?! Пустое место!
Покинув вечеринку, они долго бродили с Ребѐккой по улице, пытаясь проветрить мозги. Неожиданно наткнулись на печальную реальность жизни. На скамейке расположилась парочка бездомных поношенных существ, обряженных в невиданный затрапез. Голый череп юного панка с огненным ирокезом покоился рядом с головой прямо-таки викторианского вида старухи с седыми космами. Престарелая особа шевельнулась и, проснувшись, поднялась, развернула пакет с увядшим гамбургером, вынула оттуда серую котлету и отложила в другой свёрток – для внука. Но в этот миг панк тоже открыл глаза, уловив запах еды. Припасённое содержимое в свёртке в мгновение ока перекочевало в его руки, и в один жевок – в желудок. Он сглотнул свою порцию в две секунды, как подзаборный пёс.
Том с Ребѐккой с сочувствием протянули было им деньги, но пожилая нищенка, оттолкнула купюры с каменным лицом и отвернулась, словно вид денег её оскорбил. А панк сразу посуровел, выкатил на них свои бельма, ирокез его встопорщился, огненно засверкал и, казалось, налился кровью, как петушиный гребень перед дракой.
Ребѐкка растерянно застегнула вечернюю бисерную сумочку. Ее поникшие плечи чуть вздрогнули. Том, подхватив под локоть, поспешил увёсти ее. Сам тоже почувствовал себя подавленно. От них не брали милостыню как от самонадеянных бездельников, как от богатых позёров, только что вкусивших радости жизни на вечеринке, и стремящихся заглушить сиюминутное чувство вины. Они тут же забудут о ней, как только повернутся спиной.
Пристыженные, нелепые в своих вечерних нарядах, Томас и Ребекка, побрели дальше.
«Скорей бы окунуться в творчество, забыть обо всем. Как хорошо, что скоро уезжаю на фестиваль Бѐльского в Россию. Интересно – а как там у них с бездомными?» – мелькнуло в голове Мэ̀ррила.
***
(2014. Россия)
А в это же самое время за тысячи километров от Англии – народный артист Юрий Бѐльский, седобородый пожилой человек, живая легенда театра, ознакомившись со свежими новостями, пришёл просто в бешенство. Он негодовал воткрытую – совсем не так, как цивилизованные европейцы с их хвалёной безупречной вежливостью, лишённой какой бы то ни было искренности, с их надуманной толерантностью и традиционной сдержанностью, держа в уме одно, произнося другое и делая лишь то, что выгодно. Он громогласно называл вещи своими именами и, распинывая стулья, шарахался на веранде, как разъярённый бык в загоне…
Находился он на своей любимой подмосковной даче в живописнейшем месте, в районе которого ещё в 1930-е обосновались и размножились советские дачные поселки – писательские, актерские, балетные, научные. Все это царство отдыха для творческой интеллигенции к 2014 году захирело, и уже не имело налёта прошлой элитарности, а казалось попросту стариковскими вы̀селками. Они покрылись кудлатой крапивной порослью, репейником, полынью, одичавшими кустами малинника, черешни, зарослями иван-чая и прочей дикой флорой, только лягушки иногда разражались воплями на бывших прида́чных озерцах, превратившихся в затянутые тиной мутные лужи.
Бѐльский всегда любил выходить на террасу своей дачи, особенно в теплые грибные дожди. Слушал, как капли щёлкают о навес. А когда гроза – грохочут раскаты, как взвизгивает десятилетняя внучка Настя, реагируя на громы, и не от страха, а от восторга. Его голенастой девчонке с торчащими косичками, словно проволока внутри, – до всего всегда дело. Как-то разразился небывалый град с голубиное яйцо. Она, смешная, собрала тогда с террасы целое ведерко таких градин и с гордостью показывала их гостившим на даче знакомым. Пыталась успокоить Аську, их огромную дворовую собаку, которая при первых же звуках разгулявшейся непогоды тут же залезла в будку с жалобным подскуливанием, точно моська. А кот Казимѝр, наоборот, вызывал у неё одобрение: держался с большим самообладанием. Правда, он заблаговременно запрыгнул в открытую оконную форточку и уже оттуда вальяжно, с достоинством поглядывал на разразившуюся природную катавасию, брезгливо переминаясь на подоконнике лапками. Его щедро оглаживал ещё совсем сопливый, маленький внучок Максимка, к их обоюдному удовольствию. Деду нравилось, как Настя с Максимкой смеялись над милыми выходками мохнатых питомцев, и сердце его радовалось.
Дача было местом его полнокровной жизни. По утру обычно Бѐльский с наслаждением втягивал свежий загородный воздух, приятно щекочущий ноздри, и начинал напевать себе под нос. Любые капризы природы бодрили и приводили в восхищение, ибо природа в его мыслях обожествлялась и была неизменным источником силы. Как правило, в прекрасном расположении духа он начинал новый день.
Однако не в этот день. Сегодня всё было не так, хотя утро ожидалось волшебное. Сегодня после звонка своего приятеля, сообщившего какую-то новость, Бѐльский застрял у монитора компьютера на террасе. Его внимание приковала публикация из новостной ленты. Она на́прочь вывела его из себя. Он чертыхался и проклинал автора этой публикации.
– И этого-то человека выдвинули на предстоящее выборы нового худрука в наш театр! Посмотри, что пишет этот скот, – бушевал Бѐльский, обращаясь к жене, – нет, ты только посмотри, что он говорит о сгоревших людях 2-го мая в Одессе в Доме профсоюзов: «Малоценный человеческий материал». Во-о-от же гад! А я-то последнее время думал – что это вся наша московская богема, все эти «голуби мира» такие притихшие? Я, дурак, надеялся, что им стыдно стало за эту трагедию с одесским пожаром. Ну и олух же я! А они – после всего! – ещё и пишут про сожжённых так мерзко, что там, мол, «какое-то быдло, и жалеть их не стоит»… Вот тварь, негодяй!… Ирочка, вот если они у нас к власти придут, эти «столпы свободы и демократии», – что же они с нами сделают!
Жена Ирина – женщина лет семидесяти, тоже актриса театра. От нее веяло теплотой зрелой мудрости. Разделяя его возмущение, она негодующе кивнула. Но ее больше обеспокоило нервное состояние мужа, и, выходя с террасы в коридор, она в сердцах припугнула его:
– Юра, я у тебя ноутбук как-нибудь всё-таки заберу… Зря тебе его сын подарил…
Юрий Бѐльский, импозантный статный старик, еще довольно хорош собой, с чертами римского патриция, гневно вперился в монитор, точно хотел, чтоб текст от его взгляда самоликвидировался, потом всё-таки захлопнул крышку, выдернул, чуть ли не с мясом, шнур из розетки.
– Ирочка, если бы дело было в чертовом компьютере… Меня беспокоит этот возможный худрук. Я бы этому молокососу рыло начистил…
– Ну и зачем тебе ввязываться, Юра? – укоряла жена, выглядывая на террасу к мужу. – В нашем-то возрасте только инфаркт заработаешь.
– Зачем ввязываться?! – в запа́ле прорычал Бѐльский. – Зачем ввязываться, говоришь? Посмотри-ка сюда.
– Да незачем мне смотреть, – донёсся опять её голос, уже из коридора.
– Нет уж, Ира, посмотри. И посмотри немедленно… иначе мы с тобой поссоримся.
– Ну хорошо, тащи ноутбук сюда, старый хрен, – позвала она с шутливой задиристостью.
Муж не развеселился, не засмеялся от её выражения, как обычно это происходило в их «игре в образы» и соответствующие словечки. Он бросился в коридор, где она в гардеробе искала вещи внука, гостившего на даче.
– Вот, – только и сказал он, выдвинув ноутбук, – сейчас включу видео… Вот видишь – все обгорелое… на всех этажах… Но много мертвых людей, которые не сгорели, их даже не задело огнем. А знаешь почему? Это каратели-на̀цики потом шли по этажам и добива́ли тех, кто был ещё жив, и тех, кто потерял сознание от угарного газа.
Когда Ирина остановилась взглядом на перекореженном теле беременной женщины, задушенной телефонным проводом в здании, предуготовленном для а̀дового истребления несогласных с майданным переворотом на Украине, – она зажмурилась. Захлопнула ноутбук. Инстинктивно отошла, как сомнамбула, осмотрелась по сторонам, точно пытаясь понять – настоящий ли мир вокруг нее.
А вокруг был светлый мир её жизни, душевный, добрый, родной, наполненный любовью и верой в лучшее в человеке. После только что увиденного почти не верилось, реален ли этот человеческий мир. Огляделась. Вот дощатая дачная стена, почти вся заклеенная их старыми афишами, а в них плоть и кровь их размышлений, творческого служения. Вот старый проигрыватель. Вот портрет Хэмингуэя, тут же карточка Высоцкого, этих кумиров шестидесятых. Хэмингуэй в толстом свитере глядел скептически, а Высоцкий с его стиснутым ртом, хмурым надбровьем смотрел прямо-таки с осуждением, сжимая гитару, словно автомат Калашникова. А тут фотография самого Бельского в римской тоге в образе Цезаря, черно-белая, из давнего спектакля, где он блистал. На его игру тогда собирались полные залы. Были такие аншлаги! Журналисты задыхались в хвалебных о̀дах! Как же она сама восторгалась им в этом образе! А вот другой портрет – знаменитой актрисы, в ту пору юной смуглянки с бровями вразлет, с чертами донской казачки. Взгляд из-под черных бровей особенный – огненный, в каком-то возвышенном состоянии души, возносящей страстную молитву в небеса. Эта карточка долго беспокоила Ирину. Могла ли она в свое время тягаться с возлюбленной, со знаменитой великой актрисой! Но потом беспокойство исчезло. Оно растворилось в тихой надежде, перешедшей в уверенность. Однако пришло другое. Пал советский мир – весь их мир, полностью, безвозвратно. Прахом пошли достижения, мечты, надежды, взаимодействия с партнёрами театров в других регионах. Как только смогли они пережить это крушение вселенского масштаба! А потом пришла тоска, неотвязная, тягучая, по тому полнокровному, надёжному разрушенному строю…
Но сегодня… Все горести казались теперь мѐньшими – перед изуверством наступающего нового обесчеловечивающего варварства…
Муж, увидев ее реакцию, уме́рил градус эмоций.
– Ирочка, пойми, я ведь не из садизма все это на тебя вываливаю… Вот, посмотри, – он вновь схватил ноутбук, – вот кого нам предлагают на выборы в предводители нашего театра. Да разве может такой быть нашим вожаком, быть худруком?! Это он статью написал… Тридцать пять лет. Широ̀ков. Говорящая фамилия… До чего же морда зажравшаяся, самодовольная, широко раздутая самомнением! Но если бы дело было только в роже! У него и душа – широка настолько, что лишена этических границ, не имеет совести, там нет никаких нравственных пределов… духовная широта такая, что всё… всё оправдает… Тьфу! Вот послушай-ка… Он пишет о людях, умерших не своей естественной смертью, а застреленных, задушенных, замученных карателями в одесском Доме профсоюзов: «Эти люди выбрали свою судьбу сами. Они испугались демократии и свободы!». Чуешь, какова их демократия-то со свободой, а?!
– Ужас какой! И этого вам худруком могут поставить? – тихо произнесла женщина, не в состоянии ещё опомниться.
– Могут! – с жаром вытолкнул из себя неприятное для него слово Бѐльский.
Ирина села на табурет, сгорбилась. Зря, подумалось ему, выплеснул он всё на жену. Не мог сдержаться. Но так распирало, так хотелось криком кричать, горлопанить, бесноваться. Хотелось выбежать на улицу, хватать за рукав каждого прохожего, трясти за плечи и орать, захлебываясь: «Послушайте, в Одессе, в русском городе Одессе, русском, – сожгли людей! Ни за что! Расправились! Зверски! «Демократически»!».
На следующий день Бѐльский должен был идти на собрание и голосование за нового «вожака», ответственного за художественную концепцию театра, за его репертуар. Предстоял выбор человека, несущего в коллектив смыслы для воплощения на сцене, определяющего сам дух театрального организма.
– Ира, сегодня – в театр… я не выдержу, могу убить его, – тяжелым взглядом обдал жену Бельский, – так что…
– А ты не ходи, Юра, – понизив голос, попросила жена, и чуть улыбнувшись, припала к его плечу в попытке смягчить его настрой, – ты уж слишком непримирим.
– Милая, сегодня у нас выборы худрука… И если я не наору̀ на нашего главрежа-труса, он попадет под влияние того, кто орет громче, и вся ситуация – швах!
Бельский сел в электричку до Москвы. Как актёр, он любил всматриваться в людей, в лица, по-своему создавая для себя копилку типажей и людских проявлений. Вглядывался в пожилых дачников в панамах, с тележками, рюкзаками за спиной, морщинистых, грубоватых, но таких простодушных, с обветренными руками, привыкшими к тяжелому труду. Молодежь же вызывала много вопросов и противоречивых чувств. Пожалуй, очень уж бездумны – всё бы им только развлекуха. Да и выглядят несколько инфантильно, незрело. Он даже замечал у парней некоторые черты феминности. У многих черезчур узкие плечи, хотя пора бы и возмужать, в их-то возрасте. Может, физически не привыкли нагружать себя? У некоторых – мелкие, безвольные, похожие на девичьи, подбородки. А это-то откуда? Так ведь не только это. Зачастую он наблюдал у них почти девчачье самолюбование своей внешностью: длинные волосики подзавиты, в отражение стекол на себя поглядывают, чёлочки поправляют, чтоб лежали, как надо. А подчас видна неприятная развязность, какая-то кокетничащая вертлявость: все ли заметили, как я хорош собой. А вроде бы это должно была пройти в процессе мужания и превращения в юношу, ну а потом в молодого мужчину. Но, увы, всё чаще стали попадаться «вечные мальчики» – и в тридцать пять, и много старше. Ну просто сама детская несобранность. С ними что, повсюду нянькались, что ли? И какой с них спрос, если так, – они ж лишены ответственности не только за других, но и за самих себя. А из всех утюгов – гуляй, пока молодой. Молодость же – понятие растяжимое, вон уж поговаривают, в сорок четыре – это ещё «молодой человек». А в девушках вдруг неизвестно откуда появились маскулинные тенденции, самоистребляющая их тяга к откровенно вольным выходкам, грубым повадкам. Как будто гендеры поменялись местами: юноши феминизировались, а девчачья часть приобретает некоторую грубоватость. Семья, брак – тут у молодёжи вообще полный капут. В глубине души, конечно, где-то в них мечется тоскующая мечта. Но о чем? Вряд ли они и сформулируют. И даже эта расплывчатая, неотчетливая мечта – какая-то робкая, носа не показывает… Всё это удручало, но он понимал – современная жизнь, с её восхищённым заглядыванием на западный образ жизни, сильно переформатирует людей. И не только людей – изменяет всё: отношения, моду, улицы и города.
Бѐльский сначала отправился не на репетицию, а в район старого Арбата – пройтись по его невероятным извилистым переулкам, проходным дворам, петляющим улочками. Его влекла спрятанная там под новыми одеждами прошлая самобытная, совершенно неповторимая жизнь, история, память о живших там людях, великих и невеликих. И грели воспоминания своего собственного детства, юности и молодости, проведённые там, тот образ «арбатства» послевоенной Москвы, атмосферы той эпохи. Прогуливаясь, он перенёсся в свои былые впечатления, задышал свободнее, как будто бы вновь втянул воздух летней разогретой земли. Почувствовал, как долетает до него тот старый, из прошлого, запах из открытых окон потускневших, несвежих бараков, из старинных особнячков, кривеньких, осыпающихся, превратившихся в итоге бесчисленной череды уплотнений-заселений-переселений в разуха́бистое коммунальное братство. Народищу-то в дворо̀вых арбатских недрах было в те времена изрядно. Вспомнил доверительность и умиротворённость тех незамысловатых добросердечных двориков, заполненных пацанво́й. И как бегали к приятелям беспрепятственно – без всяких кодовых замков. Дверь настежь и – эй, привет, выходи гулять! И жизнь в тех дворах никогда не замирала, как сегодня, уходящая в виртуал, в социальные сети. Молодёжь тогда неумело, но от души пробовала петь серенады под ная̀ривание на своих гитарках. Гоняли в футбол. Мелюзга возилась в песочнице без присмотра взрослых. Дядьки с азартными вскриками стучали в домино. Он снова слышал прежние голоса улицы, когда ещё не раздавались звуки машин, потому что тогда не было такого их засилья. Звонко разносились возгласы его дружбано́в, играющих на булыжной мостовой, и соседские пересуды, споры, отдельные обрывки разговоров прохожих. Наваждение не рассеивалось.
День начинался удивительный – не жаркий, а комфортно теплый, щедрый, исполненный предвкушения, как в детстве перед пробой сочного плода, когда слюнки текут. Бельский всё напоминал себе, что ему уже семьдесят четыре, но сколько бы он не пытался настроить себя на ровный лад зрелых лет, его внутренний мандраж не проходил, а нарастал. Он тихо, почти беззвучно что-то шептал себе под нос в радостном возбуждении.
Свернул в переулок, к старому помпезному дому с массивной аркой, построенному в конце 1930-х. Под аркой все дышало прохладой и легкой грустью. Он увидел, как во дворе суетятся грузчики-таджики, смуглые ребята, неунывающие, улыбчивые, и, несмотря на молодость, золотозубые. Ими руководил бледный тощий русский мужичок с пшеничными усиками.
Тут Юрий Бельский остановился. Его как током ударило – старинный рояль прижался к серой стене, по которой двигались дрожащие чёрные тени качающейся листвы. Он мгновенно узнал этот рояль красного дерева, теперь обтрепанный, на трёх обломанных ножках, но всё ещё исполненный достоинства и одухотворённости, как и раньше. Он стоял в ее гостиной…
Она не играла сама. Ей аккомпанировали, пока она пела сильным грудным голосом. В ее исполнении великолепны были и шутливые куплеты, и народные песни, но особенно ей удавались романсы и казачьи напевы. Она – экзотическая горячая дочь казацкой Кубани – возникла перед ним, как в реальности. Ее смуглая рука на рояле, ее черные косы, уложенные гребнем. Статная фигура, выправка императрицы, а взгляд – страстный, пронизанный озаряющим огнём, и лишён суетности, мелочности…
Он узнал, наконец, и этот дом. Всплыло и недавнее страшное известие. И то, что дети ее приехали на похороны, и утренним самолетом сразу улетели обратно в Женеву. А он тогда не смог пойти попрощаться с ней. Не осмелился. В том числе и из-за Ирины, которую тоже любил. Но совсем по-другому, не так, как свою каза́чку, судьбоносную для него, «чародейку крупного плана», как кинокритики выражались о ней и её гипнотическом даре, благодаря невероятной глубине её взгляда. Он-то знал – этот взгляд был у неё всегда. И это не талант актёрской игры, а её собственная человеческая суть. Именно этот взгляд изменил всё его существование, тогда молодого человека, случайно пришедшего в этот дом со своим приятелем. Он вызвал в нем внезапную вспышку, как только увидел её глаза и услышал пение. Он сразу, и навсегда, открылся ей всем сердцем. Чувство долго пылало в нём, и согревало, давало энергию. Со временем поутихло. Но не забывалось – никогда. Одна только мысль о ней вдохновляла неизменно, и часто именно с ней сверял он свои поступки, свой успех или провал, учился отключаться от гордыни, от претензий к миру. Её душевный образ всегда жил в нём…
Вот он и пришел сюда, ноги сами принесли. Но пришёл поздно. Бельский с трудом втолкнул себя в подъезд, а там по широкой парадной лестнице спускались чужие люди со стульями, шкафами, этажерками. Из её квартиры всё распродали, и выносили последнее.
Поднявшись на четвёртый этаж, подошел поближе к распахнутой двери. Ему никто не мешал. Пустые комнаты. Только на стене косо висящее большое фото, хранившее её лучшие годы. И на подоконнике старенький сиротливый малогабаритный граммофон с позеленевшей трубкой, видимо, не нашедший спроса, ненужный… Он метнулся было за ним – хотя бы эту вещь от неё на память. Но взгляд неожиданно наткнулся на глаза на фотопортрете. Она – в белом простом ситцевом платье, юная, восемнадцатилетняя, с черными косами и бровями вразлет, – вдруг обожгла его своим очами. Не в силах справиться с потрясением утраты, особенно остро пронзившей его в этот момент встречи с её таким живым взором в этой обескровленной, омертвелой квартире, – Бельский выбежал оттуда. Понёсся вниз по лестнице, выскочил из подъезда, бросился со двора. Как будто невидимая рука каменной хваткой сжала, сдавила всё внутри, он с трудом хрипло втягивал воздух. Едва перевёл дыхание, остановившись. Невозможно было пережить столкновение живого ощущения любимой, полной жизни, – и осознания ее потери, необратимости этого. Никак не мог оправиться, перевести дух.
Парадно-реконструированные арбатские здания, притворяющиеся историческими, и бутафорский лоск пошловато наряженных улиц вызывали у него ассоциации с «зазыва̀льными» торговыми лавками и выставленными напоказ телами продажных женщин на панели в яркой губной помаде и слоями грима – для пущего звона валюты иностранных туристов, падких до разрекламированной местной экзотики, но не способных почуять обезду̀шенности показного реквизита.
Он почувствовал, как неповторимый самобытный мир «арбатства» покинул это суетное теперь место, и оно окончательно потеряло своё духовное измерение. Шёл, не чувствуя себя, не видя ни старых, ни новых прелестей, ни старинных, ни современных домов, ни низкорослых особнячков, ни бесконечноэтажных давящих высоток, ни вывесок магазинов, сувенирных палаток, ни ревущих по проспекту иномарок. Городской блеск столицы вдруг перестал для него существовать. Всё стало пустым, стерильным, безжизненным – просто залакированные театральные декорации. Он не в силах был снова погрузиться в подлинную сущность мира и своего внутреннего чувствование.
Город, как обиженное существо, в ответ тоже отвернулся от него, спрятал свою и без того поруганную душу, окостенел, омертвел. И тем самым вконец истребил в нем, бредущем в своём искажении, все ошущения и воспоминания. Пога́сли в нём живые отзвуки прошедшей юности, совсем недавно навеваемые остатками старых арбатских улиц, сохранившимися арками, лепниной. Он ничего не узнавал, и не признавал за своё. Ему мерещилось лишь едва различимое больное бормотание той старой эпохи, как бессильные вздохи обречённой, мучающейся болями ревматической старухи. С жалостью глядел он на эту чуждую ему урбанистичную выхолощенную среду, бесстрастную машину извлечения наживы и поглощения животворной энергии из всего и вся.
Сжав зубы, добрел-таки он до бывшего дворянского особняка. Здесь жил его театр. Опомнился. Бельский посмотрел на стены родного театра – он любил эти стены, колыбель многих его начинаний. И любил эти розовые яблони вокруг, их тёмно-бардовые покачивающиеся кроны. Сколько же мощи таит в себе всё живое, любимое! Спасительное! Но, к великому несчастью, оно беззащитно перед исчезновением. И тут с особой силой всколыхнулась в нем вся боль утраты и вся ненависть к разрушению, омертвению и забвению, и даже к этому аферисту Широ̀кову, к этому нравственному деграда̀нту, способному разрушить его театр, дай ему только волю захватить его. Ведь захватил же он театральный мир столицы, а в прошлом году даже стал вдруг «самым модным режиссером сезона».
Откуда появилась эта шпана, думалось Бельскому. Как так случилось, что они повылазили, как поганки за баней, как черви после дождя, – все эти «современные» драматурги-черну́шники, новомодные критики и «нетрадиционные» режиссеры-псевдоноваторы? Ими ведь еще несколько лет назад не воняло. Театр был не так богат, в основном благороден, уважаем и любим. Не было такого повального воровства, пошлости, растления и загнивания театра. Были, конечно, о́соби – да что там о́соби! целые кланы! – что глодали жирные куски экономики, нефть, газ, промышленность и прочее, прочее, прочее… Сжирали, сча́вкивали, поглощали все самое сладкое… А теперь цветёт ещё и мафия от культуры, добралась до театра и она. Умерщвляет его, морально разлагает зрителя. Поняли эти «деятели», культура тоже недурной кусок. Вцепились в него зубами. Намертво. И ведь находятся власть облечённые государственные мужѝ, всякие меценаты, инвесторы, спонсоры – готовые оплачивать, продвигать, помогать разрушению, уничтожению, приближению смерти, обнулению жизни, обессмысливанию её.
Кто он такой, по сути, этот Широ̀ков? Никто. Всего лишь один из стаи творчески бесплодной, но прожорливой саранчи лѝбер-боге́мки. Она и поддерживает таких, как Широ̀ков, создавая различные «творческие союзы», «советы», «гильдии», «фонды». Это, в сущности, самоподдерживаемый паразитирующий рой. Но сами особи его далеко не все пригодны к истинному творчеству – скорее, лишь к внешне фальшивой пустой эстетизации, переконструированию чужих художественных образов. Это их способ потребл…дства ускользающего от них творчества – при помощи оприхо̀дования продуктов творчества, созданных не ими. Под видом «интерТРЕПации», лжетолкований произведений. Эх, если б этот Широков и ему подобные пожирали бы только госбюджет, содержимое кошельков зрителей и произведения искусства, созданные другими талантливыми авторами! Но они же сжирают и подлинные смыслы, живые истины, человеческие души, всё животворное вокруг! Отравляют, искажают, высушивают своим зловонным дыханием здоровые чувства и ощущения животворящего мира, подсовывая эрзацы и примитивные имитации… Бельского всё больше и больше распаляли проносящиеся мысли.
Ведь этот Широ̀ков всё время издевался над классикой. Брал классическую пьесу – Островского, Гоголя, Чехова – и кромсал ее, орудовал, почти как мясник, вытаскивающий внутренности. Но мясники при этом просто сосредоточенно работают – рутина же, будни. А этот же моральный урод превращал потрошение в карнавал. И приглашал подобную себе же пижо́нскую «светскую публику» поразвлечься на своём людоедском шоу. В этих шоу чеховские интеллигенты по воле режиссёра убивались отбойным молотком. Герои Островского медленно удушались. Катерине из «Грозы» попросту выкалывали глаза, и она не могла видеть свет, ей обрубали крылья, и летать, как птица, она уже не имела возможности…
«Вот таким, как этот Широ̀ков, не нужны ни классическое искусство, ни подлинная национальная история, ни исторические культурные памятники. Они и город наш искалечили, распотрошили», – всё более горячился Бѐльский, толкая тяжелую входную дверь в родной театр. «Да Широ̀ков за здоро̀во живешь распотрошит и мой театр. Надо остановить его!».
На служебной проходной его встретила вахтёрша Римма, небольшого росточка, полноватая пожилая пенсионерка, свой человек, ровесница Бельского, прослужившая в театре много лет. Эта простая женщина, хоть и не сильно образованная, но из тех, кто интересуется культурой, искусством и активно посещает такого рода мероприятия, ну а премьеры своего театра уж тем более, для неё это вообще святое. Да ещё нередко вступает в дискуссии с режиссером, высказывая своё мнение о спектаклях. Увидев Бельского, она запросто так с маху рубнула:
– Ну и видо-о-ок у вас, Юр Ваныч!
Бельский волком угрюмо глянул на Римму, чем, впрочем, ее не смутил.
– Что, нехорош? – пробухтел он отрывисто.
– Да чисто побитый Наполеон, – сострила Римма. – Стойте, стойте! Вот, хлебните-ка! – Она вытащила термос и налила в кружку кофе с невероятно бодрящим ароматом. – Очень пикантный. С перцем. Он придаст вам боевой дух. Широков не пройдет! Вот увидите.
Бельский глотнул – ничего себе! Ещё раз – и неожиданно полегчало.
– Хорош ваш кофе, Риммочка Ивановна… Вы, я знаю, еще и гадалка – весь наш молодняк бегает к вам за гаданиями. Может, и мне победу наворожите?
Римма невозмутимо достала карты:
– Вы пока что идите, а я итог по мобильнику вам сообщу, сразу же. Но верю – победа за вами!
– Побеждает лишь тот, кто сражается, – Бельский упрямо набы́чил голову и, вздёрнув плечи, устремился вперёд, полный решимости.
Поднялся по старой роскошной, беломраморной лестнице, по темно-красной дорожке. Цвет её вызвал ассоциацию с запекшейся кровью, заставил его вспомнить о боярах и за̀говорах, ещё более настроив на бойцовский лад. Крупные ноздри его римско-патрицианского шно́беля вздрагивали, как у нра́вного племенного жеребца перед боем, готового, издав ржание, взвиться на дыбы и нестись без у́держу на неприятеля.
Из зала с белыми колоннами нестройно, шквальными волнами, оживляясь и затихая, гудела многоликая разноголосица. Бельский со зверским выражением шагнул туда. Тяжелый воздух присутствующей там паники чуть не сбил с ног. Кажется, сюда в переполохе сбежался весь театр. Собрались все-все – не только творческая труппа, руководящий, художественно-технический персонал, но и вспомогательный состав, вплоть до уборщиц и водителей.
Все сразу же обернулись к нему, к теперешнему уважаемому худруку и одному из самых талантливых актеров театра. У многих было выражение отчаявшихся потерявшихся щенят. А вдруг он уйдёт после кадровых изменений? Именно на Бельского ходил зритель, его имя обеспечивало аншлаги. Все обрадовались его приходу, надеясь, что он найдет выход. Но сомнение на лицах не пропадало. Уж слишком демонстративной наглой самоуверенностью резала глаз лоснящаяся ухмылка на щеголеватой сытой физиономии предполагаемого претендента Широ̀кова – скандально нашумевшего режиссёра, экспериментального («ЭКСКРЕМЕНТтального», иронизировал Бельский) направления.
Бельский заметил, что вокруг Широ̀кова скучковались тряпка-главреж, этот чиновничий подлиза, всегда готовый аллилуйствовать в их честь; и ещё какие-то неведомые, вероятно влиятельные господа, постные начальственно-властные лица которых не будили больших иллюзий. Все в чёрных костюмах – как налетевшие во̀роны, почуявшие раздел добычи.
– Просим вас, Юрий Иванович, – равнодушно призвал его главреж, человек лет пятидесяти, с наружностью гоголевского угодливого столоначальника, готового воплощать любые указания свыше с подобострастной дотошностью, побуквенно, до запятой.
Бельский подчеркнуто аффектированным, чуть ли не маршевым шагом вышел перед перед своим коллективом соратников, что ждал его, надеялся на его слово:
– Друзья! Товарищи! Дамы и господа! Вроде бы в «Бесах» Достоевского губернаторша мечтала «ласкать молодежь, и тем самым, удерживать ее…». Так и наши чиновники от культуры, через поддерживаемых и назначаемых ими режиссеров, худруков и театральных нигилистов всяческого окра̀са, – пытаются «ласкать» театрально-зрительскую публику, чтобы держать в нужной им кондиции. Чем же? Невероятной постановочной свободой спектаклей, граничащих с пошлостью, вульгарностью, а то и серьёзной социальной и политической провокацией и скандалом! А зачем? По-видимому, они боятся быть недостаточно прогрессивными. Они хотят слыть ревнителями «свободы творчества», «свободы слова», «прав человека», как рекомендует нам Запад. Кажется, им импонируют свобода и демократия. Но это только кажется. Возьмём, для примера, наш театр. Если бы свобода и демократия по-настоящему интересовала руководителей Минкультуры – они бы сначала обсудили переназначение кандидатуры худрука с работниками театра, а не навязывали бы свою креатуру для голосования. Это первое.
Второе. Театр обязательно должен нести Свет, – хоть и звучит па̀фосно, но я скажу – нести неугасимый Свет подлинных ценностей жизни. Раньше театр считали кафедрой, храмом, где помогали зрителю задумываться, где взывали к совести, нравственности, человечности. А сегодня что? Это для наших чиновников пустяки? Это их уже не беспокоит? Что, свобода стала вдруг выше совести? Так, что ли? Ну а если не так, то зачем предлагать худруком человека, для которого совесть, человечность, нравственность – пустой звук? Вы ведь прекрасно знаете сомнительное творчество и публичные выступления господина Широ̀кова. А они говорят сами за себя, тут не прибавишь, не убавишь. И они никаким образом не соответствуют творческой концепции нашего театра.
И третье. Неужели нам, театральной общественности, творцам, действительно нужна вместо театра – лишь его видимость, то есть некая коммерчески раздутая форма при отсутствии сколько бы значимого содержания, по сути нулевого? Неужели театр – это всего лишь обслуживатель заурядных шоу, скандальных перфо̀мансов, КВН-овской псевдоноваторской пошлости, низкопробного балагана? Неужели театр надо превратить в какое-то мутное арт-пространство или незамысловатый аттракцион? Нам что, уже не нужно мастерство актёра-творца, глубина его мысли, проживание на сцене? А нужна только театральная растлевающая профанация? Глумление? И разве нам не нужен мыслящий зритель? Мыслящий народ? Нам нужен просто глазеющий зевака? Быдлозритель, ублажённый лицезрением гениталий и голых задниц? Клиентская, потребляющая масса? Чиновники задают себе эти вопросы? Хоть иногда?..
– Юрий Иванович! – встрял со своего места Широков голосом, напоминающим предупреждающий хищный клёкот, – вы бы посмотрели мой спектакль по «Годунову»… Я как раз показываю в неприглядном виде чиновников, и заступаюсь за народ, о котором вы здесь так славно печётесь.
Но он совсем не знал Бельского, не представлял, какой воитель пробуждался в старике, стоит только покривить душой. Многие в театре знали это его качество и не дерзали при нем проявить подобное: «крѝвды» он не терпел.
– А вы не перебивайте, молодой человек. И не надо такой ёрнической интонации, когда произносите слово «народ», – с холодным выражением жёсткой суровости начал он свою отповедь. – Видел я вашу бескрылую бульварную поделку, или, вернее, подделку с двумя «д». Именно подделку, ибо назвать такое спектаклем, язык не поворачивается. Всё там бьёт только по глазам, а в душу не заходит. Вы в очередной раз изгадили классику, исказили, обессмыслили авторское слово, убили душу пьесы. А теперь являетесь сюда, в наш – в академический театр… Не смейте тут не то что произносить свои притворные слова-фикции, но даже и дышать здесь – тут место намо́ленное! Вы здесь, как варвар, желающий пасти свиней в храме!
Широков издал тихий чавкающий звук – то ли поперхнулся от неожиданности, то ли у него такой булькающий смешок выскочил. И с ленивым шиком он сделал несколько хлопков.
– Браво, Юрий Иванович, браво! Но зачем столько пафоса? Зачем это совко̀вое… пардон, советское представление о театре как о духовной кафедре, храме?
Бельский выпрямился с видом полководца, верящего, что за спиной – Москва, впереди – враг, и дело его правое.
– Это – русское представление!
– Ну пусть – русское, – скорчил брезгливую гримасу Широков, – только оно безнадежно устарело. Театр – это игра. Из-за советской цензуры вы не смогли в свое время прочесть о смеховой культуре у Бахтина̀. И «Человека играющего» у Йохана Хёйзинги… Я хочу вернуть театру его подлинный смысл. А смысл в игре.
– Да, в игре… Только у Хёйзинги игра естественно-свободна, самодостаточна, она не зависит от денег, а ваша «игра» на сцене весьма и весьма коммерциализирована. Она вылупилась из материальной выгоды, очень важной для вас, ваша «игра» поедает настоящие смыслы. Это совсем не та бескорыстная игра Хёйзинги, на которого вы здесь ссылаетесь. А значит, и ссылка ваша – не более чем просто красивая фраза. Ею вы хотите тут сбить всех нас с ног… И ещё. Не надо смешивать актёрскую игру и «игру» по Хёйзингу. Общее у них – лишь некий игровой элемент… Но различия между ними – очень существенны. У них принципиально разные основы. Спонтанность, самодостаточность, не обусловленность игры Хёйзинги совсем не равна актерской игре. Актерская игра – это не бесцельное лицедейство, типа «игра ради игры», нет. Актёрская игра вся во власти содержания пьесы… смыслов в ней заложенных, которые актёр обязательно должен донести до зрителя… Это не некое свободное плавание, не дуракаваляние, как вы хотите это представить. На сцене мы всегда зая̀корены авторской идеей произведения. А если вам так хочется «перекроить» автора под своё вѝдение, доводя подчас до абсурдизма изначальный смысл, – то пишите своё произведение, а не паразитируйте на чужом… В общем, ваши ссылка на понятие «игры» при помощи авторитета Хёйзинги, и выведение из этого правомочности творить на сцене всё, что вам вздумается, – это всё лишь подтасовка, эквилибристика словами, манипуляция, обман, мошенничество… чтобы без зазрения совести нахлѐбничать на чужом творчестве, драматургов или сценаристов… да и чтобы пожинать лавры хайпа «вона, как он забабахал!»… Если хотите, называйте «игрой» процесс ваших искажений авторских идей в пьесах. Но на самом деле вам просто удобно прятаться за этим словом. Потому что продукт-то такой вашей «игры» – похищенный у автора… Почти, по Марксу: эксплуатация – похищение – присвоение чужого труда… В данном случае – труда автора пьесы.
– Всё это устарело…
– А устарела ли совесть, молодой человек? Вы это скажите… – вознегодовал Бельский. – Я признаю интерпретацию произведения – но не откровенное же бессовестное воровство под видом интерпретации… Ладно, я уже знаю ваше нутро̀, и ваш ответ… Вам свойственно передёргивание… Совесть ваша слепоглухонема. И она такова не только в отношении театра… Этот господин, – указывая на Широкова, загремел он в зал, – назвал сгоревших заживо в Одессе «малоценным человеческим материалом» – это о людях-то! И по его словам, вроде как подело̀м им, раз «они отказались от свободы»… Но, спрашивается, свободы какой? Свободы – от чего? От выбора? От собственного мнения? От совести? Нет! Оказывается, они отказались от так называемой западной «демократической свободы», именно от свободы самого Запада, его свободы хозяйничать на чужой земле… с целью превращения Украины в цепного пса против России. Вот за это их и сожгли – чтоб Запад имел эту свободу, и чтоб никто не смел ему мешать устраивать «оранжевый переворот» на Майдане! Получается, какова же суть этой насаждаемой западной «демократической свободы»? А это – свобода жечь, убивать несогласных! Это – свобода от совести! – И вновь повернувшись к Широкову, – вы и в нашем театре свободу от совести будете насаждать?! Ну так знайте, мы – против! Нам не нужен обезбо̀женный театр и ваша обезбо̀женная культура!
Актриса Валѝцкая, талантливейшая актриса, человек ещё советской закваски, важные смыслы которой сосредоточились в понятиях «человечность», «справедливость» и «совестливость», – обратилась к Широ̀кову напрямую:
– Это правда… насчёт сожжённых в Одессе?
Кто знает, как у неё всегда получалось так сказать – душу готов отдать, голос её проникал в сердце. А сейчас он прозвучал с таким холодом, что вся труппа встрепенулась, зашумела в её поддержку. И все больше с разных сторон слышалось: «Зачем нам такой худрук?».
На физиономии Широ̀кова – маска глухого безразличия, он нисколько не растерялся, ни от тирады Бѐльского, ни от брошенного обвинения, ни от пристального взгляда Валѝцкой, ни от возмущенных возгласов труппы. Для него всё это – словесная пыль.
– А вас волнуют мои политические взгляды? Вы, как при советской власти, проверяете меня на благонадежность? – ядовито заёрничал он.
Кто-то из актеров громогласно рыкнул с места:
– Тебе при советской власти даже под стол пешком ходить не получилось бы! Разве что – под себя, в пеленки!
Сказанное в этом мраморном зале хорошо срезонировало, и его услышали все. По рядам пронёсся гул. Труппа стала посмеиваться, уже откровенно бунтуя против Широ̀кова, которого ещё задолго до этого дня настойчиво пытался навязать им при каждом удобном случая обычно безразличная амеба–главреж. Удивительно, в этом навязывании, в нём пропадала его вялость – опору давало водительство влиятельных лиц вышестоящей организации.
– Речь не о политических взглядах, – холодно прищурившись, продолжила Валѝцкая, – речь об отношении к людям, не надо всё с ног на голову переворачивать. Людей жгли живьем, и за свою правду… а вы издеваетесь.
Она вышла перед собравшимися, прекрасная в своём светлом костюме, оттеняющем ее горящие глаза, высокая, гордая, к ее мнения всегда прислушивались. Вылитая мифологическая богиня Жѝва, олицетворяющая жизнь и светлую душу. Не дожидаясь, пока Широ̀ков что-либо ответит, – а он лишь игриво-нахально поглядывал на нее, пытаясь наглостью прикрыть себя, как щитом, – Валѝцкая отвернулась и добавила своим полнокровным чистым голосом, который так отличал ее от других:
– Я не буду голосовать за кандидатуру в худруки этого самозванца. Нам всем… всей труппе, его просто пытаются навязать… Мы вправе выбирать. И я даю ему отвод.
И покинула зал, высоко неся голову, полная достоинства, постукивая каблуками, каждым ударом впечатывая в пол самонадеянные планы Широкова.
Собравшиеся зашумели, поднялся невообразимый гвалт, люди повскакивали с мест, горланя и стараясь перекричать друг друга. Можно было различить отдельные возгласы: «Мы против», «Гадость!», «Нет, не нужны нам такие инновации…», «Театр погибнет!», «Голосуем за Бельского»…
Бельский, продолжая стоять на своем месте за кафедрой, как триумфатор, посматривал на сбившуюся в кучку темную воронью стаю – на кандидата на пост худрука, на сникшего главрежа, растерянно переминавшегося и в смятении поглядывающего на влиятельных господ из Минкультуры с хмурыми лицами.
И тут вдруг этот фатоватый Широ̀ков выдернул из рук главрежа какую-то бумагу и грозно, перекрывая нарастающий галдёж, прямо-таки каркнул, тряся перед собой этим листом:
– Господа, к счастью, не вы решаете! Вот приказ о моем назначении, он уже подписан министром культуры. Я – худрук этого театра. И у меня есть желание… да и признаюсь, возможность… всех вас уволить.
Чёрные из кучки – приосанились, физии их вновь приняли благообразное авторитетное выражение.
Бельский вцепился в трибуну, лицо налилось краской. Это был один из великих гоголевских финалов всеобщего онемения. Потом – обрушились крики, настоящие вопли ярости, но не на голову наглого Широ̀кова. А на горемычного главрежа: он знал о том, что уже всё предрешено, – и молчал. Зачем он устроил этот спектакль с якобы выборами? Как он посмел допустить пустопорожний фарс, не огласив факта уже принятого решения!
Но мало-помалу возмущенные работники театра, горячо переговариваясь и споря между собой, покинули зал, и в конце концов Широков и черно-сюртучная воро̀нья мафия осталась одна. Они вполголоса принялись обсуждать дальнейший план действий, дабы не потерять доминирующие позиции в борьбе за власть в театре. Но тут пришла уборщица, баба Клава, и начала истово обметать их шваброй, да не по одному разу, словно совершая ритуал выметания бесов. Их морды… ой, лица, вытянулись. И они исчезли, не дожидаясь окропления водой.
Бельский не помнил, как выбрался из этого пекла, он только краем глаза заметил в коридоре светлую фигуру Валѝцкой. Её уже посвятили в произошедшее. И она – единственная из всех сохраняла царственное спокойствие. Поддержала его кивком и понимающим взглядом. Он спустился по лестнице.
Из своей подсобки вышла Римма.
– Я хотела вам позвонить… Да вы телефон отключили.
Бельский саркастично отрывисто захохотал.
– Теперь, Риммочка, мне и самому все понятно.
Римма своей невозмутимостью напоминала Валѝцкую, но держалась не так величественно, а с добрым юмором. С ней можно было душу отвести.
– Негодяй всю труппу собирается уволить, – пробормотал он, подавленно согнувшись.
Римма уверенно перечеркнула утверждение мэтра:
– Да куда он без труппы-то? Без вас, без Валѝцкой? Да кто у него играть-то будет? Бездарей наберёт?.. Ах да, у меня, Юр Ваныч, кое-что есть для вас из гадания-то… всё-таки кое-что углядела в картах своих, когда раскладывала. Я и таро, а потом и китайские попробовала. Река вам вышла. Река… Подробнее не могу сказать, – в некоторой неловкости заметила пожилая вахтёрша.
Но на Бельского это слово произвело сильное впечатление.
– Река… река… – словно бредил он, глядя куда-то в пространство невидящим взором.
– Да. Мне надо на реку, – выдавил он через несколько секунд, так же не отрывая взгляда от того, что ему там привиделось. – Точно! Как же я не подумал об этом! На реку!
– Топиться, что ль?! Боже…! – выдохнула Римма.
– Еще чего! – вскипел Бельский. – Я, значит, утоплюсь, а он радоваться будет, шаромыжник!? Нет, пока я жив, не завладеет моим театром… этот временщѝк… – И Бельский указал пальцем на второй этаж, где торжествовал в сию минуту мишу́рный божок Широков. – Есть ещё у меня дела.
– Мне, Риммочка Ивановна на Волгу надо, в Ю̀рьевец! – взволнованно, сразу ободрившись, провозгласил Бельский, вдохновенно, торопливо, перебивая самого себя, – 16 июня там фестиваль… мы с труппой повезём туда наш спектакль «Годунов», – глаза его загорелись, – будем плыть на теплоходе… играть для людей в маленьких поволжских городках… увидим их реакцию… будем общаться… Мне тут один человек написал, хочет приехать, познакомиться, иностранец… довольно известный… Боюсь, правда, пресса слетится на него, испортит знакомство. Но приглашу…
– А кто это? – заинтересовалась Римма.
– Английский актёр То̀мас Мэ̀ррил.
– Ой, а я его знаю! – оживилась женщина. – И моя внучка знает! Голливудский фильм выходил, он играл колдуна, Дракулу какого-то… Внучка –поклонница этого актёра… Послушайте, Юр Ваныч, вы не обижайтесь, достаньте, пожалуйста, автограф этого То̀маса Мэ̀ррила для внучки… Я понимаю, дико звучит… сам Бельский автограф у кого-то просит – всё равно, если бы Смоктуновский просил автограф у Веры Брежневой…
Бельский, польщенный, расплылся в улыбке:
– Нет, Риммочка Ивановна, это – если бы Смоктуновский просил автограф у великого английского актера Ло̀уренса Оливьѐ… Написавший мне – актёр большого масштаба. Для меня в этом нет ничего неприятного. Весь мир признаёт, что британская актерская школа лучшая в мире.
– Да брешут они все! – по-простому жахнула ладонью об стол Римма, уязвлённая за русских. – Не верю, что они могут играть лучше наших. Наши-то – кишки на стол! Нутро выворачивают, так душа и горит.
– Зачем же кишки? – урезонил её Бельский. – У англичан другой подход. Естественный ритм речи, без повышения голоса, тонкость рисунка роли, сдержанность, актёры стремятся к меньшей жестикуляции, лишь самое значимое проявляют, и делают это выразительно.
– Холодно это, – не могла угомониться Римма. – Я ведь тоже театралка, хоть и вахтер, Юрий Ваныч. Я, благодаря вам, на каких только спектаклях не побывала. И когда эти англичане приезжали с гастролями – тоже. Шумиха-то, шумиха вокруг них была! Но играют уж очень сдержанно, себя берегут, жилы не рвут.
– Так это разное искусство, у них и у нас, Риммочка Ивановна. У нас чисто русский размах, широта, мощь, эмоции… Мы, действительно, нутром играем… Если печаль – то такая, что в ней таится вся печаль мира… Переживания – нередко с перехлёстом… По-правде говоря, «жилы», «кишки» и у нас сейчас пропадают, уходят в прошлое. Европеизируемся. А у англичан – в отличие от нас, можно сказать, театр меры, естественного реализма… если брать классический театр, конечно. У нас же – гиперреализм, – внёс дополнительный штришок Бельский, и чуть присыпал критики, иронически улыбаясь, – наши иногда так отрываются, что просто меры не знают, и выходит безвкусица. Все-таки искусство – это владение собой, творческая самодисциплина. А у нас нет ее… У англичан же с этим все в порядке… Что же касается Томаса Мэррила… он в 1997-м приезжал, играл у нас Чехова. Именно по-чеховски, сдержанно… некоторые считали, что аскетично… но, по мне, так очень естественно, без завываний, как наши любят.
***
(16 июня 2014. Россия. Город Ю́рьевец)
Старинный городок, живущий в основном только фестивалями. Золотистые сочные краски полуденного солнца на ю́рьевецком берегу огромной Волги. Нежные луга, маленькая церквушка, нетронутая красота природного ландшафта в мерцании расплавленного марева. Всё кажется миражом в призрачной летней дымке, неясной, таинственной, замершей среди шороха обильной зелени и плеска речной воды. Для жителя мегаполиса, привыкшего к асфальтово-бетонной серости, сгрудившейся тесноте людских муравейников, зловонию выхлопных газов грохочущих улиц и надсадной кондиционерной взгонке отработанного нездорового воздуха в помещениях – здесь непривычный для них оазис. В его спокойной красоте раскрывается сама природная несокрушимость. Кажется, это настоящий рай естественной жизни. У берега в травах особенно сильно слышно буйство стрекотания кузнечиков, издающих свою песнь-хвалу этому миру. Бабульки на пристани продают незабудки, ягоды, незамысловатые дары своих огородов и садов.
Простодушно смотрит на всех прибывающих на пристань па́левый пёс, и неловко лязгая зубами, гоняется за бабочками. От легкого ветерка чуть колышутся ветви с листвой, приветствуя плывущих вдоль берега пассажиров.
Бѐльский на теплоходе растянулся на своём лежаке и чуть подремывал под едва уловимую качку, мягкий шум воды и игру солнечных бликов. Исчезли из его мыслей, растворились все неприятности последнего времени: и фокусник Широ̀ков, проворачивающий интриги вокруг театра, и московские критики, прикормленные либеральной кастой распределителей всяческих грантов, конкурсов, призов, премий и прочих приманок. Эти критики, отяжелевшие жирком буржуазности, дежурно отзываясь о Бѐльском как о легенде театра, однако всегда искали случая, как бы брызнуть ядом и подпустить булавочных укольчиков, при этом для виду поливая сахарным сиропом свои злобные выпады. Вот ведь лицемеры, притворщики-фарисеи! Здесь, перед водами великой русской реки, всё это, также как и захват театра Широ̀ковым, предстало таким ничтожным, суетным, таким далёким. Даже поразительно, что совсем недавно это волновало и тревожило его.
Успокоившись, Бѐльский смог, наконец, принять решение – он создаст с изгнанной труппой новый театр, свой собственный. Это самый простой выход. Диву давался, как же раньше не приходило в голову подобное. Такая внезапная счастливая мысль окрылила и подняла боевой дух живущего в нём творца. Он отдался мысленному потоку надежд и планов.
При подходе судна к причалу Ю̀рьевца он выхватил глазами из скопления людей некоторых актеров своего театра, приехавших раньше и пришедших встретить его. И ещё внимание Бѐльского привлекла собравшаяся на пристани толпа с кинокамерами и фотоаппаратами. Перед ней в нетерпении прохаживался высокий худощавый брюнет лет пятидесяти с суховатым лицом и породистыми, благородно вырезанными чертами, что-то говоривший назойливым репортерам, но при этом пытавшийся уклониться от запечатления на их аппаратуру.
Да это же То̀мас Мэ̀ррил! Режиссёр понял, что это тот самый актёр, гость из Лондона, который искал знакомства с ним и которого он пригласил на фестиваль. И его теперь атакуют вездесущие папарацци.
Сойдя на берег, Бѐльский пришел в раздражение из-за этих журналюг, преклонявшихся перед Западом, а своего ни во что не ставивших – всех русских знаменитостей те проигнорировали ради заграничной звезды. Но еще больше терзало Бельского некстати всплывшая просьба Риммы достать автограф этой звезды. «Вот ещё! Не многовато ли этому мо̀лодцу внимания от русских, мы, вообще-то, и сами с усами!» – вломилось в мозг мэтру, задетому за своих необласканных актеров.
Иностранец выглядел чуть растерянным, но не утратившим чопорности, обычно присущей англичанам. Он с сильным акцентом, хотя довольно бойко, что-то бала̀кал по-русски, отвечал терпеливо, но без улыбок, держа эмоциональную дистанцию. Он нес повинность с холодной безропотностью человека, понимающего безнадёжность ситуации, отчего его худое лицо порой удивительным образом меняло выражение с сурового на мученическое. «Эх, культура… Европа… – пробормотал Бѐльский, – не может себе позволить послать их… Надо бы научить его отбривать мягко, интеллигентно, но так, чтобы не возникало сомнений, и не повадно было лезть».
То̀мас Мэ̀ррил выждал, пока репортеры, как комары-кровососы, оставят его, и с тем же мягким страдальческим выражением остановился. «Ну, прямо ни дать ни взять – князь Мышкин» – едко заметил про себя Бельский.
А Мэ̀ррил всматривался в чудесные летние дали, пытаясь найти ответ на своё неразгаданное ощущение. Какое-то знакомое чувство окутало его – ощущение, что он всё уже это видел ещё сто лет назад, задолго-задолго до того дня, когда впервые посетил Россию.
Мэ̀ррил заметил Бѐльского и, узнав – удивительно, они ж никогда раньше не виделись! – сделал к нему два неуверенных шага. Бельский всё ещё находился в состоянии раздражения. «Почему этому господину иностранцу так захотелось познакомиться со мной? Чего ему надо? От меня, и от России? Не бурла̀чить же здесь гастролёром вознамерился сей гость заморский!» – разгорячаясь, молчком ерепѐнился Бельский.











