Читать онлайн Сёстры и сад
- Автор: Александр Бармак
- Жанр: Кинематограф, Театр, Культурология
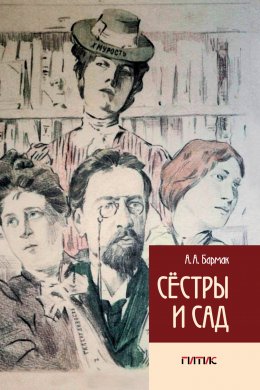
© Бармак А. А., 2020
© Издательство ГИТИС, 2022
Мотивы и реминисценции
Старую английскую песенку со смешным названием «Та-ра-ра-бумбей» любил Уинстон Черчилль и часто ставил пластинку с ее записью. Эта песенка по сути военный марш, очень известный. Кто помнит старый знаменитый замечательный фильм «Мост через реку Квай» о британских офицерах в японском концлагере с изумительным Алеком Гиннесом в главной роли, должен прекрасно помнить и музыку из этого фильма, она жива до сих пор. Особенно был, да и сейчас остался, популярным саундтрек под названием «Марш полковника Боги». Похоже, что этот марш и любил слушать великий британский премьер, в другой, конечно, музыкальной редакции и обработке. Впрочем, он успел посмотреть фильм и, наверное, услышал свою любимую песенку в ее новом варианте, как она сделана в кино, а сделана великолепно. На рубеже девятнадцатого и двадцатого веков, в пору, так проникновенно, пряно, но все же не совсем внятно, описанную Андреем Белым в самом, так сказать, разгаре belle époque, в парижских кафешантанах шансонетки отчаянно плясали и пели под песенку с похожим названием, что‐то вроде «Тамара бум-бей». Плясали и пели до первого звоночка к мировой войне, который, однако, не все расслышали, – речи кайзера Вильгельма в Танжере в 1905 году; плясали и пели еще несколько лет после звоночка, а потом все обрушилось, и началась бойня и абсолютные и страшные изменения в мире. Речь Вильгельма очень недалеко от событий «Трех сестер» – с Германией хотя и обнимались, и с Вильгельмом на яхте хаживали, мундирами обменивались, но в подозрении все‐таки держали. Может быть, поэтому в «Трех сестрах» артиллерийскую бригаду и пехотный корпус, после отмены корпусов – дивизию (артиллерийская бригада бывает не сама по себе, но всегда при пехотной части) отправляют в Польшу, в Царство Польское. То есть на границу с Германской империей. На границу с Японской империей не догадались, а ведь именно там бригада-то была всего нужнее, война с Японией началась буквально завтра после окончания пьесы. Ну а до этого все Тамара бум-бей да Тамара бум-бей. Причем здесь Тамара, трудно сказать, определенно можно утверждать, что это никак не лермонтовская Тамара, которая ни в коем случае не «бум-бей», тем более что Тамара, которая «бум-бей», вполне может в латинском написании читаться и произноситься как Фамара. Тут уж возникает соблазн сделать зигзаги и к библейской Фамари, и к бессмертному таировскому спектаклю «Фамира-кифаред», но это будут именно зигзаги.
Вот что интересно.
В пьесе один из самых неприятных ее персонажей Чебутыкин то ли напевает, то ли бормочет время от времени: Та-ра-ра-бумбия… Сходство во всех трех случаях очевидное, по крайней мере в названии. Вряд ли, напевая: Та-ра-ра-бумбия… сижу на тумбе я, Чебутыкин мог знать о старинной английской военной песенке, популярной песенке парижских кафешантанов с почти одинаковыми на слух названиями. Скорее всего, он и не подозревал об их существовании и популярности. Впрочем, может быть, и знал, и слышал. Граммофоны уже были очень распространены. Правда, незаметно, чтобы граммофон был у Прозоровых. Могла ли военная песенка стать, как теперь говорят, шлягером ресторанной эстрады, или – если уж говорить совсем современным языком – ресторанного шансона?
Эстрады у нас давно уже нет никакой. Разумеется, могла. Такого рода травестии хорошо известны. Мелодия популярной и политически вполне невинной немецкой песенки о Хорсте Весселе, исполнявшаяся тоже в берлинских кабаре и ставшая впоследствии гимном гитлеровских штурмовиков, зазвучала в одной из любимых советских песен тридцатых годов прошлого века – «Марш авиаторов». Современное поколение и не помнит такой песни. Ну как же: Все выше, и выше, и выше стремим мы полет наших птиц… Что‐то еще там такое необыкновенное то ли слышно, то ли дышит в каждом пропеллере.
Есть ли польза от такого рода сопоставлений, ассоциаций, например, для актера, играющего Чебутыкина, и режиссера, работающего с ним над этим образом? Нет никакой пользы, да и над образом сейчас мало кто работает, это даже странно сейчас – работать над образом, артист сам теперь образ и есть. А уж работать ему над самим собой, это вопрос не столько эстетического, сколько этического порядка. Разве что они с удовольствием посмотрят старый добрый фильм. Какое им дело до любимой пластинки великого британского премьера и парижских шансонеток из, скажем, знаменитого кабаре «Мулен Руж» и их берлинских коллег из, скажем, не менее знаменитого, правда, возникшего лет на двадцать позже берлинского «Неопатетического кабаре», название которому дал доктор философии Стефан Цвейг, в то время еще только автор «Серебряных струн»? Никакого дела им до этого нет. Даже если они узнают, что именно в «Мулен Руж» впервые актриса разделась догола на сцене. На всякий случай, это случилось в 1893 году. Скандал был! Даже если они и сделают, что, впрочем, представляется крайне сомнительным, зигзаг в сторону и к Фамари, и к Фамире-кифареду. Так зачем же нужны эти натянутые сопоставления? И сопоставления не нужны, тем более натянутые.
Так в чем же, собственно говоря, дело?
В атмосфере.
В пьесах Чехова – атмосфера самое главное, это дыхание пьесы, и это дыхание самое труднодостижимое в чеховском спектакле. Не настроение, не эмоциональный фон, не некий общий тон. Даже не музыкальность, хотя атмосфера сама по себе, а в этой пьесе особенно, обладает своей уникальной музыкой. Атмосфера рождается из самых неожиданных вещей, часто и из натянутых сопоставлений. Иногда из зигзагов.
Но в театре атмосфера возникает только через человека, она создается действующим на сцене актером, именно и только действующим – не переживающим и не изображающим состояние, что сегодня довольно распространенная вещь. Все остальное только подручные, хотя и чрезвычайно важные вещи.
Но пока мы говорим именно о пьесе, написанной гениальным писателем. О произведении великой литературы. И говорим, если угодно, не столько о психологии ее атмосферы, сколько – о ее философии.
Текст этой пьесы представляет собой изумительную художественную литературную ценность сам по себе. При всей его абсолютной непонятности и совершенной нереальности. Он все время информирует нас не о том, что происходит на самом деле, ему вообще нельзя доверять, как, впрочем, любому тексту. Совокупность всех диалогов и пауз между ними, особое сцепление слов – из всего этого возникает удивительная прозрачная ткань пьесы, создается ее атмосфера, так сильно и так чарующе действующая на нас при ее прочтении. Именно из совокупности – каждая отдельная реплика диалога бывает очень банальна и пóшла. Считается, что Чехов не писал романы – но пьесы его, особенно «Три сестры», «Вишневый сад», самые настоящие театральные романы, причем, конечно, во времени создания их – самые что ни на есть модернистские. Это такой вечный модерн, надо было так написать, что каждая эпоха, а их сменилось несколько с тех времен, как он написал эти пьесы-романы, рассматривает их как суперсовременные вещи, причем совсем не потому, что в них подымаются так называемые вечные, то есть чрезвычайно пошлые, темы. Нет, речь идет именно о форме этих произведений. Немирович-Данченко говорил о «театральном романе жизни», тут хорошо бы обратить внимание на слово – театральный, как новом и небывалом еще на театре сценическом жанре.
Вместе с тем, вот так вот просто перенести на сцену атмосферу пьесы, даже прекрасно понимая ее особенности, природу, и то, что называл Немирович-Данченко «лицом автора», абсолютно невозможно. Можно прийти к ней или приблизиться, что скорее всего, но ради этого приближения необходимо создать на сцене действенную жизнь актеров. А стало быть, препарировать пьесу с точки зрения анализа так называемых предлагаемых обстоятельств. А они, увы, далеко не всегда понятны и оправданны, если не сказать, что вообще непонятны. Стало быть, нужно искать в предлагаемых обстоятельствах особые, необходимые – то есть не набирать обстоятельства, а совершать тщательный отбор их. А иногда просто-напросто – придумывать, ибо далеко не все в пьесе поддается строгому логическому и бытовому анализу, если не сказать – вообще не поддается анализу. Логику нужно искать и не в последнюю очередь именно в художественных особенностях текста пьесы. А делать это необходимо, чтобы действие актера приобрело смысл и органически вытекало из строго отобранных предлагаемых обстоятельств, действенных фактов, событий. Действие – это прежде всего процесс восприятия, включающий в себя и отношение, стало быть, это процесс исключительно эмоционально окрашенный, в нем огромную роль играют воображение и фантазия. Велика роль в этом процессе ассоциаций, очень велика.
По нашему мнению, которое, разумеется, можно оспорить, актер, знающий о песенке Черчилля и исполнявших ее мелодию французских шансонетках, да еще и посмотревший фильм «Мост через реку Квай», как‐то иначе будет напевать: Та-ра-ра-бумбия, сижу на тумбе я…, чем актер, не знающий об этом. Даже если никакого отношения одна тарарабумбия к другим и не имеет, впрочем, может быть, и действительно не имеет. Даже скорее всего – не имеет.
«Три сестры» – великая пьеса, одна, может быть, из самых замечательных в мировой драматургии. По поводу и пьесы, и ее героев можно задавать миллионы вопросов. И на все вопросы найдется в пьесе ответ, даже и тогда, когда ответа нет, заведомо нет. Это звучит странно. Но поэтика пьесы обладает собственной правдой. И эта правда выше всех вопросов и бывает, что противоречит логике реальной исторической жизни. Так нужно пьесе, вот, в сущности, единственный ответ на все вопросы. Если ты чего‐то не понимаешь или что‐то ставишь под сомнение, так это твои проблемы, не берись за постановку этой пьесы, возьми другую. Ту, которой вопросы задавать легче, а может быть, и вовсе не нужно, поскольку в пьесе все ясно и вопросов не возникает. Все это, впрочем, известно и представляет собою так называемое общее место. Как и многие другие рассуждения такого рода. Но так ли уж необходимо пренебрегать так называемыми общими местами? А вдруг они совсем и не общие?
Тем не менее в книжке эти вопросы, далеко не все, некоторые, задаются. Даже не к пьесе – а к ее тексту. Пусть и несколько назойливо. Очень может быть, что неумные вопросы, да что там говорить, признаемся – глупые вопросы, должно быть, даже из того разряда, хуже которого нет и быть не может, что называется, обывательских. Ну, например, когда родился Бобик и была ли Наташа в положении, когда страстно целовалась с Андреем в конце первого акта. И кто все‐таки был виноват в этом «положении» – Андрей или один из, безусловно, главных героев пьесы – Протопопов? Сколько лет Андрею в первом акте, старше он своих сестер или младше и т. д. и т. п. Ведь по сцене ходят не элементы поэтики, а живые люди, и им большей частью приходится задавать себе и друг другу вопросы, часто самые не поэтические, неприятные даже отчасти вопросы.
Вопросы, кстати, начинаются прямо со списка действующих лиц.
Анфиса стоит в этом списке последней, это незначительный персонаж. Тогда можно предположить, что первый в списке – самый значительный. Первым из действующих лиц пьесы, означенной во всех изданиях драмой, но которую Чехов, шутя, наверное, называл комедией, стоит Прозоров Андрей Сергеевич. Второй – Наталья Ивановна, его невеста, потом жена. И только третьими – сестры Ольга, Маша и Ирина, взятые в фигурные скобки, казалось бы, главные героини пьесы. Да, конечно, драматургия Чехова новаторская, и у него нет главных героев в прежнем традиционном их понимании. Тем не менее пьеса называется «Три сестры», а не, скажем, «Сестры Прозоровы». Конечно, так назвать пьесу было не совсем корректно, из трех сестер одна уже не Прозорова, а Кулыгина. Но можно было, например, назвать – «Семья Прозоровых», Мария Сергеевна, хотя уже и Кулыгина, все‐таки из семьи Прозоровых. Прибавьте Андрея, получается абсолютно точное название. Но автор называет пьесу «Три сестры», вольно или невольно давая нам понять, что все‐таки все вертится и крутится вокруг именно сестер. Пьеса называется «Три сестры», как роман Дюма называется «Три мушкетёра». Мушкетёров только в самых первых главах всего трое, потом с д’Артаньяном их становится четверо. Но роман называется не «Четыре мушкетёра». И даже не как некоторые, впрочем, посредственные, фильмы – «Д’Артаньян и три мушкетёра», а просто «Три мушкетёра». Хотя главный герой – и в этом нет сомнений – д’Артаньян. Может быть, Андрей Прозоров такой вот своеобразный д’Артаньян? Может быть, он самый старший в семье и поэтому открывает список действующих лиц, читая который, мы все‐таки привыкли имена главных героев произведения, даже самого новаторского, видеть в первых строках программки? Или он как единственный мужчина в доме занимает место главы семьи? Но в доме ли он? Может быть, он только недавно приехал и совсем не рассчитывает остаться в этом городе и в этом доме надолго? А когда остается, и навсегда, то совсем не хозяином в доме. Так почему он открывает список действующих лиц? Он – самое, можно сказать, бездейственное и, простите, рыхлое лицо во всей пьесе. Может быть, просто «Три сестры» – красиво звучит? Две сестры – вроде как две сиротки, так называлась популярная мелодрама. Четыре сестры – звучит чудовищно, хотя и не лишено смысла.
Интересно, что Чехов предполагал главными героями пьесы четырех интеллигентных женщин, а ведь это в своем роде те же четыре сестры, вряд ли он имел в виду старуху Анфису, скорее все‐таки Наташу. Но так не получилось – четвертая, Наталья Ивановна, оказалась дамой совсем неинтеллигентной, во всяком случае в нашем, современном и, конечно, идеализированном, ложном понимании той, прежней, настоящей, крайне немногочисленной, которой был, по словам Горького, всего-то паутинно-тонкий слой, интеллигенции, хотя и стала родственницей, почти сестрой. Чехов, мягко говоря, интеллигенцию не любил. Да и понимал под ней все‐таки всего лишь слой образованных и, что для него было немаловажно, воспитанных людей. Потом из образованных – вышла, прибегая к знаменитому термину А. Солженицына, образованщина, ну это уж было после интеллигенции в любом даже ее понимании, но эта образованщина сидела крепко и в старой, идеализируемой нами интеллигенции. Теперь и образованщина стала тонким паутинным слоем и выглядит почти как самая настоящая, а таковой не было никогда, интеллигенция. Все это отнюдь не праздные вопросы – все это вводит нас в своеобразную, очень запутанную и отчасти даже несколько мистическую в своей запутанности атмосферу пьесы.
Нам кажется, что пробиться к подлинной поэтической правде пьесы и к ее необыкновенной атмосфере невозможно, минуя эти вопросы к ее тексту.
Пьесы Чехова обладают своей особой атмосферой, она музыкальна, и конечно, собственно музыка играет свою роль в ее создании. Надо сказать, что автор совершенно определенно указывает все непосредственно музыкальные фрагменты в своей пьесе, и возникают они в строго необходимый ему момент действия. Зачем он это делает и почему именно в этот момент – один из вопросов к автору. И искать ответ на него в обманчивой прозрачности пьесы придется режиссеру и актерам.
Таких музыкальных вставок несколько.
В первом акте Маша насвистывает песню. Какую? Это немаловажный вопрос, автор пишет не просто насвистывает, а именно песню. Что за песню могла насвистывать Маша и почему она не напевает, а насвистывает? Не всякую песню можно насвистывать, но все можно напевать. Особенно возвратившись с кладбища, надо полагать, что они на могилу отца ходили? Тузенбах что‐то тихо наигрывает на рояле. Что? Может быть, «Весеннюю песню» Мендельсона, дело-то происходит в самом начале мая. Ну неужели третью часть Второй сонаты Шопена, знаменитый Marche funebre? Казалось бы, рано еще, впрочем, у него ума хватит и на это. Занятно: Маша свистит, а играет на рояле Тузенбах. Но к концу пьесы мы узнаем, что оказывается Маша изумительная пианистка, вот ей бы и сыграть на рояле, а барону бы посвистеть, но она ни разу за все действие пьесы к роялю не прикоснулась. Ну и барон не свистит ни разу. Если не считать его монологов, о которых можно выразиться так: несколько на арго. А какой бы это мог быть выигрышный момент для исполнительницы этой невероятно сложной роли, о которой девяностолетняя уже Книппер-Чехова, первая ее исполнительница, сказала: Наконец-то я стала понимать Машу! Интересно, как же она играла-то ее почти всю жизнь, не понимая? Но нет, Чехов такого момента Маше не дает.
Скрипка звучит в первом акте два раза, это играет Андрей, что именно он играет, Чехов не указывает, опять вопрос к исполнителю роли и режиссеру. Грустная, задумчивая мелодия, что как будто бы больше пристало скрипке, они обычно даже рыдают в романсах и плохой литературе; мелодия может быть и веселой, и даже лихой, тоже популярная крайность – цыганщина, так сказать. А вдруг так называемую Крейцерову сонату? Ну уж не «Дьявольскую трель» Тартини? Да, нет – ну что может наигрывать на скрипке Андрей – может быть, «Каприс» Франтишека Бенды? Ну тогда это и правда испытание для домашних.
А может быть, Андрей влюбился и по этому случаю стал учиться на скрипке? Ну все‐таки кто же стал учить его игре на скрипке и когда? И вообще – он что, был одаренный ребенок, который с младенчества тянулся к скрипке? А кто на ней играл в семье военного артиллериста? Ведь где‐то мальчик должен был скрипку услышать? Может быть, в еврейском оркестре из «Вишневого сада»? Но были ли в Москве, где произрастал Андрей, еврейские оркестры из «Вишневого сада»? В концерты ездил с матерью и там услышал скрипку, и стал просить обучить его на скрипке играть? А кто был учителем? Вот тут возникает вопрос, а сколько же Андрею лет? Неужели отец – генерал-майор командир бригады учил сына музыке и не на фортепиано, что в принципе не так уж выглядело бы странным, но именно на скрипке? У артиллериста почти всегда не хороший слух. Для скрипки нужен абсолютный музыкальный слух, скрипачи они же на жаргоне слухачи. Воспитывал сына, потом сын скажет о нем: Угнетал нас воспитанием. И что, скрипка в этом воспитании сына играла какую‐то особую роль, наравне, например, с лобзиком, которым так отлично научился владеть Андрей? Известно, что он выпиливает рамочки и играет на скрипке, больше, к сожалению, ничего о нем в сущности неизвестно. Играет он или поигрывает просто? Может быть, мать все‐таки учила его? Машу на фортепиано, а его на скрипке? Вот были б дуэты хороши. Была сама музыкально одарена и играла на скрипке? Если так, то это большая редкость. Она хотела видеть сына музыкантом, скрипачом? Она умерла одиннадцать лет назад, так сколько же было лет Андрею, когда она умерла? Он вспоминает забытые уроки?
Второй раз музыка сопровождает весь второй акт – издалека слышна гармоника, няня поет колыбельную, Маша по‐прежнему насвистывает, Ирина напевает, Федотик и Родэ наигрывают на гитаре, песня «Ах вы, сени мои, сени…», Тузенбах играет вальс на рояле, снова отдаленная гармоника и няня поет песню…
В третьем акте основная музыка – это набат по случаю пожара. Андрей, правда, снова играет на скрипке, заперся у себя в комнате и играет, что он играет, опять‐таки неизвестно. Вполне возможно, что все того же Франтишека Бенду. Также неизвестно, слышна ли его скрипка в общем шуме, гаме и суматохе. Да, еще: несколько тактов мотива из «Онегина», которым обмениваются Маша и Вершинин.
В четвертом акте появляются странные, как будто бы со страниц Вильгельма Мейстера сошедшие бродячие музыканты. Старик едва ли не Лотарио, и девушка – уж не Миньона ли? Играют они на арфе и на скрипке. Опять скрипка. Кто играет на арфе, старик или девушка? Скорее всего, это небольшая арфа, она крепилась через плечо, но все равно инструмент сколь благозвучный, столь физически изнуряющий. Что они играют, неизвестно. «Размышление» Массне? Известную пьесу Сен-Санса для арфы и скрипки? А может, как раз романс Миньоны? Или какое-нибудь попурри? И вообще зачем они понадобились на сцене? В наше время неожиданно, быть может, но дуэты арфы и скрипки пользуются большим вниманием. Звуки арфы считаются полезными для здоровья – в некоторых лечебных заведениях сидит бедная арфистка в углу перед регистратурой и что‐то душеспасительное тихонько исполняет. И всем хорошо, хотя немножко и страшно, больше всего, кажется, самой арфистке, уж больно музыка какая‐то запредельная, но, как‐никак, терапия.
И вот только один раз Чехов точно называет музыкальную пьесу, которая исполняется на рояле, – это «Молитва девы» Бондаржевской-Барановской, популярной польской пианистки. Сверхпопулярная в то время пьеса, до такой степени очаровательная мелодия, что под нее можно выпить стакан скипидару с горьким перцем, не поморщившись, до того она сладка. Кто же исполняет это произведение? Наташа? Эта музыка в ее вкусе. Протопопов? Очень может быть – ему должно нравиться все, что нравится Наташе.
А может быть, Бобик – он еще маленький, но растяжка у него большая! А может, как раз граммофон играет? Может быть. Что ж у них граммофона не было? Был, конечно. Кстати говоря, и рэгтайм, и вообще джаз были уже в то время очень популярны.
Четвертый акт – самый музыкальный. Просто перенасыщен музыкой: что‐то играют Лотарио и Миньона, чуть позже «Молитвы девы», забавный музыкальный киоск. А вдруг и бродячие музыканты – «Молитву девы»? Да, две «Молитвы девы» подряд – это накаляет атмосферу, безусловно. Может быть, поэтому музыканты так быстро уходят (Уходите с богом, сердечные). А что же? – очень может быть. Да, ко всему этому надо прибавить и ритмически музыкальные повторы «Ау! Гоп-гоп!» да еще и глухой далекий выстрел. И паузы, паузы, паузы… Ну вот эти паузы и гопгопы – самый настоящий джаз и есть. И все это подготавливает самую главную и знаменитую музыку – военный марш в самом финале пьесы.
Музыка звучит так бодро, так весело… Эффектно было бы, конечно, сыграть в финале знаменитейший марш «Дни нашей жизни», не путайте ни с романсом, ни с пьесой Л. Андреева, и название-то какое подходящее, и он даже как‐то перекликается с «Та-ра-ра-бумбией», но он был создан полковым капельмейстером Л. Чернецким несколькими годами позднее, впрочем, с расстояния в сто лет можно было бы чуть пренебречь хронологией. Из этого ставшего широко известным в народе марша в годы революции сделалась песенка, она дошла до наших дней, мотив ее знаем мы все с детства – По улицам ходила большая крокодила, она, она зеленая была…
Все эти музыкальные моменты свою и немалую роль в особой атмосфере пьесы (подчеркиваем, что говорим об атмосфере пьесы, не спектакля) играют, но атмосфера ее в огромной степени создается самим языком пьесы. Интонации автора создают ее; пьеса представляет собой систему своеобразных интонационных арок, они держат всю ее конструкцию; главным образом они, эти интонационные арки, составляют природу драматургии этой пьесы, как, впрочем, почти всех великих пьес Чехова. Они создают особый ритм чеховского текста; организуют время-пространство пьесы. Пьеса читается как стихотворение, а слышится как… песня без слов.
Вообще пьеса предъявляет к постановщикам требования, которые характерны для стихотворной драматургии. Существовать на сцене абсолютно естественно, непринужденно, но при этом сохранять мелодию и музыку стиха. Но в данном случае еще сложнее, форма, если так можно сказать, диалогов абсолютно свободная, но – чуть передержал паузу, чуть нажал, чуть заторопил или замедлил – и все пропало, пробормотал или вскрикнул – бытовая псевдопсихологическая драма, а то и мелодрама вовсе. Как раз то, чего не хотел и так, наверное, боялся Чехов. На самом деле чего он хотел – мы не узнаем никогда. Важнейшая задача тут не только что говорить, но и как говорить. Как понять, как почувствовать и сделать своей речь автора. Повторяем – не отдельную реплику, даже монолог, этого при хорошей школе и точном разборе события добиться можно и нужно, конечно. Нет, вот именно строй авторской речи сделать как бы своим, ощутить как бы свою идентичность чеховской речи. Тут надо ухо иметь, как у Андрея – скрипача. И внутренне наследовать великой русской речи, быть приращенным к ней. Сегодня это почти невозможно. И скоро придется играть все пьесы Чехова, как сделал это однажды один остроумный режиссер с теми же «Тремя сестрами», на языке глухонемых. Либретто оперы «Евгений Онегин» – насмешка над романом в стихах. Свести все к банальной, почти пошлой истории! Но музыка Чайковского и его гениальная музыкальная драматургия адекватны гению Пушкина и объемны так же, как его роман. Скажут – музыке это легче дано. Наверное, но и в драматическом спектакле должна быть своя внутренняя музыка, его атмосфера.
Найти сценическое воплощение атмосферы литературного произведения – интереснейшая и увлекательнейшая задача. Всегда есть искушение передать ее неуловимые особенности музыкальными понятиями – первый акт, скажем, например, сначала grave, потом allegro di molto e con brio, как в восьмой сонате Бетховена, одной, кстати, из самых театральных его пьес. Второй акт – andante cantabile, третий – страшное presto, почти danse macabre. Четвертый акт – largo sostenuto, можно сказать, tremendo и subito vigoroso.
Все это очень красиво звучит, но незачем все это пытаться перенести на сцену, заниматься этими вещами впрямую крайне опасно в чеховских пьесах. Наверное, что‐то в этом духе нужно держать в голове, во всяком случае эту растворенную в пьесе музыкальность, этот музыкальный яд невозможно не почувствовать, но им легко отравить спектакль, если, еще раз повторим, брать эту особенность пьесы впрямую. Чехова часто сравнивают с Чайковским – да, у Чайковского часто система интонационных арок держит всю драматургию оперы, например в «Евгении Онегине». Как не утонуть в этой музыкальности, как сохранить эту уникальную авторскую интонацию, передать ее в спектакле, который просто по природе своей неизмеримо грубее написанной Чеховым вещи, и создать при этом строго индивидуальные живые человеческие характеры – задача очень непростая, но исключительно интересная. И невозможная без глубокого погружения в литературный текст, который сам по себе в данном случае является важнейшим предлагаемым обстоятельством.
Вот все, что касается первой части.
Скажем только, что в ней случаются некоторые повторы, но это намеренные повторы, автору кажется, что их мало и что это не просто повторы, а некие лейтмотивы, повторяющиеся и чуть по‐другому звучащие время от времени по ходу разговора.
Теперь о второй части. Зачем она понадобилась и что автор хочет сказать? Зачем и кому нужны эти мотивы и реминисценции? По правде говоря, он и сам не знает. А что, собственно, кроме мотивов и реминисценций можно добыть нового из разговора о вещах, давно и хорошо известных, хрестоматийных? У нас ведь давно и хорошо известно, как нужно ставить и играть Чехова. Это театральная проказа – не успеет режиссер рта открыть, а актеры и, простите, критики уже знают, как и что нужно играть. Об этом горько говорил когда‐то А. Эфрос: ставим, говорит, «Отелло», разговор о главном герое, и актеры сразу: Отелло не ревнив, он – доверчив! Ну, это, конечно, самое главное, что Пушкин сказал о театре. Так случается вообще с любой классической пьесой. И так будет всегда. Сила трафарета – велика есть.
Ну вот интересно – пьеса закончилась. А что будет с ее персонажами дальше? Хорошо, если «Гамлет» – все друг друга поубивали, вообще никого не осталось в живых, никакого продолжения истории жизни для главных героев нет. Но все‐таки в чеховских пьесах все иначе, и разве неинтересно узнать, предположить, а может, и заглянуть вперед – что же было дальше? Тузенбах убит, а как жили потом остальные действующие лица, что было им суждено испытать, в том числе и его убийце, а может быть, и убийцам? Товстоногов говорил, что четвертый акт – это коллективное убийство Тузенбаха. Треплев застрелился, а что стало с Ниной, с тем же Тригориным? А что стало с Раневской? В «Сестрах Прозоровых» мы проследили возможные судьбы всех персонажей. Нам кажется, что это будет интересным и небесполезным для актеров – заглянуть вперед, а потом снова вернуться непосредственно к предлагаемым обстоятельствам пьесы. Дело еще в том, что почти все персонажи чеховских пьес достаточно молоды, чтобы успеть встретить и пережить (или погибнуть в нем) тот катаклизм, который низвергнет все их идеалы, который наступит спустя всего лишь несколько лет от конца действия пьесы. О, многие из них успели пожить в новом сверкающем мире!
Они так мечтали о лучшей жизни, так призывали ее, так в нее верили, в это прекрасное будущее, которое если не они, то потомки их увидят. Ну вот оно пришло, это будущее. Настал момент, когда оно стало настоящим. И потомки – вот они, кругом, куда ни посмотришь – одни потомки. Интересно, как потомки смотрят на своих пращуров. Смеются насмешкой горькою обманутого сына или плачут над промотавшимся отцом? Или знать не знают, ведать не ведают прошлое новые наши невегласы. Это скорее всего. Может быть, интересно и полезно посмотреть, а что стало с героями в этом самом будущем, которое уж очень скоро пришло и всех осчастливило своим приходом. И если оно, это счастливое будущее, не уничтожило их сразу одним ходом маховика, то как же все‐таки они прожили в нем, не перемолотые его шестеренками, какими прожили в нем милыми призраками. Это ведь тоже своеобразный разбор пьесы. Посмотреть на нее из того самого долго желанного будущего. А потом снова вернуться к пьесе и, может быть, тогда какие‐то, новые не ожидавшиеся никак вещи вылезут из‐под изнанки пьесы. Какие‐то новые грани откроются. Какой‐то новый ракурс зрения возникнет.
Во второй части восстают, бродят недолго и исчезают хорошо знакомые персонажи.
Не сказать, чтобы очень счастливые.
Итак: зачем же все это нужно автору? Для того, чтобы хотя бы раз повернуть голову в другом направлении.
Часть первая
сестры
Именины без поминания
Первый акт начинается странным, непонятным монологом Ольги. Вообще в пьесе много таких странных реплик-монологов, которые сразу не разберешь, к кому, собственно, обращены. Не говоря уже о том, что часто реплика направлена вовсе не тому, кому она должна быть адресована, казалось бы, по ходу и логике беседы, а совершенно другому человеку. Причем беседуют в пьесе постоянно, ничем другим, кроме разговоров, в ней никто занимается, кроме, может быть, Наташи, эта вообще говорит мало, но зато как активно действует! Речь изумительна, красива – так сейчас никто уже не говорит, интонация нашей эпохи совсем-совсем другая, она являет собой страшное снижение русской речи, а у чеховских героев речь сама по себе прекрасна, красна.
Все это очень интересно, и все это тоже создает в пьесе некоторую завораживающую читателя атмосферу. Реже это бывает с театральным зрителем. Ольга зачем‐то напоминает всем присутствующим хорошо известные вещи: Отец умер ровно год назад, как раз в этот день, пятого мая, в твои именины Ирина. Было очень холодно, тогда шел снег. Мне казалось, я не переживу, ты лежала в обмороке, как мертвая. Но вот прошел год, и мы вспоминаем об этом легко, ты уже в белом платье, лицо твое сияет. Это, конечно, стихи в чистом виде. Тут можно вспомнить пушкинское – поэзия, прости Господи, должна быть глуповата. И все же не очень понятно, где это лежала в обмороке Ирина – если дома, то, значит, не была на похоронах, если на кладбище упала в обморок, то все‐таки вряд ли уж прям лежала, как мертвая, лежать предполагает некую все же длительность процесса, после похорон упала в обморок, но, наверное, ее сначала привели в чувство, а потом уже она лежала, как мертвая… Может быть, все может быть – то, что Ирина самая настоящая истеричка, со всеми настоящей истерии присущими неприятными особенностями, это бросается в глаза. Но тем не менее всю эту часть монолога можно оправдать самыми разными действенными интонациями, все зависит от разбора этого куска пьесы. То, что это кусок экспозиционный – это оправдание литературоведческое, в театре экспозиция все равно должна быть решена действенно и конфликтно. И это в принципе нетрудно сделать, учитывая дальнейшее развитие событий, которое последует сразу же после монолога Ольги. В этом монологе слышится предложение к серьезному разговору, который, кстати, не вышел. Но вот чуть дальше, после второй паузы (первая – бой часов, полдень) она произносит очень странные слова. Он был генерал, говорит она об отце, командовал бригадой, между тем, народу шло мало.
Как такое могло быть?
Зачем она это говорит? И кому?
Такого быть не могло.
Отец был командиром артиллерийской бригады – генерал-майором. В бригаде шесть батарей, пятьдесят три офицера и тысячи две нижних чинов. Абсолютно невозможно, чтобы вся бригада не хоронила своего командира. И никакие дождь и снег тут не помеха. А ведь есть еще и такие части, которые называются парком бригады. Да еще пехотная дивизия, при которой, собственно, и существует бригада – высшие офицеры дивизии не могли не прийти на похороны своего товарища, для некоторых боевого, офицерское-то собрание в городе одно, оно для всех офицеров независимо от того, артиллеристы они или нет. Известный антагонизм, конечно, был среди них. Артиллеристы, как правило, были образованны, пехотные – далеко не всегда, но не до такой же степени они сторонятся друг друга, чтобы проигнорировать похороны командира бригады. А должностные лица губернии, пусть не губернатор, но вице-губернатор, воинский начальник, управа городская и земская, а духовенство – вряд ли отпевал рядовой батюшка, но архиерей, а с ним несколько священников, да причт и т. д. и т. п. Нет, причем здесь дождь и снег. Кого этим в Перми – действие пьесы происходит в губернском городе вроде Перми – кого снегом в Перми можно напугать? Но, видите ли – народу шло мало. Как же мало?
Тогда что же имеет в виду Ольга? Как объяснить это воспоминание, которое звучит как напоминание? Мало было в большой толпе порядочных людей, близких друзей? Ну, так их всегда – мало. Зачем об этом специально говорить, разве что – вот уедем в Москву, ни с кем особенно жалко расставаться не будет, жалеть не о чем.
А ведь это верно. Да, ведь у них действительно близких друзей нет. Если не считать Протопопова с его именинным пирогом. Протопопов очень заботится о Прозоровых, он как добрый дух витает над домом Прозоровых, устраивает Андрея – и еще как устраивает! – на должность с высоким жалованьем и высоким чином в табели о рангах, и они, кажется, эту заботу принимают, хоть морщатся немного для приличия. Как будто бы близкий, спивающийся и раздражающий сестер Чебутыкин и влюбленный Тузенбах – не в счет. Чебутыкина они терпят с трудом, хотя к нему в силу особых, видимо, причин – снисходительны, хотя слегка даже презирают его, что касается Тузенбаха – он осточертел Ирине, кажется, уже в первом акте, а к четвертому… Как будто все вздохнули с облегчением, когда Соленый подстрелил‐таки Тузенбаха, как вальдшнепа, Ирина едва ли не рада и ни в какую истерику уже не впадает. Так от радости-то что ж в истерику пускаться. Кстати о вальдшнепе, с которым сравнивает барона Соленый. Вот что пишет о нем В. Даль: Вальдшнеп – самая благородная птица на целом земном шаре. Она, будучи убита, не бьется и не трепещется в неприличных акробатических телодвижениях, а умирает, как Брут, как Сократ. Неплохая эпитафия Тузенбаху, будем надеяться, что Соленый не ошибся и Тузенбах умер именно, как вальдшнеп – без неприличных акробатических движений. Трудно сказать, насколько серьезен был Даль в этих поразительных по хладнокровию словах о замечательной птице, которую сравнивает сразу и с Брутом, и с Сократом, но по тону и тонкости наблюдений эта остроумная цитата из «Правил жизни», даже на сегодняшний, неизбалованный состраданием к братьям нашим меньшим слух, уж очень противная, вполне созвучна некоторым разговорам в пьесе. Если все же принять слова Ольги на веру и не посчитать, что она была несколько не в себе, когда произносила их, не слышала себя, не понимала, что она говорит – а это очень могло быть, учитывая всю нервность, всю ответственность сегодняшнего дня, который одновременно и праздник, и поминовение и в котором надо принять непростое решение.
Если же то, что она говорит, – правда, то возникает нехорошее подозрение, что с генералом-майором Прозоровым было что‐то не так, что‐то случилось с ним такое с точки зрения службы предосудительное, что даже на похороны к нему пришли всего несколько человек. Это действительно нехорошее подозрение, но только это может объяснить хоть как‐то, что похороны его прошли так… неудачно. Не вышли похороны.
Старый есть такой рассказ о том, как император Николай Павлович, прогуливаясь, встретил дроги с гробом, на котором лежала шпага, то есть хоронили офицера. Никто за гробом не шел. Как же так, за гробом моего офицера никто не идет! Как такое может быть! И тогда Николай Павлович сам пошел за дрогами. Натурально, каждый офицер какого бы звания он ни был, видя такой поступок Государя, тотчас же вставал за императором, и к воротам кладбища подходило уже огромное погребальное шествие. Дело, кстати, было зимой. Правда это или нет, но скорее правда, все же понятие чести стояло очень высоко, и в данном случае Николай Павлович показал всем пример, достойный подражания. Ну то было время сказочное, но было, однако, было. Да прошло.
Как бы то ни было, а что хочет сказать Ольга этими своими словами о том, что народу шло мало, – непонятно. Тут какое‐то тональное понижение строя всей атмосферы этого встающего во весь рост и очень важного для молодых Прозоровых дня. Это снижение тона – дело в пьесе повсеместное.
В доме Прозоровых. Гостиная с колоннами, за которыми виден большой зал. Полдень; на дворе солнечно, весело. В зале накрывают стол для завтрака. Ольга в синем форменном платье учительницы женской гимназии, все время поправляет ученические тетрадки, стоя и на ходу. Маша в черном платье, со шляпкой на коленях, сидит и читает книжку. Ирина в белом платье стоит задумавшись. Поэтическая ремарка. Драматическая ремарка. Конфликт чувствуется уже в ремарке: Ирина в белом, Маша в черном, Ольга – в синем форменном платье. Больше нечего было надеть в воскресный праздничный день? То, что на дворе солнечно и весело, нам не видно, может быть, окна открыты настежь и из окон льется солнечный свет. Но в самой ремарке уже выражен сильный конфликт – ситуаций и отношений. Ирина как бы отмахивается от слов Ольги – зачем вспоминать. Но ведь это воспоминание все‐таки об отце, на похоронах которого она лежала в обмороке. И вот теперь, ровно через год – зачем вспоминать. Ирина здесь старше, то есть в этом своем – зачем вспоминать старше своих сестер. Ольга продолжает напоминания, несмотря на просьбу Ирины. И как будто тон ее повышается, она говорит о радости, которая заволновалась в ее душе. И буквально через несколько секунд тональность ее слов изменяется. Это после Машиного насвистывания. Резко: Не свисти Маша, как ты можешь! И через паузу – действительно роль пауз в оркестровке атмосферы пьесы огромная – Ольга разражается монологом: Оттого, что я каждый день в гимназии и потом даю уроки до вечера, у меня постоянно болит голова и такие мысли, точно я уже состарилась. И в самом деле, за эти четыре года, пока служу в гимназии, я чувствую, как из меня выходят каждый день по каплям и силы, и молодость. И только растет и крепнет одна мечта… Ирина подхватывает: Уехать в Москву.
Еще через несколько секунд:…А я постарела, похудела сильно, оттого, должно быть, что сержусь в гимназии на девочек. Вот сегодня я свободна, я дома, и у меня не болит голова, я чувствую себя моложе, чем вчера. Мне двадцать восемь лет только… Все хорошо, все от Бога, но мне кажется, если бы я вышла замуж и целый день сидела бы дома, то это было бы лучше. И через паузу: Я бы любила мужа.
Ну это уже просто вопль. Это – боль. Эту боль кажется не очень хотят замечать и признавать. За этими двумя монологами Ольги, как и за поведением Ирины и Маши, стоит что‐то тяжелое в прошлом, какой‐то неизжитой тяжелый груз жизни всех предыдущих одиннадцати лет.
В самом деле – мать умерла одиннадцать лет назад, Ирине было тогда девять, Маше лет тринадцать, Ольге семнадцать. Сколько лет было Андрею – он моложе Ольги, и если он год назад был еще студентом университета, то на год или на два старше Ирины, в зависимости от того, когда он поступил в гимназию – в восемь или девять лет. Стало быть, если ему года двадцать два, он учился сначала в Москве, допустим, три года, а потом оканчивал гимназию в этом городе вроде Перми, это еще пять – обучение в гимназии было восьмилетним. Значит, он уехал в Москву в университет пять лет назад.
Примерно в это время Маша «выскочила», другого слова не найдешь, замуж за Кулыгина. Кулыгин – в первом акте надворный советник, значит, он прослужил в гимназии не менее восьми лет. Андрей – ученик Кулыгина. Маша – ученица Кулыгина. Кулыгин такой, каким он предстает в пьесе, не очень тянет на покорителя женских сердец – как Маша вышла за него замуж? Сразу после гимназии или чуть позже, но все равно девушка восемнадцати лет, правда, есть известная пошлая, как большинство, пословица – любовь зла… Как вообще средняя вышла замуж вперед старшей? Конечно, всякое бывало, но странно все же. Тем более, если учесть позже сказанные слова Кулыгина о том, что ему следовало бы жениться на Ольге. Или атмосфера в доме заставила Машу пойти на этот поступок, который стал катастрофой ее жизни. А эту атмосферу создал отец? В первом акте они женаты уже пять лет – детей нет. Это ужасная ситуация, особенно, когда – любви нет. А то, что ее нет со стороны Маши – очевидно. И как она спит с нелюбимым мужчиной? Она с ее темпераментом – вообще Маша будто бы и не родная сестра, так она не похожа на Ольгу и Ирину. Ольга говорит – я бы любила мужа. Но кажется, что она просто не понимает, что она говорит. У нее любовь не подразумевает страсть, что это такое она не знает и не узнает, так же, как и Ирина. Суждено это узнать было только Маше. Каково ей, которой муж физически неприятен, слышать то, что говорит Ольга. Тут вспоминается особая улыбка Каренина, когда он входил в спальню Анны.
А как отнесся к этому браку отец? При том что старшая Ольга остается на его глазах старой девой – по тем временам, конечно. Ольга окончила гимназию в Москве и в гимназии этого города вроде Перми служит четыре года. То есть поступила в учительницы в двадцать четыре, а что она делала до этого? Воспитывала сестер – одну воспитала, та вышла замуж, вторую тоже – та решительно ничего не делает после гимназии, и вот Ольга поступила на службу.
А какая была необходимость при отце еще идти работать в гимназию, ну ладно – после его смерти, то есть ради заработка? О призвании говорить не приходится – судя по стенаниям Ольги. Кстати, о стенаниях. Оттого, что я каждый день в гимназии и потом даю уроки до вечера…О чем она говорит? Нагрузка учителя в гимназиях была двенадцать часов в неделю – два часа в день! Надо сказать, что за это он получал очень приличное вознаграждение, плюс – квартирные, плюс надбавки и всякие поощрения. Учителя гимназий получали зарплату бóльшую, чем чиновники. Но к этим двенадцати можно было взять еще шесть, не более – сверх нагрузки, то есть получалось целых три часа в день. Да, в самом деле голова заболит и похудеешь. Ольга говорит об уроках, которые она будто бы потом дает до вечера – как это понять? Давать уроки учащимся гимназии сверх положенного она права не имела, и за этим смотрели строго. Так что же, она ходила, что называется, по урокам, как курсистка, которой не на что жить? Ольга на хорошем счету и делает потрясающую карьеру – она становится начальницей гимназии, то есть в табели о рангах это четвертый класс, это очень высокие ордена, это очень серьезное положение в обществе, особенно губернском. Куда Кулыгину! Кстати, начальница гимназии утверждалась министром просвещения лично. Наташа говорит в третьем акте: Тебя выберут, Олечка. Это решено. Но решено, что ее кандидатуру представят министру просвещения и только. Протопопов, кстати, тут мало что мог – он земство, а гимназии к земству никакого отношения не имели, они в ведомстве министерства просвещения. Связи, конечно, и тогда имели значение, но до некоторого предела – даже у Протопопова. Не похоже, что Ольга пошла служить ради хлеба насущного, при жизни отца по крайней мере.
Но и после его смерти мы понимаем, что ей и Ирине более чем хватает ее жалованья, так к чему изнурять себя уроками до вечера каждый день, откуда вообще столько учениц? Почему не работает Ирина и сидит на шее у сестры другое дело. В зале накрывают на стол для завтрака – как мы потом видим накрывают очень неплохо, да, если разобраться, что это за завтрак – по нашему времени обед, да еще праздничный, а собственно, кто накрывает? Прислуга. Не Анфиса же.
В доме проживают бездельник Андрей, ничего не зарабатывающий, Ирина – тоже бездельница, во всяком случае именно на этих именинах ей вдруг страстно захотелось работать, при жизни отца она после окончания гимназии могла бы быть учительницей, могла бы поехать на высшие педагогические курсы – да, конечно, поле деятельности для женщины в то время, казалось бы, было небольшим – педагогика, медицина в первую очередь. Но нет, она ждала именно этого дня – ну и устроилась чуть позже телеграфисткой и сразу заныла. Это просто странно, что в таком городе не было интересных возможностей для тех барышень, которые действительно нуждались в работе, а не просто болтали о труде. Ну тогда – не было бы такого прекрасного надрывного монолога Ирины. Быть учителем в школе, гимназии особенно, было делом почетным и вызывающим всеобщее уважение. При всей критике системы образования, школьных и гимназических порядков. Да и сегодня труд учителя по старинке мы привыкли более-менее уважать. Ну что касается его денежного содержания, то тут нам до царской России очень далеко. Гимназий в Казанском учебном округе, а именно в этот округ входит губернский город вроде Перми, было всего девять – на огромную территорию округа, включавшую несколько губерний и крупных по тем временам губернских городов.
Как бы то ни было, оба монолога Ольги приводят к грустным размышлениям о жизни трех сестер. Чудовищно неудачный брак одной, одиночество старшей, да и младшей тоже. Это при сорока офицерах, посещавших этот дом, о которых вспоминает чуть позже Маша. Надо же сорок офицеров, а вот оказалась замужем за Кулыгиным. Правда, офицерам нельзя было жениться без разрешения начальства – то есть того же генерал-майора Прозорова. И глухие упоминания отца. И глухие упоминания о матери. Что там было? Как умерла мать? Какое имеет к этому отношение Чебутыкин, который как будто очень близок к этому семейству? Может быть, он и ее нафталином пользовал? Образ отца кажется довольно мрачным – как‐то он воспитал трех девиц, которых оставил несчастными. Нет, конечно, это не папа Агафьи Тихоновны, который усахарил ее матушку, но что‐то, как‐то заставляет вспомнить этого внесценического персонажа.
Прошло сто с лишком лет, но жизнь не изменилась.
Странно, что она не оборвалась.
Но что уж точно можно утверждать, не боясь впасть в преувеличение, так это то, что лучше она не стала. Собственно говоря, а почему она вообще должна изменяться непременно к лучшему? Или даже к худшему?
Нам всегда кажется, что дальше будет хуже – предрассудок, конечно, все та же боязнь сегодняшнего дня. И, собственно, что такое – лучшее и что такое – худшее, все как‐то относительно. Всегда кому-то – лучше, кому‐то – хуже. А в общем‐то пропорции добра и зла в жизни остаются более-менее неизменными. Не изменился, естественно, и человек. За все человечество, среди которого, по правде говоря, слишком много за двадцатый век развелось всякого зверья, разумеется, мы ручаться не можем, но что касается, например, русского человека, а он интересует и пьесу, и нас больше всего, то он и вправду мало изменился. Мало, мало, тут как раз и не знаешь, что сказать – хорошо это или плохо. Он по‐прежнему в высшей степени одарен вкусом к страданию, он все так же сентиментален и жесток и, как и во времена чеховских героев, лелеет надежды на лучшую жизнь, и верит в прекрасное будущее, которое, неизвестно почему, вдруг в один прекрасный момент опустится на него, тяжелое, как грозовое облако, и сладкое, как сахарная вата, и которое если не увидим мы, то увидят наши дети или дети наших детей, или внуки наших правнуков, тут главное, что не мы. Не я, то хоть потомки потомков моих – так говорит Вершинин. То, что девочки его, потомки его, живут, по всей видимости, чудовищно и действительно страдают, его, кажется, не трогает вовсе. Он об их потомках заботится. Это удивительная и чем‐то даже неприятная вещь – такая трогательная забота о потомках, которым вообще дела до нас не будет, особенно сейчас, когда человека забывают, еще день не прошел. Это нежное, а главное, совершенно безответственное чувство к потомкам на самом деле подразумевает совершенное наплевательство на собственную жизнь. Эта пламенная и чистая любовь к потомкам и их прекрасному будущему ничего не оставляет дню сегодняшнему, он всего лишь переход, мостик, лавы, как говорят в Тверской губернии, один из тысяч мостиков, которые надо поскорее, по возможности, не задерживаясь и максимально безопасно проскочить на пути к этому никем и никогда, естественно, не виданному прекрасному будущему, которое и прекрасно‐то только потому, что – будущее, которое никогда не наступит и которое никто никогда не увидит, а все время будущим и останется, ибо что ж это за будущее такое, если мы его увидели, то есть в нем оказались. Это уже не будущее, это настоящее, а оно-то нас как раз интересует только опосредованно, исключительно как мостик, и мы им всегда недовольны. Этот своего рода оптический обман дорогого нам стоил и стоит; весь жар наших сердец мы отдавали и отдаем до сей поры будущему, а сегодняшний день, что ж о нем говорить, утро вечера мудренее. В сегодняшнем дне мы не убираемся. Так и живем.
Со всем тем, надо заметить, в процентном отношении, наверное, количество добра и зла все же осталось на прежнем уровне. Ну, может быть, человек стал нравственно чуть тупее; все‐таки таких катаклизмов и катастроф, каковыми отличился двадцатый век, люди, во времена Чехова только еще вступающие в него, предполагать не могли. Им это в голову не приходило. Они в такой прогресс – не верили. Не приходило им в голову, конечно, и то, что страна, которую они искренне любили, очень скоро прекратится, а народ, которому они сочувствовали, которым восхищались и который, собственно, и обеспечивал их страдания, наполовину, а то и больше будет истреблен. Не предполагая этого даже в самом страшном сне, они с удовольствием страдали, как бы искупая этими страданиями раздражающий их комфорт собственной жизни и ужасающий их дискомфорт жизни большинства их современников. Их страдания были отточены и приобретали подчас несколько литературную, конечно, на нынешний, не избалованный красотой родной речи слух, почти поэтическую форму. Страдания, которые наблюдаются теперь, – их так много! – говорят все‐таки об известном нравственном подъеме, которого уже достигло общество… Прекрасно ритмически организованная, но крайне неприятная общая фраза Тузенбаха, которая за версту отдает риторикой. Во-первых, в ней выдается желаемое за действительное. Был бы подъем, не нужно было бы употреблять словечки известные, и все‐таки. Во-вторых, что это за страдания, которые наблюдаются. Чьи страдания? Кем наблюдаются? Как это вообще возможно – наблюдать страдания? И как из этого наблюдения возможен нравственный подъем общества? И что, Тузенбах – страдает? Или – наблюдает? Или наблюдая страдает? Или страдая наблюдает? Риторическую пылкость этой фразы можно, наверное, объяснить тем, что Тузенбах – немец, очень желающий красиво говорить по‐русски, а потому его язык так олитературен. Но это – литература газетного фельетона. Барон говорит не своим языком, а языком подвала какого-нибудь «Нового времени». Это туманная и трудная фраза, как вообще туманна и трудна для воплощения на сцене, и специально сделана таковой атмосфера «Трех сестер». Неслучайно Вершинин на эту реплику Тузенбаха отвечает коротким, почти невежливым: Да, да, конечно. Вообще откуда здесь взялся Тузенбах – в этом городе, в этой бригаде. Он – персонаж комический, он по Фирсу – недотепа. В самом деле, родился я в Петербурге, холодном и праздном, в семье, которая никогда не знала труда и никаких забот. Помню, когда я приезжал домой из корпуса, то лакей стаскивал с меня сапоги, я капризничал в это время, а моя мать смотрела на меня с благоговением… До этого он говорит, что не работал ни разу в жизни. И заключает этот странный свой монолог обещанием: Я буду работать. Ну то, что он военное дело работой не считает, оставим. Никто из военных вообще о своей службе ничего не говорит и не сообщает. Вся эта их военная служба, да еще – артиллерийская, сплошные декорации, все это – фикция, для отвода глаз.
Но все же, коль скоро мы принимаем эту игру, – каким образом Тузенбах попал сюда? Судя по его монологу, он представитель аристократической семьи, он обладает привилегией учиться в корпусе, но жить дома – такую возможность имели далеко не все кадеты. Он обеспеченный человек, во всяком случае в третьем акте он появляется в новом и модном, подчеркивает автор, костюме, стало быть, деньги есть. Никаких особых денежных средств при выходе в отставку ему не полагалось, этот модный костюм стоит денег, стало быть, он их откуда‐то достает. Не слышно, чтобы он их зарабатывал – в отставку вышел, но, видимо, тоска по труду не получила еще удовлетворения. Вот, наверное, она утолится на кирпичном заводе. Да, он все‐таки – комический персонаж, не всегда понимающий, кажется, что говорит. Что это за лакей, который стаскивал с него сапоги – полусапожки черные с желтым верхом, такие носили в корпусе, где учился Тузенбах, это не дело лакея, для этого полагался дядька – Савельич. Ну уж в таких‐то – аристократических – семьях.
Сколько же служит Тузенбах? В первом акте он говорит, что ему нет еще тридцати, допустим, что он ровесник Ольги и ему двадцать восемь лет. Он – поручик. Если предположить, что он учился отлично, то выпущен был из Второго кадетского корпуса в Петербурге, а именно он готовил офицеров в артиллерию, в чине – подпоручика. Ну допустим, что он окончил корпус в восемнадцать лет – значит, он служит уже десять лет. Соленый старше его – штабс-капитан, и нигде не видно, что Соленый оканчивал такое привилегированное военное учебное заведение, как Тузенбах. Но все равно – если допустить, что Тузенбах все десять лет прослужил в этом городе, то он познакомился с Ириной, когда ей было десять лет. Когда ж влюбился? Ну, когда ей было, положим, шестнадцать – стало быть, четыре года. И три из них – при отце. Вот он в каком же статусе находился в этом доме при живом еще отце? И как к нему относился отец?
И вообще, как это может быть, что поручик становится своим человеком в доме генерал-майора, командующего бригадой? Ведь ведет он себя в доме, что называется, как свой человек. И сколько лет он говорит Ирине о своей любви – он для Ирины, как крепкий нюхательный табак, у нее от него слезы текут. В начале акта она счастливая, говорит какие‐то прекрасные и глупые слова и радуется жизни, а вот в этой сцене, всего лишь через несколько минут, ну может быть, полчаса всего прошло, она плачет и говорит через слезы: Вы говорите: прекрасна жизнь <…> У нас, трех сестер, жизнь не была еще прекрасной, она заглушала нас, как сорная трава… И дальше – любимая тема Тузенбаха, она просто вторит Тузенбаху: Мы родились от людей, презиравших труд… Хороший дуэт, и ничего не скажешь – какая аттестация родителей! В двадцать лет Ирине ужасно захотелось работать, но после гимназии она, кажется, палец о палец не ударила, говорим это, конечно, без упрека. Как же можно упрекать барышню, которую жизнь заглушает, как сорная трава. Нет, все‐таки Тузенбах на нее действует хуже, чем Ленский на Ольгу, а тот тоже ведь измором барышню берет. Вот она и заговаривается. Слова – щемящие, но ведь кто-кто, а отец-то трудился. Это тяжелый труд – быть армейским, артиллерийским командиром. Опять слова сами по себе, а жизнь, какова она есть, сама по себе. И все‐таки каким образом барон, после привилегированного военного учебного заведения, барского дома в Петербурге, попал сюда – в этот здоровый славянский климат. Где же умиляющаяся немецкая мама, где связи, родственники и прочее, что могло бы наверняка помочь ему получить более комфортабельное, удобное и близкое к маме место службы?
Или вот такой – непреклонный характер, сам выбрал дальний гарнизон, все, дескать, своим трудом. Но он не считает свою службу трудом, он ею вовсе не занимается. Он умудрился в страшную ночь пожара уже быть в отставке. И все болтать, столько болтать, болтать – и заснуть, как говорится, на самом интересном месте. Устал я, однако, – говорит он, проснувшись. Да отчего устал? Отчего? От нечего делать. А слова – красивые, звучат замечательно, ну просто – стихи. Вы такая бледная, прекрасная, обаятельная… Мне кажется, ваша бледность проясняет темный воздух, как свет…Вы печальны, вы недовольны жизнью… О, поедемте со мной, поедемте работать вместе! Темный воздух – это что, дым от пожара? Нет, никто не пожалеет барона в четвертом акте. И – справедливо. Маша его наконец выгоняет: Николай Львович, уходите отсюда. Странно было бы, если бы барон ушел сразу, без трогательно-назойливого монолога:…Я гляжу на вас теперь, и вспоминается мне, как когда‐то давно, в день ваших именин, вы, бодрая, веселая, говорили о радостях труда… И какая мне тогда мерещилась счастливая жизнь! Где она? У вас слезы на глазах. Ложитесь спать, уж светает… начинается утро…
О том, как Ирина плакала и говорила о заглушающей их жизни, он, разумеется, не помнит, не помнит, что это он ее довел до слез тогда, впрочем, как и сейчас. Положительно, у него какой‐то дар доводить девушку до слез. Маша еще раз настойчиво просит его уйти, он уходит – фонтан иссяк. Вообще Маша это самый разумный человек в этой всей компании, не считая Соленого. За Соленым чувствуется школа жизни, он человек положительный, плотный, Тузенбах – из воздуха сотканный паяц. Интересно, так каждый год из четырех, которые прошли с первого акта, он доводит Ирину до слез? Надо полагать, что именины-то справляли и дальше. И так вот – каждые именины, да что именины – каждый день, ведь он еще и поселился в этом доме. Бедная Ирина, и какое же облегчение она должна испытывать в четвертом акте.
Вершинин сам любитель поговорить, и поговорить со вкусом, бесконечно повторяя одно и то же. Но в этой странной пьесе все любят поговорить, и говорят с видимым удовольствием об одном и том же, не особенно внимательно, кстати, друг друга слушая. Вершинин – краснобай, что, кажется, не очень идет военному, но в данный момент ему просто неохота понимать суть мысли Тузенбаха и рассуждать о страданиях, ему нравится квартира, в которую он попал, нравится, что в ней находятся красивые женщины и что в ней много цветов.
Он отзывается о доме Прозоровых, как о квартире, может быть, потому, что это военное, профессиональное выражение. Быть расквартированными, находиться на зимних или летних квартирах. Но все равно непонятно, почему дом, особняк со старым садом, длинной еловой аллеей, уходящей к реке, он называет квартирой. Ведь он находится на втором этаже большого, по сути дела, барского дома. Откуда взялся такой барский дом, да не просто дом – усадьба, у генерал-майора, командующего дивизией, одиннадцать лет назад переведенного в этот город – другой вопрос. Да и переводили его, скорее всего, с присвоением чина, стало быть, он был полковником, не надо думать, что содержание полковника, да еще с большой семьей было таково, что можно было позволить себе купить такой дом и сад. Квартира, и довольно приличная, ему полагалась, но откуда деньги, чтобы приобрести такую усадьбу? Максимально, что мог получать генерал-майор, – примерно четыре тысячи в год, и то при усиленном жалованье. Это где‐то триста тридцать в месяц, причем выдавалось жалованье раз в три месяца. Четверо детей – это, конечно, не нищета, далеко не нищета, но на такие деньги построить или купить такой дом и сад? На что его содержать?
Это обстоятельство – роскошный огромный дом – должно было бы поразить Вершинина больше, чем просто чудесная квартира, в которой много цветов. Как бы то ни было, но квартира снижает поэтическую ремарку первого акта. Это, казалось бы, едва заметное понижение ранга что‐то неуловимо изменяет в общей тональности действия: А я всю жизнь мою болтался по квартиркам с двумя стульями, с одним диваном, и с печами, которые всегда дымят. У меня в жизни не хватало именно вот таких цветов… Эх! Ну, да что! Когда это он болтался по квартиркам, ведь он до сего дня пребывал в Москве, и нет никаких данных, что он служил в других местностях. А в Москве он мог бы найти квартиру и с недымящими печами, тем более что печное дело в Москве стояло исключительно высоко. Секрет называемых по имени гениального мастера гнусинских печей не разгадан до сих пор. Или он имеет в виду свою молодую холостую жизнь, когда об устройстве быта как‐то мало думалось, потом неудачный первый брак, на который нужно было испрашивать разрешение начальства, которое редко давалось, а теперь вот второй, на который тоже надо было просить разрешение, такой же неудачный, да еще и с двумя девочками, да еще и с тещей? Первый брак покрыт тяжелым слоем пепла, но все‐таки – что это такое было? Ведь развестись в те годы дальние, глухие было невозможно – только если кто‐то объявит публично доказательства супружеской измены, и как правило, измены женской. Бракоразводный процесс – это всегда было испытанием мерзким. Это одна из страшных коллизий «Живого трупа», да можно вспомнить и тяжелый разговор Каренина с адвокатом в романе Л. Толстого. Других причин для развода быть не могло, ну, может быть, одно крайне интимное – и к Вершинину уж точно не подходящее. Или он жену… уморил?
В доме Прозоровых в Москве его называли влюбленным майором. Очевидно, он тогда был влюблен в свою первую жену – иначе после такого бракоразводного процесса ему в обществе места не было, и вряд ли после первого брака, разведенный или уморивший жену, он мог рассчитывать на такое игривое, насмешливое прозвище. Или он к этому времени был, что называли, интересный вдовец? Похоже, что прошлая личная жизнь Вершинина несколько загадочна, а нынешняя уж точно, как сказали бы мы сейчас, не сложилась. Быт его не устроен. Но все равно причем тут два стула и диван.
Вряд ли все его семейство помещается на двух стульях и диване. Конечно, эти стулья с диваном своего рода метафора, опять еще одна нота в общую тональность пьесы. В реальность этих двух стульев как‐то не очень верится. И не потому не верится, что так не могло быть.
Недостаточность средств низшего офицерского звена было обычным явлением в царской армии, так же, кстати, как и в современной. Быт младшего армейского офицерства был унизительный. Хотя квартира им полагалась все же – казенная или деньги на квартиру, конечно, в целях экономии этих квартирных могли снимать что‐то подешевле, но все же немножко побольше двух стульев. В этом смысле тоже мало что изменилось. Не верится, прежде всего, потому, что мы чувствуем противоречие между фактами, о которых говорит Вершинин, и тоном его речи и поведения. У него тон речи и поведения генеральский, этот тон очень далек от двух стульев. И не важно, каков его быт на самом деле, хотя он все‐таки намного комфортнее, чем в те годы, о которых вспоминают он и не сразу признавшие его сестры. Если уж продолжить финансово-экономическую тему, то сейчас его жалованье штатное – полторы тысячи, усиленное – до трех. Немного, учитывая семью, но и далеко не бедность. Хотя, конечно, о таком доме, в который он попал сейчас, он и мечтать не мог. Важно несоответствие одного другому, из этих, казалось бы, пустячных, отчасти, может быть, кажущихся надуманными несоответствий фактов и поведения, поведения и тона, и соткана вся атмосфера пьесы. Вообще, весь монолог о стульях, диване и цветах, которых не хватало в жизни седого командира батареи, похож на пересказ в прозе какого‐то жестокого романса.
Интонации жестокого романса будут встречаться в этой пьесе и дальше, неуловимо, но отчетливо влияя на атмосферу некоторых сцен. Ну, мог бы он в придачу к двум стульям купить хотя бы горшочек с геранью? Или у сестер какие‐нибудь необыкновенные редкие орхидеи, о которых всю жизнь мечтал, но по недостатку средств никогда не мог себе позволить простой обер-офицер? Или нынешняя жена его, полоумная, если доверять аттестации Тузенбаха, не любит цветов, или, может быть, теща их не любит?
Заметим в скобках: то, что делает Тузенбах, рассказывая не очень приятные подробности из семейной жизни своего командира, называется не чем иным, как сплетней. Тузенбах говорит о своем новом командире: По‐видимому, славный малый. Неглуп, это – несомненно. Назвать своего командира славным малым, даже в кругу своих людей – несколько странно. Это генерал мог бы так отозваться о подполковнике, но поручик? Но в целом его характеристика Вершинина иронична и дает представление о нем как раз обратное. Только говорит много – особенно интересно слышать это замечание из уст Тузенбаха. И стулья, и диван, и печки, и отсутствие цветов – за всеми этими словами Вершинина встает атмосфера жизни бедного офицера из какого‐нибудь захолустного гарнизона и звучит давно забытая и ушедшая из нашей жизни русская семиструнная гитара. Но быт московского офицера Вершинина как-никак отличается от быта офицера, служащего в глухом местечке на границе Царства Польского, как поручик Ромашов, а они все‐таки не в равном положении. Странно, но в пункте о цветах Вершинин сходится с Наташей, ей тоже не хватает цветов, она даже мечтает срубить еловую аллею и разбить на ее месте цветочные клумбы. Вершинин, когда жил на Немецкой улице, хаживал, как он говорит, в Красные казармы. Хорошо это словечко «хаживал»! Оно выдает его с головой, его генеральский тон: поручики и капитаны не «хаживают». Их манеру перемещаться по тротуарам следовало бы называть как‐нибудь иначе. Что‐то об этом, кажется, есть у Гоголя в «Невском проспекте». Я хаживал, это вроде как «я прибыл» вместо того, чтобы просто сказать: «я приехал». Некоторая разница в оттенках.
Кстати, это хаживанье в Красные казармы, которые отлично, правда, с некоторыми поздними надстройками, сохранились до сих пор, означает, что Вершинин был ко времени знакомства с Прозоровыми в Москве не строевой офицер, а был он преподавателем в Московском пехотном юнкерском училище, известным позже еще как Алексеевское военное училище в честь наследника Алексея Николаевича, и которое как раз располагалось в Красных казармах за Яузой. Других причин хаживать в Красные казармы у него быть не могло. Наверное, юнкерам, хоть и готовились из них – подпрапорщики пехоты, что‐то надо было знать и об артиллерии, и о баллистике. Надо сказать, что по престижу в военном мире это училище считалось третьим в Российской империи, и преподавать в нем, надо думать, могли далеко не все офицеры, а только имеющие хорошее военное образование. Какое образование мог иметь «влюбленный майор» – скорее всего Михайловскую артиллерийскую академию, после трех лет обучения в которой он должен был отслужить в артиллерийском ведомстве за каждый год полтора.
Будем считать, что слушатель академии Вершинин был не последним в успехах и, получив нагрудный академический знак, окончил еще так называемый дополнительный класс, что давало некоторые приятные преимущества при получении штабс-офицерского звания, да и еще целый годовой оклад при выпуске. Так что, похоже, «влюбленный майор» был на самом деле капитаном и имел честь и право преподавать в Московском пехотном юнкерском училище. Как мы видим – карьера, не заставившая его тянуть армейскую лямку, он вот только сейчас именно и начал ее тянуть, карьера до сих пор была – академическая, но очень неплохая. Что же он мог преподавать юнкерам – все части артиллерии, технологию, теоретическую механику, практическую механику, химию, мог бы еще – высшую математику, физику, стратегию, фортификацию, тактику, историю военного искусства и много еще чего, но не все, конечно, из его знаний могло пригодиться и входило в курс юнкерского училища. Но все равно – образование у Вершинина блестящее, включало знание французского и немецкого языков. Вы читаете по‐английски? – спрашивает он Андрея, непонятно чему удивляясь: какая невидаль в то время – читать по‐английски. Он сам должен читать по‐английски – артиллерийский офицер, преподающий в одном из лучших российских военных училищ, должен был бы читать специальную литературу, в том числе и на английском языке. Вообще дело с высшим, академическим военным образованием было поставлено высоко – и знание языков предполагалось необходимым. Другое дело, что военные академии, это, конечно, элита, выпускники военных академий – белая, что называется, кость. Бойцы вспоминают минувшие дни и битвы, где вместе рубились они… – вот о чем в пьесе военные никогда не вспоминают, ни разу об этом не говорят, это их нисколько не интересует. Ну такие военные: неинтересно им обсуждать службу и все, что с ней связано. Они ею едва ли не тяготятся. Карьера Вершинина – карьера академическая. Что же случилось, что эта карьера прервалась и он должен был покинуть Москву?
Это остается покрытым мраком неизвестности.
Вершинин только что прибыл из Москвы, а говорит о ней, как о чем‐то очень, очень далеком, как бы вспоминая давно прошедшее время. Эта интонация воспоминания, вглядывания во что‐то, скрывшееся во времени, во что‐то постоянно ускользающее, эта интонация песка, просеивающегося сквозь растопыренные пальцы, свойственна вообще всей пьесе. Если что‐то и реально в этой абсолютно нереальной пьесе, то это время, проваливающееся в вечность. Этот вал катящегося времени, в котором беспомощно барахтаются действующие лица, почти физически ощутим. Он приносит страдания. Это как бег во сне. Реальная же жизнь сестер, брата и окружающих маячит в отдалении. И Вершинин, и сестры вспоминают что‐то дорогое и почти потерянное, но никто не задаст Вершинину такой естественный в реальных обстоятельствах вопрос – а как там, в Москве, сейчас, что в Москве нового? Что это, например, за театр такой открылся с необычным названием – Художественный? И почему он еще и общедоступный? И правда ли, что в Москве собираются строить подземку? И что будто бы прямо на Красной площади собираются возвести центральный вокзал, а такой проект действительно существовал и обсуждался, эскизы до сих пор поражают воображение.
Приезжего из Москвы нового человека должны были бы засыпать вопросами о московских новостях, это было бы логично, тем более что осенью собираются уже быть в Москве, но в данном случае не логика важна, а важна тональность: О, как вы постарели! (Сквозь слезы.) Как постарели! Если Маша действительно вспомнила Вершинина, то последний раз, когда она его видела, ей было лет десять. Подглядывала, наверное, в щелочку за взрослыми вместе с семилетней Ириной. Потом обсуждали, какой такой «влюбленный майор», хорош он собою или не хорош. Как вы постарели! Но надо сказать, что и в те детские машины годы «влюбленный майор» был не то чтобы очень молод. Да и почему его называли влюбленным майором – чин майора к этому времени уже не существовал в русской армии, может быть, это была какая‐то аллюзия, связанная с майором Ковалевым, который, как известно, был кавказский майор? Десятилетней девочке казался, наверное, совсем немолодым.
Удивительно, что не Ольга вспомнила Вершинина, ведь она в то время была уже взрослой барышней и, конечно, могла быть просто знакома с «влюбленным майором». Они даже жили на одной улице, но вот не помнит. Но ведь роман с Вершининым будет у Маши. Вот она и плачет, вспоминая про усы. Стало быть, и помнит его только она одна. Сестры плачут, и в тон им продолжает вспоминать Москву Вершинин: Там по пути угрюмый мост, под мостом вода шумит. Одинокому становится грустно на душе. И это о Яузе! Сначала жестокий бытовой романс про два стула и дымные печи, а потом что‐то на манер баллады Жуковского, как будто он с Иматры вернулся, там действительно средь хладных скал вода шумит. Инструментовка атмосферы удивительная… и заглушает всю неправду пьесы.
Фраза Тузенбаха о наблюдаемых страданиях – неудачная, если не сказать – нехорошая фраза. Но мысль его, наверное, не о страданиях, а о сострадании. То есть о крайне редком состоянии души в наше время. Он наивный человек, чтобы не сказать резче. А может быть, он всего только – влюбленный человек? Всякий влюбленный человек глуповат. Тузенбаху кажется, что если он отметил страдания других людей, то он тем самым уже сделал некоторое усилие к нравственному подъему, а если и кто‐то еще испытывает тоже чувство сострадания, как и он, то вот уже и намечается долгожданный нравственный подъем всего общества.
Тузенбах как бы заговаривает проблему, как знахарь больной зуб. Все это, конечно, очень наивно и в определенном смысле опасно. О таком, кажется, отношении к страданиям предупреждал некоторое время спустя Горький. Правда, Горький нынче не в моде. Но все‐таки то, что в пьесе Чехова монолог о страданиях произносит артиллерийский поручик, и звучит он, почти как стихотворение Надсона, только пересказанное прозой, казалось бы, указывает действительно на известный прогресс российского общества того времени, другое дело, что военные вряд ли играли в этом прогрессе нравственном большую роль.
Военные были своего рода изгоями, жизнь их была мало известна российскому обывателю, интеллигентному в том числе. Только начался в обществе серьезный разговор о военных – и обсуждали-то главным образом недопустимый уровень образования среди подавляющего количества офицеров. Далеко не все заканчивали академии – из восьмисот поступающих, например в Михайловскую, принимали что‐то около восьмидесяти. А в корпусах как их не переименовывали и не преобразовывали – сначала в военные гимназии, потом опять в корпуса – образование велось из рук вон плохо. Российское общество того времени очень хотело видеть прогресс – и он был особенно в технических областях, мы только что вспоминали грандиозный проект подземки. Образованные русские люди, собственно – интеллигенция, с большими и, в сущности, ничем не оправданными надеждами вступали в век двадцатый и вообще были склонны к самообольщению. За изображение интеллигентных военных автора похвалила одна из самых консервативных, если не сказать – злобно реакционных, газет того времени «Русский инвалид». От похвалы такой газеты можно было бы и покраснеть. Года через два та же самая газета обвинила Куприна в клевете на российских военных за его «Поединок». Все это до боли знакомо. Действительно, у Куприна военные совсем другие. В среде купринских военных монолог Тузенбаха невозможен, его бы засмеяли, и справедливо бы засмеяли, хотя вполне возможно, что в их среде увлекались Надсоном. Кстати, недалеко от места дислокации военных из «Поединка» и отправляется в финале «Трех сестер» артиллерийская бригада. Кто ближе к истине в изображении военных того времени? Во всяком случае Куприн знал военную среду лучше Чехова, для него она была своей. Но дело в том, что Чехов хоть и делает (устами влюбленной Маши) комплименты военным, не о них написал пьесу, и с точки зрения изображения военной среды сами военные его интересовали мало.
Военные – своеобразный прием остранения, используемый Чеховым блестяще. Военная среда для общества того, да и нашего, кстати, времени была в гораздо большей степени terra incognita, чем любые другие общественные группы. Неслучайно такой грандиозный скандал разразился после выхода в свет повести Куприна. После Куприна вряд ли можно было бы написать таких военных, как герои «Трех сестер», и претендовать на реализм описания. До Куприна много о военном быте писал Крестовский, но настоящей правды не было и у него. Но автор «Трех сестер» не только не заботился о правде изображения рядовой военной среды, он вообще о реализме, во всяком случае в его узком и довольно частом понимании как житейской правды, совершенно не заботился. Житейской правды в «Трех сестрах» маловато, ее на грош с полушкой, но есть ее приметы, разбросанные там и сям, очень ловко создающие видимость правды в далекой от реализма вещи. В ней есть правда атмосферы, ради которой и сделана вся вещь. Эта правда требовала такого Тузенбаха, такого Вершинина и т. д. Мечтателей, для которых мечта важнее, а может быть, и реальнее самой жизни. Известная доля маниловщины есть в каждом российском образованном человеке. Не будем говорить – интеллигентном человеке, что это такое, мы уже не знаем. Речь идет не просто о мечте, а о мечте, существующей только в бесконечных разговорах о ней. Мы, серьезно уже разменявшие двадцать первый век, кажется, более осторожны в своих прогнозах на будущее, чем люди того времени. Но тоже любим помечтать, правда, наша мечта направлена назад, в прошлое. Наша мечта живет в бесконечных разговорах о прошлом, мы его не изучаем, а придумываем. Прошлое, где так страдали и так поэтически рассуждали о своих страданиях чеховские герои. Те смотрели в будущее и ошибались, мы смотрим в прошлое и также ошибаемся. Прошлое в тени настоящего. В отношении к прошлому современный человек отличается от чеховских героев. Те относились к прошлому без сантиментов – владеть живыми душами; ведь это переродило всех вас; мы родились от людей, презиравших труд, и т. д. Мы же идеализируем прошлое, и это естественный процесс, когда нет настоящего. У них и у нас есть и общее: это полное равнодушие к нынешнему дню, мы им тяготимся. Одно желание, чтобы он скорее прошел.
Тузенбах своей способностью воспринимать страдания и стремлением говорить о них, конечно, отличается от необаятельных героев Куприна. Он отличается также и от обаятельного старика-полковника из «После бала» Толстого. Тот по части «сострадания» приближается уже к нам; в этом смысле он больше наш современник, чем живший на пятьдесят лет позже него и погибший сто лет назад на дуэли барон. Ну, так известно, что история идет по спирали.
Неслыханная массовость страданий и предательств закалила человека. До наших дней дотащились лишь бронированные натуры. Перефразируя Владислава Ходасевича, можно сказать, что наши «душевные мышцы» не просто ослабели, а у многих и атрофированы. Тем не менее современный человек, хоть и заглядывается на прошлое, все же надеется на наступление какой‐то новой, и, представьте, необыкновенно счастливой жизни. С какой, собственно, стати? Что, конечно, тоже говорит о том, что он мало изменился. Для прихода этой новой и необыкновенно прекрасной жизни подполковник Вершинин отпустил двести-триста лет. Он, правда, договорился и до тысячи, но это число уже не подлежит обсуждению. Тут и говорить не о чем. Ясно, что тысяча – синоним «никогда». Остановимся на двухстах-трехстах. Тем легче, что сто уже прошли. Осталось еще столько же, а на худой конец двести. Это пустяки, это можно подождать. Хотя, скажем откровенно, что‐то подсказывает нам, что эта новая, необыкновенная и прекрасная жизнь никогда не наступит. В этом вопросе мы согласны с Тузенбахом полностью. Уже потому не наступит, что мы мало что делаем для ее наступления, еще меньше, чем чеховские герои. Но, может быть, и не нужно ничего делать? Хорошо будет, коли и эта – самая обыкновенная – жизнь сохранится.
И не пустят нам пулю в лоб.
У Тузенбаха масштабы времени скромнее, чем у его командира – через двадцать пять лет, уверенно заявляет он в начале первого акта, работать будет каждый человек. Эта неосторожная фраза вызывает улыбку, но не очень добрую. Тузенбах тут опять ошибся – ни через двадцать пять, ни через сто лет, по‐настоящему, то есть так, как представлял себе труд Тузенбах, работали и работают очень немногие. Так работали, скажем, герои фильма «Девять дней одного года», какая‐то тонкая ниточка связывает их с героями Чехова, они тоже мечтатели, но все‐таки герои художественного фильма. Но они и подобные им были меньшинством даже в ту эпоху, когда в нашей стране труд был назван делом чести и доблести. Он еще был назван делом геройства. Геройства касаться не будем, это качество, выходящее за рамки нормального. Но честь, совесть и сострадание – эти понятные и близкие чеховским героям атрибуты духовной жизни нормального человека – извели. Да, трудились, как и не снилось Тузенбаху, миллионы людей, но в подавляющем большинстве их понимание труда несколько расходилось с представлением о нем Тузенбаха. И если бы Соленый, по его словам, не подстрелил бы барона, как вальдшнепа, то вполне возможно, что Тузенбах на себе испытал бы всю «прелесть» такого труда. В лучшем случае он торил бы канал к Белому морю – там такой здоровый, хороший славянский климат. Почему это в стране берендеев, где живут коми-пермяки – здоровый славянский климат? То, что он здоровый, это куда ни шло. Что это такое – эти слова Вершинина, а что, скажем, в Черногории – климат не славянский? Ах, средиземноморский… Ну, бог с ней – с Черногорией, недаром она в оперетках называется Монтенегро, а во Владимирской губернии, например, – какой климат, не славянский? Вершинина понесло, наверное, прекрасные женщины тому причиной.
Иван Денисович из повести Солженицина многое мог бы по части труда открыть Тузенбаху, если бы они работали в одной бригаде. Такое отношение к труду, как у Ивана Денисовича, без всякой по нему тоски (еще бы в лагере тосковать по труду!) не было дано даже героям «Трех сестер». Да и в повести он один, да и вообще в советской литературе таких героев, как он, единицы.
Более точны, как и полагается хорошему артиллеристу, прогнозы Соленого. Через двадцать пять лет вас уже не будет на свете, – говорит он барону. – Года через два-три вы умрете от кондрашки, или я вспылю и всажу вам пулю в лоб. И всадил на дуэли – ровно через три года. Интересно, при чем здесь – кондрашка, что в комплекции и темпераменте барона предполагает такой скорый апоплексический удар? Может быть, он, как Гамлет, тучен и задыхается? Напомним, что не Соленый затеял дуэль. А вот зачем затеял ее Тузенбах?
Соломенная шляпа Тузенбаха
Автору пьесы все равно, что ни написать. Он меньше всего озабочен правдоподобием коллизий, событий, взаимоотношений действующих лиц. Он ставит нас перед фактами правды художественной, а она, как известно, бывает очень далека от бытовой правды. То, что происходит в пьесе и кажется в ней абсолютно достоверным, в реальной жизни часто вообще произойти не может. Это обычная вещь и в романе, но там явную неправду мы проглатываем вместе с лирическими отступлениями автора. Классический пример – Гоголь. Редкая птица долетит до середины Днепра; а скажи‐ка, милая, где барин; а барин-то это я и т. д. Все это опять‐таки общие места, и, конечно, об этом не стоило бы говорить, если бы не то обстоятельство, что творчество актера на лирических отступлениях основываться не может. Слишком оно реалистично, физиологично по своей природе. Да и где же в пьесе лирические отступления? В ремарках, в паузах, в общем тоне? В атмосфере? Да, в атмосфере. Конечно, ее можно и нужно почувствовать, но ее нельзя сыграть. Почувствованная, угаданная в пьесе, она должна возникнуть в спектакле, не в последнюю очередь как результат подлинной жизни актера на сцене. А эта жизнь нуждается в абсолютной конкретности предлагаемых обстоятельств, событий, взаимоотношений, задач, целей и т. д.
Поэтому актерам и режиссеру надо точно и крепко связать все узлы, а для этого найти обрывки всех белых нитей, которыми сшито произведение. Любому актеру самого условного театра все равно нужна конкретность. Вопрос в том, где ее искать. Чтобы не играть вообще и нечто. Для автора важно, чтобы все, что он напишет, отвечало бы его художественным целям. Или каким‐нибудь еще целям – общественным, например. Иногда художественные цели и общественные как бы подразумевают друг друга. Иногда одно жертвует другому. Есть, скажем, традиция изображать военных любящими выпить, волокитами, бретерами, картежниками, поручиками Кувшинниковыми. Или, в лучшем случае, грубоватыми служаками, честными, но недалекими людьми. Слуга царю, отец солдатам и т. д. и т. п., полковниками Богданычами. Из Максима Максимыча как‐то традиции не получилось. Или грубыми жестокими солдафонами, как уже вспоминавшийся нами герой «После бала». Не изобразить ли их не только тонко чувствующими, но и умеющими выражать эти чувства литературно и в длинных монологах, интеллигентами, умнее и благороднее которых в стране нет никого? А заодно устами одной из героинь пьесы, которой явно симпатизирует автор, сам, кажется, немного к ней неравнодушный, еще и обругаем тех, кого принято считать подлинными интеллигентами – учителей, например.
Если судить по высказываниям влюбленной в Вершинина Маши, гимназия, в которой служит ее муж, учебное заведение, собравшее в своих стенах людей неинтересных, невоспитанных, даже пошлых. И сам Кулыгин, учитель этой гимназии, человек ограниченный, а в своем отношении к начальству даже несколько неприятный человек. Пять лет супружества, причем супружества бездетного, да еще с таким Кулыгиным, это, конечно, тяжелое испытание для женщины и может привести ее к тяжелой форме неврастении. А именно к ней близка Маша в начале первого акта пьесы. Маша говорит о своем замужестве так, как будто бы ее выдали замуж насильно, против ее воли, что мужа своего она боялась, он ей казался таким умным, начитанным, а она едва кончила курс. Тут опять сплошная темнота и в некотором роде даже тайна. Отец, что ли, был такой деспот, что не только образованием угнетал, но и насильно выдал замуж барышню, едва окончившую гимназию, и выдал против ее воли? И мимо старшей сестры, добавим. Как это случилось? Ничего непонятно. Ну, не мог же Кулыгин, учитель гимназии, таков, каким он изображен в пьесе, ухаживать за гимназисткой? Или он был тайной гимназической любовью? Или тут своего рода «Легкое дыхание», только в очень пошлом варианте? Меня выдали замуж…Мы уже говорили, похоже, она, что называется, выскочила замуж. Но какой же должна была быть жизнь ее в доме, чтобы такой человек, как Кулыгин, мог увлечь красивую и умную девушку в осьмнадцать лет. Хотя, как известно, бывает все. В осьмнадцать лет вы расцвели прелестно, неподражаемо, и это вам известно, в самом деле – Кулыгины блаженствуют на свете. Вообще в семье Прозоровых есть какая‐то тайна. Создается впечатление, что они о чем‐то умалчивают, что‐то недоговаривают. Об отце вспоминают два раза. Но как‐то очень уж сдержанно. О матери говорят коротко – погребена в Ново-Девичьем; начинаю забывать ее лицо; это часы покойной мамы. Один только раз эта тема звучит очень напряженно. Но также быстро снимается, чтобы уже не возникнуть никогда. Вы любили мою мать? – Очень. – А она вас? – Этого я уже не помню. Понимайте, как хотите, хотя этими словами все сказано.
Кулыгин казался Маше самым умным, очень может быть. Но в таком случае сама она была хоть и красивой, но не умной. Кстати, Ольга называет ее самой глупой в семье. Тут есть некая параллель с Еленой Андреевной и профессором Серебряковым. Но та вышла за очень известного человека, хотя и вышла, кажется, прежде всего из‐за феноменальной лени. Отношение к мужу или свое разочарование в нем Маша переносит вообще на всех учителей гимназии. Или автору необходимо было выдвинуть заодно и вопрос о реформе образования? В то время, действительно, кто только не ругал классические гимназии. Передовым людям того времени надо было обязательно обругать положение дел в современном образовании, как все похоже! Но, спрашивается, где училась сама Маша? Ведь не в пансионе фон Мебке, как другая генеральская дочь, Лидочка из «Розового чулка»?
Та плакала и все жалела, что не пошла в гимназию – окончила бы гимназию, поступила бы на курсы… Или влюбленная Маша хочет польстить Вершинину? От влюбленности у нее такой милитаризм? Да, конечно, любовь меняет человека. Самые порядочные, самые воспитанные, самые благородные люди в городе – это военные. Других, выходит, нет. Не нравятся ей учителя классических гимназий: Когда мне случается быть среди учителей, товарищей мужа, то я просто страдаю.
Интересно, что в пользу Маши неожиданно свидетельствует М. Осоргин. Он как раз оканчивал именно пермскую классическую гимназию. Учился он в ней в те же годы, что и Маша в своей. Мнение Осоргина о гимназиях и гимназических учителях приводит в статье о нем М. Алданов. Осоргин ругательски ругает свою гимназию. «Как большинство русских провинциальных гимназий, и тех времен, и позднейших, – пишет Осоргин, – наша была отвратительным учреждением, очень вредным и губительным. Учителя все пили дико и свирепо и забывали подтяжки в публичных домах. Все запрещалось, считались страшными, запрещенными и развратными даже Достоевский, Толстой, Шекспир, Байрон». Интересно, как это можно забыть подтяжки? И как об этих милых пустяках узнал гимназист Осоргин? На этом фоне, конечно, даже Кулыгин выглядит образцом порядочного и добродетельного человека. Во всяком случае намека на то, что он оставляет подтяжки в публичных домах, как его коллеги, описанные Осоргиным, мы в пьесе не находим. Надо сказать, что Осоргин, кажется, не очень убедил своего биографа. «Я был моложе Михаила Андреевича, – пишет Алданов, – но неужели нравы и обычаи могли так (подчеркнуто М. А.) измениться. Нам о названных выше писателях рассказывали на уроках словесности, а тем из нас, кто получал «награды первой степени», нередко давались в дар их сочинения. Очевидно, Михаилу Андреевичу особенно не повезло», – деликатно добавляет Алданов. Кто тут больше прав? Учитывая, что гимназист Осоргин умудрился вызвать на дуэль учителя немецкого языка, надо, наверное, сделать поправку на некоторые особенности его юношеского характера.
Но, конечно, есть в городе кроме казенных и земские учителя, есть и врачи, не один же спившийся Чебутыкин, есть артисты, есть, наверное, инженеры, тем более что это город вроде Перми, есть, наконец, политические ссыльные. Уж на что страшен городок Окуров у Горького, но и в нем есть своя Евгения Петровна. Нет, город, в котором проживают сестры Прозоровы, хуже городка Окурова. В одной книжке забавно рассуждают о том, что есть города умышленные и неумышленные. Кажется, город вроде Перми – город вполне умышленный. Год назад эти самые, самые были названы ею же, – полтора человека.
Среди учителей, товарищей мужа, я страдаю… То есть все перевернуто с ног на голову и перевернуто специально. Грубо говоря, все неправда. С житейской точки зрения. Как неправда, например, то, что долго после смерти отца мы не могли привыкнуть обходиться без денщиков. Что значит долго и кто это мы? Год – это совсем недолго. И привыкать обходиться без денщиков должны были бы за это время Ольга и Ирина, а уж никак не Маша, которая уже несколько лет с ними не живет. Но денщиков к тому времени в русской армии давно уже не было. Они были упразднены, а была прислуга. И восстановлены через два года после написания пьесы. Так что не к чему было привыкать. Зачем они, денщики, вдруг понадобились? Как это можно вообразить, чтобы денщики ухаживали за тремя стремительно произрастающими барышнями.
Между тем, сестрам, кажется, повезло меньше, чем Ане из «Вишневого сада». Та хотя и неизвестно где училась, да и училась ли вообще, но у нее была хотя бы Шарлотта, полоумная, слов нет, но, согласитесь, не денщик все же. А кто воспитывал сестер и брата после смерти матери, неизвестно. Кто барышень одевал, раздевал, укладывал спать и прочее, и прочее? Денщики? Анфиса? Иметь такой огромный дом и не иметь бонны, а ее, по всей видимости, не было. Стало быть, младших сестер и брата воспитывала Ольга, потратив на это лучшие годы? Незавидная участь, если не сказать больше. Правда, будешь вспоминать отца сквозь зубы. Но зачем понадобилась тема этих не существовавших на самом деле денщиков? Что же, как денщиков не стало, так некому было дрова рубить, печки топить и провожать в гимназию? Какую‐то важную для автора черточку, наверное, должна была прибавить к характеристике атмосферы произрастания трех сестер эта их привычка к денщикам. Избалованности. Барственности. Непрактичности.
Все это – плохой Андерсен. Маша – принцесса на горошине. Но зачем это нужно? Ирина говорит Тузенбаху: Мы родились от людей, презиравших труд. Это именно фраза. Кто презирал труд – отец, который умер в звании бригадного генерала, в звании, которое именно выслуживается тяжким трудом. Отец, который угнетал воспитанием и заставлял учить по три-четыре иностранных языка. Мать презирала труд? Может быть, достоверных сведений нет… Конечно, фраза Ирины или на самом деле фраза, что делало бы Ирину неискренней, а это не так, или это фраза девочки, выделывающейся, старающейся по‐взрослому, идейно отнестись к жизни. Но по правде говоря, она и в первом-то акте совсем не девочка, не Аня из «Вишневого сада», которой семнадцать, ей двадцать лет, совсем не девочка, особенно по тогдашним взглядам на возраст женщины. Похоже, она выделывается, но все равно эта фраза была бы более уместна в устах тургеневской барышни, живущей в каком‐нибудь дворянском гнезде, где в саду с каждого ствола глядят на вас человеческие существа и т. д. Здесь в тональности атмосферы звучит чувство вины, то есть как будто бы справедливости возданности нынешних страданий… Все это очень искусственно. Но, наверное, необходимо для атмосферы.
Интересно, как к такой аттестации самих себя как людей грубых, нелюбезных, невоспитанных относилась та провинциальная интеллигенция, столь раздражающая Машу, которая специально приезжала в Москву и проводила ночи у кассы любимого ею Художественного театра, чтобы успеть купить недорогой билет и попасть на те же «Три сестры». Вздыхали, наверное, и… соглашались. Тут уничижение паче гордости. Здесь опять проклятая иллюзия, заслоняющая реальную жизнь. Все то же чувство вины, смешанное с интеллигентским упреком к жизни. Далеко оно нас всех завело.
Совершенно очевидно, что в пьесе есть другая правда.
Это правда – полета птиц, бодро звучащего марша и заключительных монологов Маши, Ирины и Ольги.
Ради этого только и написана вся пьеса, ради этого расчетливо создается вся ее атмосфера, в которой сильно звучит мотив изгойства. Ради этого и придуманы военные, столь нетипические как для того, так и для нашего времени.
Вся штука в том, что военные – это перемещающийся слой общества.
Ушла бригада, неизвестно зачем когда‐то пришедшая в этот город, и возникло чувство утраты, потери чего‐то очень дорогого. А скучная провинциальная местная интеллигенция, от нее никуда не денешься, и она никуда не денется. Влюбилась бы Маша, например, в какого‐нибудь хорошего, умного, да еще и недурно пишущего рассказы и сочиняющего пьесы земского врача – ну и что бы вышло? Вышла бы какая‐нибудь совершенно пошлая мелодрама. А обаятельный умница, болтун подполковник, под аккомпанемент бодрого военного марша, очень красиво передислоцируется в Царство Польское. По улицам ходила большая крокодила…
Не до свиданья, а прощайте…
Когда‐нибудь встретимся…
Но тогда мы едва узнаем друг друга, холодно поздороваемся…
И вышел вон какой поэтический финал пьесы.
Птицы летят, военный оркестр играет бодрый марш, три одинокие красивые женщины на сцене…
О милые сестры, жизнь наша еще не кончена. Будем жить! Музыка играет так весело, так радостно, и, кажется, еще немного, и мы узнаем, зачем мы живем, зачем страдаем… Если бы знать, если бы знать!
Надо сказать, что от этого потрясающего финала, от этих трех чудесных женщин, совершенно уже оторванных от реальной жизни и как бы уже парящих над нею, отторгнутых от мира, действительно, угадывается мостик к той, ненаписанной, пьесе, где корабль гибнет, окруженный льдами, среди огромного Ледовитого океана…
Гостиная с колоннами, за которыми виден большой зал. В зале накрывают стол для завтрака… Кто накрывает? Надо полагать, что прислуга. Что это за юсуповский такой дворец? Это что – родовое имение? Разве может себе позволить так жить всего лишь бригадный генерал, который, как мы уже вскользь замечали, если только он живет на средства, отпускаемые ему правительством, не настолько богат, чтобы содержать такой дом? Ведь это декорации даже не ларинского, а чуть ли не греминского бала. Или есть семейное состояние, какое‐нибудь наследство от ярославской тетушки, или какие‐нибудь поместья? Но ничего такого как будто бы нет.
Ольга вечерами, по ее словам, в которые с трудом верится, подрабатывает, дает уроки. Она говорит, что занята с утра до вечера каждый день, это непонятно. Самая большая нагрузка для учителя гимназии, мы же упоминали, восемнадцать часов в неделю. При этом заработок его при такой нагрузке не менее полутора тысяч в год. Да квартирные, да дрова. Это по современным нормам просто синекура. Конечно, самую необходимую прислугу можно было содержать. Но повар, кухарка, горничные, дворник да еще много кого в таком огромном доме, ведь его содержать надо! Понятно, что все это великолепие выдумано. И никакого такого дома у Прозоровых быть не могло в подлинной жизни. Но правда житейская здесь не к месту. Нужно ощущение простора, света, красоты, изящности – слово это часто звучит в разговорах героев пьесы.
Ремарка здесь подсказывает образ.
Нужна необыкновенная атмосфера жизни и какого‐то особенного, совершенно непохожего на повседневный, серый быт провинциального города, праздничного быта этого своеобразного дома. Можно было бы сказать, как Вершинин, – изящного быта (кажется, это одно из любимых его слов). Артиллерийский подполковник, правда, ни разу не воевавший, очень любит все изящное. Но в наше время это словечко несет на себе какой‐то неприятный лаковый оттенок. Да, еще множество цветов – интересно, откуда они? Из оранжереи, стало быть, и садовник из цветочного магазина? Или это комнатные цветы? Белые колонны, масса воздуха и света, зал, где накрывают стол для завтрака, – все это должно произвести – и производит – сильное и радостное впечатление на Вершинина.
И все это, столь не схожее с жизнью обывателей губернского города, должно было бы привлекать в этот дом много людей, которые всегда стремятся к чему‐то возвышенному, оригинальному по крайней мере. Но… В прежние времена, когда был жив отец, в этот дом, если верить Маше, приходило по тридцать-сорок офицеров. Из этих интеллигентных тридцати-сорока она не выбрала никого – предпочла зануду и сухаря Кулыгина. То есть являлся почти весь списочный состав офицеров бригады, не считая пьяниц, картежников, больных и прочих… А сегодня только полтора человека и тихо, как в пустыне…
Интересно, откуда взялись эти тридцать-сорок офицеров? Не из Гоголя? Ноздрев упорно врет Чичикову что‐то о сорока офицерах, приехавших на ярмарку. Какие сорок офицеров могли прийти к генералу на именины его дочерей? И что, собственно, значит прийти? Визит вежливости это одно, а к столу и танцы, провести вечерок в обществе трех молоденьких, а потом двух молоденьких девушек – это другое. Сорок – чуть ли не весь офицерский состава бригады. Младшие чины, а их большинство, неужели могли прийти к генеральским дочерям на именины? Три раза в год собирались, положим, почти все офицеры бригады – ведь не на одни только Иринины именины собирались, потом два раза в год – на Ольги и Маши. Одни мы знаем 5 мая, а вот у Ольги – скорее всего 11 июля, святой равноапостольной, а так еще есть несколько дней в святцах на Ольгу. Но, надо полагать, и у генерал-майора Прозорова тоже были именины, и уж к нему-то являлись с поздравлениями все, полный состав офицеров бригады. Ну, если не ошибаемся, в году может быть шестнадцать именин на самых разных Сергеев. Допустим, что генерал-майор на Сергия Радонежского – тогда 20 июля, а то, может, и 8 октября – Преставление. Кого приглашали на обед или там поздний завтрак, как в первом акте, а кого и нет, другое дело.
Быть приглашенным на обед к полковому командиру – большое дело, отнюдь не все могли рассчитывать на такую честь. Вспомните, что чувствовал герой «Поединка», приглашенный на обед к полковому командиру! Зачем понадобились эти сорок офицеров в прошлом и полтора человека в настоящем? Чтобы возникло ощущение отверженности, одинокости? Что значит – в прежние времена? Отец умер год назад – год, два года, даже три, это совсем не прежние времена. Так говорят о чем‐то давно прошедшем. Но, может быть, Маша говорит о себе, о своей юности, пять лет прошло, как она замужем, кажется – вечность. В незабвенные времена юности все казалось веселее. Тузенбах и Соленый – в общей сложности полтора человека, Чебутыкина и всякую мелочь вроде Родэ и Федотика за людей она не считает, это лихо сказано. Но куда же девались остальные? Пусть не сорок, но ведь, действительно, сколько‐то их там было. Не может быть, чтобы в генеральский дом ходили только четыре офицера одной-единственной батареи. Если это так, что представляется, правда, маловероятным, и если это те офицеры, которых мы встречаем в пьесе до прихода Вершинина, то тогда понятно, почему Маша именно выскочила за Кулыгина. Получается, что посещали генеральский дом только из‐за Маши. А как она вышла замуж, сразу же ходить перестали. У них все попросту, это мнение Наташи, но все же по отношению к сестрам эти слова Маши уж очень простодушные. Почему сейчас, в самом деле, только полтора человека, куда еще, как не в дом, где живут милые, образованные девушки, что называется, на выданье и ходить офицерам? Да и не только офицерам. Отчего бы и некоторым штатским не ходить. Однако – не ходят. Что за тайна? Объяснения причин того, почему в этот светлый прекрасный дом не ходят, мы не найдем. Это нужно для атмосферы.
Да, май, солнце, радость заволновалась в моей душе, но сестры – изгои. Почему изгои? Очень образованные. В самом деле, образование сестер вопрос, о котором говорят с уважением и гордостью. Сестры знают французский, немецкий, английский языки. Непонятно, что в этом удивительного. Для того времени и для того общественного круга, которому принадлежат сестры и брат, знание языков вполне обычное дело. На что уж несимпатична Наташа, а болтает, по ее мнению, на французском языке, немало забавляя этим барона. Ведь и в этом городе, где знание языков кажется чем‐то лишним, как шестой палец, они необходимы, прежде всего для чтения. И если можно в этот город выписать модную одежду, что делает Тузенбах, то, наверное, можно и книги выписывать. Интересно, какую книгу читает Маша в первом акте – томик Чехова или Альфонса Доде? Или Гоголя – скучно жить на этом свете, господа! Правда, Ирина знает еще и итальянский язык. Зачем в этом городе итальянский язык? Этого и сама Ирина не знает, он, прямо скажем, и в другом городе, если только это не будут Рим или Флоренция, ей мало бы пригодился. Может быть, она начинающая певица? Не похоже. Зачем же итальянский? Если не для того, чтобы читать на итальянском хотя бы нашумевшее тогда и для того времени очень откровенное «Наслаждение» Д’Аннунцио, то только для… изгойства. Но кто и зачем, интересно, учил Ирину итальянскому, какой отставной тенор или бывшее сопрано, ведь в программу гимназии он не входил.
Мы знаем много лишнего, заявляет Маша. Но, между прочим, всему этому лишнему и Ирина, и Маша научились в этом городе, который они так презирают за его отсталость. Это вообще отвратительная манера – ругать наши провинциальные города. Именно в этих городах вроде Перми, даже еще меньших, городах, разбросанных по российским просторам и спрятанных в многочисленных российских закоулках, родились многие, если не большинство из великих русских людей. Кстати, и сам автор «Трех сестер». Что ж так не любить этот город?
Ведь учились они всему в местной гимназии, только Ольга оканчивала гимназию в Москве. С уверенностью можно сказать, какую: Вторую женскую гимназию на Старой Басманной улице, рядом с домом, где жила семья Прозоровых и где бывал «влюбленный майор». Вообще здесь много надуманного. А вы читаете по‐английски, мы уже обращали на это внимание, словно бы удивленно спрашивает Вершинин Андрея. Может, польстить хочет? Ведь его реакция на рамочку, которую выпилил Андрей, была, скажем так, несколько сдержанной. Но что удивительного в знании английского языка? Вообще в то время английский давно уже вошел в моду – вспомним «Плоды просвещения», все английское, и хорошее и плохое – англичанка гадит, давно уже стало модой. Странно, и даже очень, что артиллерийский подполковник этому удивляется. Тем более что Андрей учился в университете. Кстати, в каком? В Московском, судя по тому, что он привык к Тестовскому трактиру, о котором вспоминает с такой сладостной ностальгией. Соленый утверждает, что в Москве два университета – старый и новый, ему возражают, что один. Надо полагать тот, в котором учился Андрей. Но не правы все – в Москве в то время действительно было два университета. Один императорский, другой, очень популярный в передовых кругах, университет Шанявского.
Что касается языков, то Вершинин, как мы поняли, знает как минимум французский и немецкий. То, что он не знает английского – странно, уж читать-то по‐английски он должен был научиться, при его-то академической до сих пор карьере. Да любой офицер знал не менее двух иностранных языков, оканчивал ли он кадетский корпус, военную ли гимназию, которая одно время заменила кадетский корпус, потом снова восстановленный, но языки и там, и там преподавали, и преподавали отлично. Зачем нужен вообще весь этот разговор? Только для того, чтобы дать характеристику отцу, который непременно хотел дать детям приличное образование, так что Андрей даже потолстел за год после его смерти. В мировой литературе это, пожалуй, единственный персонаж, который, будучи влюбленным, толстеет. Ведь весь этот год он был влюбленным – надо полагать, что это чувство, если правда оно было, а не была это своего рода реакция на свободу, внезапно возникшую с уходом отца, требует много душевных сил. Говорят, что от любви – сгорают, но чтобы толстели… Может быть, что‐то у Андрея вообще с эндокринной системой не в порядке? Или для того чтобы опять создать впечатление ненужности, одиночества пребывания в этом городе? В этом городе знать три языка ненужная роскошь. Даже и не роскошь, а какой‐то ненужный придаток, вроде шестого пальца, – говорит Маша. Или, скорее всего, для того, чтобы Вершинин смог разразиться великолепным монологом? После чего Маша все‐таки остается завтракать. Все, все так называемые мелочи нужны для атмосферы, которая в этой пьесе прихотлива и изменчива, как ветер мая. Все используется для создания ощущения зыбкости, незавершенности, легкой недоделанности.
Отец генерал, но бригадный генерал, не совсем полноценный генерал. Были два неудачных, неловких звания в царской армии – бригадный генерал и подполковник. Генерал, командующий дивизией, совсем другое дело, не говоря уже о корпусном генерале, или генерале – от артиллерии. Вершинина все, начиная с Анфисы, величают полковником, но ведь он – подполковник. Хотя в табели о рангах его артиллерийский подполковничий чин приравнен к полковнику в пехоте. Командир батареи – под его началом восемь орудий. В бригаде два дивизиона, по три батареи – считай шесть подполковников. Многовато, кажется, было в русской артиллерии начала двадцатого века подполковников. Правда, техника становилась все сложнее и требовала квалифицированных офицеров. Вообще‐то, подполковник это большей частью звание штабное. Пятеро подполковников в дом к сестрам Прозоровым не ходят, по причинам неизвестным. Шестой – пришел. В 43 года, после академической карьеры, которая прервалась по причинам тоже нам неизвестным, да, кажется, неизвестным и самому автору, командовать восемью пушками – не очень большая удача.
Когда‐то, вспоминает Маша, которой тогда было десять лет, Вершинина называли «влюбленный майор», а он был поручиком. Мы уже знаем, что в то время чин майора в русской армии был отменен. Может, поэтому и называли Вершинина майором, что никаких майоров уже и не было в армии? И вот, наконец, поручик постарел и стал подполковником, то есть чином чуть выше упраздненного майора, но гораздо ниже полковника. Так что, когда его называют полковником, это не очень прилично. Вообще, и здесь какая‐то зыбкость, неопределенность – поручик, которого звали майором, подполковник, которого называют полковником. Зачем все это надо? Почему не мог быть Вершинин в самом деле полковником и командовать хотя бы дивизионом? Нет, вот подполковник. Вот – батареей. Не было бы этой самой неопределенности, зыбкости, вязкости, назовите, как хотите.
Город губернский, а вокзал железной дороги в двадцати верстах. Конечно, в России, как известно, возможно быть всему. Тянули, тянули железную дорогу, да перестали и построили вокзал в двадцати верстах от города. Случился примерно в то же время такой казус в подмосковной Коломне, там действительно построили вокзал в трех верстах от города. Дело было в том, что городские власти поначалу не отвели землю под вокзал и его пришлось построить вне черты города. Потом, правда, городские власти опомнились и выделили землю уже в самом городе. С тех пор в Коломне два вокзала. Как все похоже, как до боли знакомо! Но все‐таки три версты не двадцать. Конечно, двадцать верст это та самая реникса, не могло так быть, тем более в эпоху железнодорожного бума. А этот бум именно в Перми в те времена был просто колоссальный – такие строились великолепные железные дороги. А если по недомыслию и произошло, то зачем же артиллерийскую бригаду держать в двадцати верстах от железной дороги? Этого быть не могло, этого не разрешал мобилизационный план. Ведь бригада, кроме людей, еще и огромный парк техники, и склады снарядов. Двадцать верст – это не шутка. Не стоит задавать вопрос, зачем в этом северном городе вообще необходимо было держать артиллерийскую бригаду. На него ответа нет. Понятна другая вещь: почему бригада артиллерийская, а, например, не кавалерийская. Артиллерия – это баллистика, математика, физика, оптика, стало быть, контингент образованнее.
Интеллигентнее. Артиллерийская наука в России была в то время лучшей в мире. В самом деле, пехотный подполковник Вершинин – как‐то скучно, тяжеловато. Драгунский, уланский или, чего доброго, гусарский штаб-ротмистр, звучит отчасти даже легкомысленно. Артиллерийский подполковник, хоть и не высоко берет, а все‐таки звучит солидно. Что‐то, если угодно, по‐чичиковски спокойное есть в этом звании. Правда, сам герой Гоголя состоял в чине полковничьем – был коллежским советником, пятый разряд в табели о рангах. Как Андрей Прозоров. Ну, так на то он и Чичиков. Артиллерия – самый подходящий род войск для нашей пьесы. Флот не подходит, хотя по уровню образования офицеры флота были едва ли не выше всех, – не на Дальний же Восток к адмиралу Макарову, в самом деле, отправлять сестер. Оттуда действительно, хоть три года скачи, до Москвы не добраться. А на Черном море, где‐нибудь в красавце Севастополе, тоска сестер по Москве, может быть, и не будет выглядеть такой пронзительной. В Санкт-Петербурге будет просто смешной. Удобнее артиллерии для целей автора пьесы ничего нет. В нужный момент бригаду переведут в Царство Польское и почему‐то на баржах. Военные ни разу не обмолвятся даже словечком о своей службе, что, конечно, невозможно в реальной, а не выдуманной жизни. Всякая группа людей, связанная общими профессиональными интересами, говорит только о них или же большей частью о них.
В то время в России происходили огромные перемены именно в артиллерии – поздновато, как всегда, но происходили. Если бы не опоздали, то исход войны с Японией был бы совсем иной. Менялись пушки – поршневой затвор приходил на смену клиновому, велись ожесточенные споры, какой удобнее и практичнее, и наконец появилась российская скорострельная пушка, которую все ждали с нетерпением и которая начала поступать в войска, и ее технические и боевые качества, конечно, горячо обсуждали все артиллеристы. Эту новую пушку, так называемую трехдюймовку, надо было изучать, испытывать и правильному обращению с ней надо было учить нижние чины. Короче, забот на самом деле у господ офицеров было очень много. А в пьесе – полное пренебрежение к своей профессии у всех офицеров. Это совершенно невозможно. Так же, как невозможно вообще такое, совсем уж непринужденное, поведение офицеров со своим начальником.
Каким бы душкой этот начальник не был. Но в том‐то и дело, что военные они условные, они военные только для того, чтобы их можно было в нужный момент убрать с глаз долой. Во всем остальном они обычные, средней руки, интеллигентные люди. Недалекие провинциальные мечтатели, прозябающие, как этого хочет пьеса, в глухом и холодном углу России.
Ольга говорит о Москве так, как Лаура о Париже. А далеко, на севере – в Париже – быть может, небо тучами покрыто. – Вот в эту пору в Москве уже все в цвету, тепло, все залито солнцем… Для Лауры Париж – чуть ли не Крайний Север. Но на какой же широте расположен город, в котором живут сестры Прозоровы, если Ольга о Москве говорит, как о южном городе! Подумать только, в эту пору в Москве – все в цвету.
Понятно, что нет такой широты и нет такого города.
5 мая – день святой великомученицы Ирины Македонской, по новому стилю это 18 мая. Отец умер год назад в именины Ирины, тогда шел снег, ну это и для Москвы не диковинка, похороны были не ранее 8-го по‐старому, 21 мая по новому стилю. Тогда шел дождь и снег. Но кого в Москве удивишь дождем и снегом в мае. Иногда и в июне снег выпадает. Дело в том, что в Москве – все хорошо, в том числе и климат. И надо скорее туда, в Москву, которая представляется каким‐то чудным городом, из этого пошлого города, в котором все плохо, в том числе и климат. Между тем, и Москва, о которой мечтают, и нечто вроде Перми города-фантомы. О климате Маша говорит и в четвертом акте – в самые трагические минуты. Климат – это и проблема больного Чехова. Ольга оправдывает то, что на похоронах отца было мало народу, плохой погодой. Но мы уже сказали, что такого не могло быть. На похоронах генерала, командующего бригадой, должна была быть и, несомненно, была вся бригада. А это совсем немало – две тысячи человек. Наверняка были представители губернских властей и земства – тот же самый Михаил Иванович Протопопов, который присылает в первом акте пирог на именины, а во втором – ждет у ворот на тройке Наташу.
Артиллерийская бригада сама по себе, отдельно от того крупного воинского соединения, в состав которого она входит, не может стоять в губернском городе. Наверняка на похоронах генерала Прозорова были его сослуживцы из воинской части – дивизии ли, корпуса ли, расквартированных в городе – во главе с командующим. Так полагалось и не могло быть иначе. Но, тем не менее, Ольга говорит, что народу было мало. Остается только принять это к сведению и не обсуждать. Так нужно пьесе. Никаких причин, мешающих уехать в Москву, ни у Ирины, ни у Ольги нет. Почему Ирина и Ольга не уезжают? Потому, что вокзал далеко. А почему он далеко? Потому, что не близко. Можно ответить как угодно, и ни один ответ не будет правильным. Тут вообще правильных ответов быть не может. Вообще не может быть ответов. Не может быть, конечно, и вопросов. Эти вопросы, как мы уже говорили, мы задаем специально, нарочно и зря. Так нужно пьесе, чтобы не уезжали. Москва – это мечта. Уехать в мечту невозможно. Не Москва нужна, нужна мечта о ней. Ведь без мечты мы ничто. И пьесы не будет.
Пьесе нужна неопределенность.
Еще раз спросим, какая причина, что сегодня с утра в доме Ольги, Ирины и Андрея, собираются гости? Годовщина смерти отца? Именины Ирины? Только именины или еще и день рождения? Все говорят про именины, но вот приходит Кулыгин и поздравляет Ирину с днем ангела. Но день ангела это и есть день рождения. Правда, он мог и перепутать. Забыл же он, что на Пасху уже дарил Ирине свою книжку о гимназии. Память у него действительно короткая – любая, даже самая ранняя, Пасха по времени очень недалека от 5 мая. Кажется, что все это неважно. Да, это действительно неважно, но только все эти и многие другие, скажем, шероховатости и создают необходимую и странную, а порою, если быть внимательным, и страшную атмосферу пьесы. Об отце говорится всего два раза – вспоминают похороны и в связи с угнетением воспитанием. Так двумя словами и помянули отца. Вот и вся годовщина. И никаких примет того, что есть его портрет, – нет. Впрочем, и портрета матери как будто нет. Но ведь должны были бы сходить на кладбище, отслужить панихиду. Зачем вспоминать, говорит Ирина. За столом даже не соблюдают такой традиции, как выпить рюмку в память. Отца и командира. Так что, скорее всего, основной повод – именины Ирины. Или день рождения? Ну в те времена главным праздником, конечно, были именины. Но садятся за стол и начинают выпивать и закусывать, даже не подождав именинницу. Допустим, что повод для праздника – это именины. Во всяком случае, все говорят об именинах и за стол садятся праздновать именины. Стало быть, годовщина смерти отца важна здесь только как рубеж, этап. Как телеграмма в зрительный зал. Все – год прошел, начинается новая жизнь. Все это по житейской логике очень ненатурально. Не может быть, чтобы об отце всего лишь год спустя после его смерти было сказано всего два слова. Но в этой пьесе – может. Сестры много плачут, но на самом деле они не сентиментальны. О Тузенбахе забывают после двух-трех реплик. Как будто бы от него все ждали исчезновения. А может, и в самом деле ждали? Он это как будто чувствовал и напросился на дуэль. Ушел, исчез – плачут, но не без облегчения. Как у Платонова: Мастер Пухов был человек не сентиментальный, на гробе жены колбасу резал.
Но годовщина ли, именины ли – почему Ольга в форменном платье? Так на кладбище и ходила в форменном платье? Зачем вообще ей сегодня – именины ли, не именины, но воскресенье все же – надевать форменное платье? Из экономии? А Маша в платье черном? Она подчеркивает свое особое отношение к отцу – она в трауре еще. Может быть, к вечеру она и переоденется, когда пойдет на вечер к директору гимназии, где преподает Кулыгин. Или у Маши тоже траур по жизни, как у ее тезки, которая нюхает табак, пьет водку и ходит в «черном» в «Чайке»? Или она склонна к полноте, которую, говорят, черный цвет скрывает? Или черный цвет шел к Книппер, которая в девяносто лет наконец поняла, как нужно играть Машу? У Ирины именины, а сестра в черном платье. А у Ольги – что? Нет другого платья? Или, одев ее в синее платье в праздничный день, нужно сразу как бы превратить ее в нечто вроде синего чулка? Все как бы сразу и навсегда задано: юные надежды – в белом платье; неудачный брак, любовь, превратившаяся в нечто гадкое, обидное, – в черном платье; и несостоявшаяся женская судьба – в платье синем, форменном. Опять телеграмма. У какого‐нибудь другого автора все это оказалось бы дурной, дешевой символикой, а здесь – почему‐то не кажется.











