Читать онлайн О методологии и школе. Станиславский и другие
- Автор: Александр Бармак
- Жанр: Кинематограф, Театр, Культурология
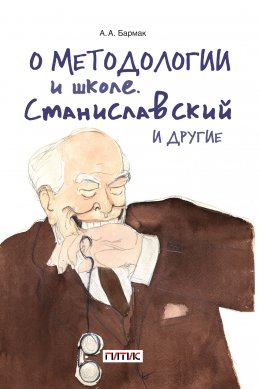
© Бармак А. А., 2022
© Издательство ГИТИС, 2022
От автора
Раньше, чем начать рассказ об истории и теории актерского мастерства и режиссуры, следовало бы сказать несколько слов тем немногим счастливчикам, которые были приняты в театральное учебное заведение и стали наконец студентами.
Эта книга, вне всякого сомнения, обращена и к тем молодым людям, которые, мечтая о театре, еще только собираются поступить в театральный институт или училище, ведь определенные знания о будущей профессии уже должны быть у поступающего. Не стоит сбрасывать со счетов и любителей театрального искусства, занимающихся в самодеятельных театральных коллективах, которые, в сущности, всегда составляли и составляют основной резерв абитуриентов театральных учебных заведений.
В некоторых средних школах в сетке занятий мы находим уроки, посвященные театральному искусству, на которых учащиеся изучают актерское мастерство и знакомятся даже с некоторыми азами режиссуры, – им тоже должно помочь, надеемся, наше учебное пособие. Для того чтобы любить театр по‐настоящему, нужны прежде всего знания о нем, надо уметь ориентироваться в проблемах выбранного вами искусства, быть знакомым с основными этапами и персоналиями истории и теории актерского мастерства и режиссуры.
Основная цель этого учебного пособия – познакомить читателя с некоторыми важными историческими и теоретическими аспектами актерского мастерства и режиссуры, а также дать представление о работе ряда выдающихся деятелей прежде всего русского театра, внесших огромный бесценный вклад в развитие и становление театральной методологии. В этом смысле книга может рассматриваться как учебное пособие, дающее некоторую теоретическую базу практическим занятиям мастерством актера и режиссурой.
Наличие такого пособия, которое хотя бы в кратком очерке должно дать учащемуся возможность одним взглядом охватить путь, который прошла театральная наука, кажется автору совсем не лишним в процессе обучения будущих актеров и режиссеров. Можно прибавить к ним и будущих театроведов, для которых эта книжка тоже могла бы стать полезной. Дело в том, что автор в течение многих лет имел возможность наблюдать пестрый и шумный поток молодых людей, поступающих в театральный институт. Они, как видит автор, участвующий в приемных экзаменах в качестве члена экзаменационной комиссии по специальности уже не один десяток лет, не всегда хорошо понимают, куда они идут и как на самом деле трудна избранная ими дорога в жизни – театр.
А ведь это не шутка – выбрать, найти свое призвание!
Знают ли они, – не просто от кого‐то слышали или прочитали где‐то, а именно есть ли у них подлинное знание того, что для театра очень мало обладать талантом и никогда не бывает много труда – сколько б ты не трудился, все недостаточно.
Труд будущего художника сцены – это в том числе постоянное получение и освоение знаний.
Мы говорим о знании, потому что понимание все‐таки по‐настоящему приходит с опытом, когда знания и навыки, подразумевая друг друга, становятся неразрывным единством, когда навыки опираются на знания и проверяются ими, и навыки в свою очередь обогащают знания. Это диалектический процесс, диалектика знаний и навыков движет вперед актерское и режиссерское мастерство. Она же и составляет суть их методологии.
Можно строить лодку, это процесс трудный, не быстрый, но все‐таки наступает момент, когда можно сказать: ну вот, работа завершена, лодка готова, можно и отдохнуть. А отдохнув, спустить лодку на воду и вдруг с недоумением увидеть, как она через несколько мгновений до краев наполняется водой.
После недоуменных раздумий, наконец, понять, что забыл сделать малое – правильно, как полагается, просмолить бока, как в чудесном рассказе-притче писателя А. Яшина.
В результате разрыва диалектических связей знания и умения лодка пошла ко дну.
Так часто тонут актерские работы и даже целые спектакли от переполняющей их воды.
Некоторые процессы человеческой деятельности всегда имеют свое завершение; этого совсем нельзя сказать о театре. У А. С. Пушкина в «Борисе Годунове» старец Пимен говорит: «Исполнен долг, завещанный от Бога / Мне, грешному». Счастливый человек! Он может отдохнуть. Почему? Да потому что он – не художник, не поэт, он летописец, документалист, во всяком случае у Пушкина он ничего не сочиняет – еще одно правдивое сказанье. Он не может допустить вымысла, над которым художник обольется слезами. Записал все, что знал, все, что узнал, труд окончен. Он высказался весь – но не то у художника; он весь всегда в процессе высказывания; стихами, картиной, прозой, спектаклем, ролью в нем…
Выдающаяся актриса Художественного театра О. Л. Книппер-Чехова была первой и, по всеобщему признанию, лучшей исполнительницей роли Маши в «Трёх сёстрах» А. П. Чехова. И что же? Актриса прожила огромную и творчески счастливую жизнь; и вот на склоне лет, когда уже никак физически не могла играть роль чеховской героини, она высказалась, мол, только теперь, кажется, поняла, как нужно играть Машу. Надо понять весь трагизм этих слов – это значит, что работа над образом Маши продолжалась у актрисы практически всю жизнь и понимание роли к ней пришло, когда она уже не могла ее играть. И это при том, что о ее Маше в первой постановке МХТ написаны сотни страниц, и сама она стала одной из первых актрис своей эпохи.
Художник никогда не ставит точку в своей работе, а художник театра – особенно. Образы продолжают жить в нем; без них его жизнь становится пуста; отсутствие художественной цели – род недуга, убивающий художника. Если, конечно, он не находит новую художественную задачу – ее решение и составляет его жизнь.
Вот как говорит об этом все тот же Пушкин в своем прекрасном и по мысли, и по форме (позже мы с вами поговорим об этих непростых вещах, а именно о взаимодействии в театре формы и мысли художника) небольшом стихотворении, оно так и называется «Труд»:
- Миг вожделенный настал: окончен мой труд многолетний.
- Что ж непонятная грусть тайно тревожит меня?
- Или, свой подвиг свершив, я стою, как поденщик ненужный,
- Плату приявший свою, чуждый работе другой?
- Или жаль мне труда, молчаливого спутника ночи,
- Друга Авроры златой, друга пенатов святых?
Здесь не место заниматься анализом этого стихотворения, хотя, может быть, и стоило это сделать: работа над текстом – это существеннейшая вещь в искусстве актера и режиссера и составляет немалую часть методологии нашего искусства. И, конечно, мы будем рассуждать об этом в контексте нашего разговора на страницах этой книжки, о том, что такое анализ текста не литературоведческий, а действенный, то есть – театральный. Прежде всего это поиск в тексте – подтекста. И в этом смысле на секунду вернемся к стихотворению.
Сколько вопросительных знаков! О чем же вопрошает художник? И у кого спрашивает? И откуда эта непонятная грусть? Нам кажется, что все вопросы и непонятная художнику, но такая знакомая всякому грусть, все это, весь подтекст идут от того, что даже минутный перерыв в творческом труде приводит к томлению духа, грусти, сомнениям, и спастись от этого художник может только новым трудом. Окончив один (речь в стихотворении идет о прекрасной античной статуе), он не находит себе места, томится, печалится и ищет нового труда, в котором, может быть, обретет творческий покой и смысл жизни. Нет, не обретет, такого не бывает, и художник знает это: процесс постижения мира в художественных образах никогда не заканчивается, только вместе с жизнью художника. Краткую, но томительную минуту в жизни художника и отобразил в изумительных словах Пушкин. Вот в словах Пимена-историка мы чувствуем огромное облегчение от сделанной работы. А у художника – только грусть и сомнения: не поденщик ли он, как найти новый сюжет, какие новые образы придут или не придут, чтобы этот сюжет получил свое совершенное пластическое воплощение, то есть – останется ли он художником или нет.
Художник всегда находится в состоянии активного познания мира. Он перестает быть художником, когда процесс знания – познания мира и человека прекращается. Настоящий актер время от времени, но постоянно должен спрашивать себя, подобно пушкинскому лирическому герою: а не поденщик ли я?
В искусстве театра, а мы его понимаем прежде всего как искусство актера и режиссера (почему именно так, об этом специально скажем ниже), нет отдыха. Что имеется в виду: нет отдыха от постоянного процесса работы над ролью, над замыслом и постановкой спектакля, это процесс духовный, и он никогда не прерывается, ни днем, ни ночью в буквальном смысле; это процесс накопления знаний.
Если вы на какой‐то момент освободились от мыслей о роли или спектакле – все равно, уже идущем на сцене или только еще существующем в вашей фантазии, воображении, то вы ошиблись профессией. Когда‐то совершили ошибку и вы, и те педагоги, которые взяли на себя огромную ответственность вас в театр ввести.
Это надо уметь признать: в театре для искренне любящих его есть много других важных и интересных профессий. Вот первое, что хотелось бы сказать тем тысячам поступающих, штурмующих каждый год театральные училища и институты, и тем, повторяем, немногим счастливчикам, которые оказались в числе учащихся.
Но скажем несколько слов о втором, не менее важном.
Прекрасные молодые лица, горящие глаза, в которых читается страстное желание поступить на сцену, это искреннее желание переполняет поступающего, дает ему смелость выступить публично в присутствии строгой комиссии и его товарищей, вдруг ставших соперниками в борьбе за место студента театрального училища или института, и в трудной борьбе победить.
И вот прошли три тура собственно актерского мастерства, на которых поступающий читал стихи, басню, стихотворение, прозу, показывал этюды на предложенную комиссией или придуманную им самим тему, изображал животных и птиц, пел, танцевал, демонстрировал свои ритмические и пластические способности, короче говоря, прошел весь творческий курс экзаменов.
И вот наступает момент, когда он или она уже не стоят на площадке, доказывая свои способности, а сидят напротив экзаменационной комиссии, показывая свои знания на самом последнем этапе экзаменов, на так называемом собеседовании.
И вдруг выясняется неприятная, но, увы, все чаще случающаяся на вступительных экзаменах вещь.
Молодые люди, так пламенно, судя по их словам, любящие театр, стремящиеся во что бы то ни стало попасть на сцену, оказывается, совершенно ничего не знают о том искусстве, которому намерены посвятить жизнь и из которого, честно говоря, вот так сразу и не уйдешь – так театр обычно затягивает, завораживает человека. А эта способность театра может быть счастьем человека, а может стать и несчастьем его. Иногда комиссия буквально вытягивает ответы у поступающего, изощряясь так задавать вопросы, чтобы в них уже намечался ответ. И если даже некоторые ответы и оказываются более или менее верными, то все равно создается впечатление, что в юных головах будущих студентов в отношении истории и теории избранной ими профессии царит полная неразбериха, что они читали мало книг о своей профессии, а те, которые прочли, – в лучшем случае по диагонали.
Не будем сейчас углубляться в суть этого печального обстоятельства и доискиваться причин того, почему так произошло, почему неграмотность даже в вопросах, как вполне логично было бы предположить, любимой профессии стала, к сожалению, повсеместным фактом, – так оно есть. Но к такому положению вещей нельзя привыкать, с этим надо что‐то делать.
С невежеством необходимо бороться: приучать читать заново, если отвыкли после школы, учить читать в полном смысле этого слова, если в школе не научились. Конечно, могут сказать: разве в процессе обучения в театральной школе студенты не получают знания об истории и теории своей профессии, хотя бы на уроках актерского мастерства и режиссуры. Разумеется, получают, кто более, кто менее, но все‐таки в целом учащиеся только довольно поверхностно смогут узнать основные положения театрального искусства.
Надо сказать, что практические занятия, которые, очевидно, занимают большее время учебы, построены таким образом, что любое теоретическое или историческое сведение о профессии студент получает преимущественно во время показа своей индивидуальной работы на уроке, во время ее обсуждения педагогами и товарищами, и соотносит эти сведения прежде всего с данной обсуждаемой работой, упражнением, эскизом, этюдом. Поэтому некоторые положения методологии он забывает, едва получив, не умеет применить их в следующей работе, вообще отнести их ко всей своей творческой деятельности.
Это совершенно естественно, когда ученик только еще начинает познавать методологию. Но в дальнейшей творческой жизни это вредит ему. К сожалению, не всегда отрывочные, хотя и важные знания, своего рода кванты знаний приводят ученика к пониманию общей картины методологии искусства, которым он с таким понятным увлечением занимается.
Таким образом, возможность целостного общего взгляда на суть профессии, на специфику своего искусства студент получает далеко не всегда.
Актерское мастерство, режиссура, сценическая речь, танец, сценическое движение и фехтование, ритмика, вокал и специальные музыкальные предметы, а на курсах, например, режиссеров музыкального театра еще и анализ музыкальной драматургии – это далеко не все специальные дисциплины, которые обрушиваются на радостного ученика. И все эти предметы, интересные и важные каждый по‐своему, по‐настоящему должны существовать в учебном процессе, находясь как бы все вместе внутри методологии театрального искусства. Прибавьте к этому важность так называемых общетеоретических предметов, которых немало, и их ни в коем случае нельзя сокращать.
Специального курса по истории и теории актерского мастерства и режиссуры, то есть по методологии, пока нет. Нет и учебного пособия, которое могло бы дать более или менее последовательное изложение сути методологии актерского и режиссерского дела. Раскрыть ее значение, познакомить учащихся с великими открытиями, сделанными в этой области К. С. Станиславским, Вл. И. Немировичем-Данченко, их великими учениками и последователями, показать все значение этих открытий, принадлежащих русской театральной школе, их актуальную важность для современного театрального процесса и педагогики – задача этой книги.
В ней говорится о важных вещах: о значимости нашей методологии, ее предназначении, о том, как и почему она возникла, на чем она основывается, какой интересный и трудный путь прошла, прежде чем стала незыблемой основой нашего искусства, причем не только в России, но и во всем мире.
Вместе с тем это не учебник по мастерству актера и режиссуре, тем более не задачник, не свод упражнений, не список приемов, благодаря которым можно научиться стать актером и режиссером. Впрочем, как известно, прочитать учебник и выполнить все предлагающиеся в нем упражнения совсем недостаточно. Никакой учебник не научает быть актером, но, если он хороший, как, например, замечательные учебники В. Г. Сахновского и Б. Е. Захавы, то он дает правильное понимание путей к овладению этой очень трудной и трудоемкой профессией. В таком смысле польза учебника огромна, и отвергать его роль недопустимо.
Ответственность перед избранной профессией должна присутствовать в нашей с вами сценической деятельности, пусть еще в училище, на учебной сцене, все равно – критерии очень высокие.
Дать общее представление о методологии – задача данного учебного пособия.
Иные практики, особенно успешные в своей профессии могут в укор нам вспомнить знаменитые слова из «Фауста»: «Теория мой друг, суха, / Но зеленеет жизни древо». Так сказал один из очень симпатичных, но вредных героев И. В. Гёте, обращаясь, кстати, к студенту.
Этими словами, ставшими со временем крылатой фразой, часто прикрывают собственные лень и нежелание заняться теорией своего искусства.
Хорошо, когда зеленеет. Но бывает наоборот: когда вместо зеленых листочков мы видим голые сучья, как Болконский на старом дубе по дороге в Отрадное, то обращаемся к теории – она знает, как сделать так, чтобы дуб снова зазеленел, и даже раньше положенного природой срока, как это и происходит, кстати говоря, у Л. Н. Толстого. Помните то изумительное место в романе, когда Болконский возвращается домой после встречи с Наташей Ростовой, он не узнает старое могучее дерево – дуб помолодел, неузнаваем, стоит весь в молодой листве. Прекрасный герой Толстого глядит на него, и в нем снова разгорается искра жизни.
Есть еще и важное третье, о котором не хочется говорить, а надо.
Бывает так (и еще как бывает!), что, поступив в театральное училище, молодые люди вполне серьезно считают, они просто уверены в том, что на этом этапе их работа по овладению профессией и знаниями… заканчивается.
Меня приняли – значит, у меня есть талант!
Они не понимают, что талант сам по себе ровно ничего не значит без труда и постоянной работы мысли. Они не накопляют суммы знаний и навыков, рассчитывая на свой талант, он действительно у них есть – пока еще очень небольшой. И на весь путь в искусстве, а это всегда, как говорится, бег на длинную дистанцию, его просто не хватит.
Талант надо развивать, растить – прежде всего трудом. Надо знать ту неприятную истину, что такие студенты редко доучиваются до конца срока, а если по чистой случайности им все же удается получить диплом, они становятся балластом в театре, маются, обвиняют всех и все в своей неудачной судьбе, чувствуя ненужность в профессии, но не желая понять, что в таком положении дел виноваты они сами. Нет ничего хуже такой судьбы в искусстве. Об этом нужно помнить.
Надо помнить также и о том, что знание основ своей профессии, в том числе и теоретических, всегда выручит на трудном пути в искусстве театра; ошибок на этом пути случается немало; для того, чтобы понять их причину и вовремя исправить, нужны знания.
Глава первая
Искусство актера и режиссера
Итак, в этой работе мы с вами будем говорить о методологии театрального искусства. Прежде всего отметим, что честь открытия законов жизни актера на сцене и, как следствие этого, создание методологии театрального искусства принадлежит русскому театру. Это произошло не случайно, чуть позже мы скажем почему.
Методология актерского мастерства и режиссуры, вобравшая все лучшее из опыта предыдущих театральных эпох и поколений как русского, так и зарубежного театра, выросла из театральных и жизненных поисков Станиславского.
Эти художественные поиски, в которых, как всегда и во всем у Станиславского, отчетливо просвечивалась идейная составляющая, начались в конце XIX в., стали стройным учением и обрели научную форму в 30-х гг. XX в., к 1960-м гг. в целом приняли тот вид, в котором мы находим их сейчас, то есть стали методологией нашего искусства, разумеется, с дополнениями, сделанными в последующие годы учениками Станиславского, ибо методология – вещь живая и развивающаяся. Об этом нужно помнить.
К нынешнему времени методология стала общепринятой в отечественном театре и в театрах многих стран мира. Именно благодаря методологии актерское искусство и режиссура получили педагогическую и научную школу. Стал, наконец, возможным систематический, последовательный, научно обоснованный и плодотворный подход к процессу обучения и воспитания актеров и режиссеров.
Кроме того, методология предложила наиболее целесообразные, основанные на знании природы актерского творчества пути работы актера над ролью, а режиссера над спектаклем. Театральное искусство обрело свои законы, теорию, как ранее музыка – свои законы гармонии и теорию, предвозвещенные ей еще в Античности Пифагором.
Именно исследование прежде всего законов природы актерского творчества и составляет самую суть методологии, ее смысловое ядро.
В этом моменте методология актерского искусства соприкасается с психологией, находится вблизи тех законов внутренней и внешней жизни человека, которыми занимается психологическая наука, но, и это важно подчеркнуть, не должна переходить в нее. Не надо в этом вопросе одно равнять с другим, а уж тем более одно другим подменять – искусство и науку. Законы искусства и науки все‐таки не суть одно и то же, но и та и другая сфера человеческой деятельности в бесконечном процессе познания человеком мира исключительно важны. В этом они безусловно равны.
Бывает, конечно, и так, что наука в какой‐то момент прибегает к понятиям, взятым из искусства, к понятиям – эстетическим, ими руководствуется в своей деятельности. Так, например, один из самых великих математиков XX в., его называли величайшим математиком всех времен, Анри Пуанкаре говорил, что, когда перед ученым лежит несколько способов решения задачи, надо отдать предпочтение самому красивому из них.
Тем не менее далеко не случайно методология, которую мир знает главным образом под названием «система Станиславского», названием достаточно условным, стала предметом исследования многих ученых – психологов, нейрофизиологов. Психическая модель поведения человека на сцене в той или иной ситуации, данная актером-исполнителем в той или иной роли, отражает, хотя, бывает, в совершенно необычных художественных формах, все‐таки реальную жизнь, основывается на ней и многое дает в смысле понимания некоторых сторон человеческой психической деятельности.
В свою очередь, и методология театрального искусства в период становления многое искала и находила именно в психологической науке, в исследовании высших форм нервной деятельности человека для подтверждения некоторых своих важнейших положений. Мы не будем здесь специально касаться вопроса о взаимосвязи театральной методологии и психологической науки – он столь же интересен, сколь и сложен и требует от читателя специальной научной подготовки, хотя совсем обойти этот вопрос невозможно. О некоторых вещах в знаменитой «системе», которые в исследованиях Станиславского и в работе его учеников вплотную соприкасаются с психологической наукой, мы скажем чуть позже. Наша книжка обращена все‐таки к будущим актерам и режиссерам, а не к студентам факультетов психологии.
Сейчас мы только хотим привлечь внимание читателя к тому факту, что методология театрального искусства, созданная Станиславским, Немировичем-Данченко, их замечательными учениками и последователями во всем мире, есть явление, занявшее особое, но очень неслучайное и важное место на границе искусства как такового и строгой науки. В своем роде – это явление уникальное.
Следует, в целях удобства дальнейшего изложения, сделать оговорку о том, что, собственно, понимается в данном случае, когда мы говорим о методологии под термином «театральное искусство».
Справедливо считается, что театр – это искусство синтетическое, он представляет собой сплав самых разных искусств, которые в театре, точнее говоря, в театральном спектакле находят важное место, но с которыми в то же время происходит на сцене своего рода преображение.
Важно подчеркнуть, что театральное искусство в этой книге рассматривается не с общеэстетических позиций, не с точки зрения уникального феномена культуры, оказывающего огромное влияние на социальную жизнь человека, а прежде всего и больше всего как конкретное искусство актера, то есть собственно актерское мастерство, без которого никакой речи о театре, как легко понять, просто быть не может.
Актерское искусство – это основа театра, можно сказать, творчество актера и театр в известном смысле слова тождественные. Творчество актера и есть театр. Театр может быть без композитора, то есть музыки, без художника, декораций, но без актера быть не может, если не принимать во внимание, что в иные эпохи сам актер был и музыкантом, и художником.
И тем не менее есть еще одна важнейшая составляющая театрального искусства.
Это искусство режиссера.
Режиссура как вид театральной деятельности, как определенная сценическая функция, как существенная часть управления театром существовала всегда. Не всегда человек, отвечавший за ход подготовки спектакля, за его проведение, а также довольно часто и за литературную работу (подготовку сценария спектакля, даже, говоря современным языком и прибегая к современному понятию, осуществлявший редактуру пьесы), вообще ведавший многими довольно хлопотными делами театрального механизма, назывался режиссером или был таковым в современном понимании этого слова. Но он всегда был – управляющий делом. В переводе с французского языка слово «режиссер», собственно, и означает «управляющий». Но режиссура как искусство, а режиссер как театральный художник, стремительно в течение XX в. получивший в театре колоссальные права и в наше время в сущности ставший абсолютным театральным диктатором, на манер героя Вяземского – «коллежского регистратора, почтовой станции диктатора» – относительно молоды. И возникновение режиссуры как особого искусства безусловно связано с рождением театральной методологии.
Именно методология сделала режиссуру тем, чем она является сейчас. Она дала ей особую специфику, предопределила некоторые весьма важные и очень оригинальные качества этой редкой профессии, без которых режиссер не может быть профессионалом и, говоря прямо, просто не имеет права называться режиссером. В каких‐то своих изначальных основах методология актерского мастерства и методология режиссуры очень близки, схожи, а иногда, как это ни покажется странным, тождественны. И это тождество абсолютно не противоречит самостоятельности, исключительной своеобразности режиссерской профессии. Напротив того – оно только усиливает уникальность и редкость режиссерской профессии.
Невозможно быть настоящим режиссером, не владея методологией актерского искусства и не зная ее основных законов. Все великие и выдающиеся русские режиссеры XX в. вышли из актеров, как правило, учеников Станиславского и Немировича-Данченко, то есть получили сильнейшую прививку методологии театрального дела, правда, каждый на своем этапе жизни и творчества.
Великий режиссер и театральный педагог Станиславский в известном смысле слова сам вышел из актеров. Его гениальная натура совмещала чрезвычайно редкое сочетание таланта художника и дар блестящего ученого аналитика. Такое сочетание, казалось бы, несовместимых вещей случается крайне редко – на ум приходит Леонардо да Винчи, – но в личности Станиславского оно нашло одно из своих самых совершенных исполнений.
Практически все ученики Станиславского, освоившие театральную науку, остались верными его заветам и в той или иной степени внесли лепту в развитие методологии, основанной Станиславским и Немировичем-Данченко. Они вышли из актеров, начинали как учащиеся театральных школ и студий. Как правило, эти школы и студии так или иначе были связаны с Художественным театром и его великими основателями.
Вл. И. Немирович-Данченко сам никогда не был актером, хотя, по воспоминаниям современников, обладал значительным актерским даром, но его деятельность дает нам то превосходное исключение, которое безусловно подтверждает правило. Он не был актером, но обладал редкой способностью как бы отражать в себе актера, блистательный театральный педагог, он является одним из создателей современной методологии актерского и режиссерского мастерства. Именно Немировичу-Данченко принадлежит фундаментальная для современного театрального искусства формула режиссуры: режиссер-педагог, режиссер-толкователь, режиссер-организатор. К ней мы еще вернемся, так же, как и к другой великой мысли Немировича-Данченко о «трех волнах театрального искусства».
В конце XIX в. в театре в силу ряда причин, о чем мы скажем особо, выросло и стремительно завоевало силу новое искусство – режиссура. С тех пор недостаточно говорить о театральном искусстве только как об искусстве актера. Роль режиссера в современном театре исключительно велика. Это стало ясным и вызывало известную тревогу у некоторых театральных деятелей в ту эпоху, в конце XIX в., когда начинали свою, во многом изменившую мировой театр режиссерскую деятельность Гордон Крэг, Андре Антуан, Макс Рейнхардт и другие выдающиеся режиссеры, первые режиссеры – художники, заставившие вскоре говорить о режиссуре как об особой профессии в театре; очень быстро они заслужили и от критики, и от публики прозвание диктаторов в театре. Были они на самом деле диктаторами или нет, нам сейчас не суть важно. Важно другое – они были первыми, кто заставил признать в режиссуре самостоятельное художественное творчество.
Окончательно режиссура стала не только самостоятельной профессией в театре, но и искусством, обладающим своими, только ему присущими выразительными средствами, благодаря Станиславскому и Немировичу-Данченко.
На протяжении всей истории Художественный театр был, прибегнем к распространенному выражению, настоящей кузницей режиссерских кадров. В разные времена он вырастил многих известных режиссеров, сделавшихся классиками искусства режиссуры, создавших знаменитую режиссерскую школу русского и в большой степени – европейского театра. Школу, имеющую огромное значение до сих пор. Так что, говоря о театре как об искусстве, нужно непременно включать в него вместе с искусством актера и режиссуру.
Вместе с тем исключительно важно понимать, что режиссура именно методологически вся вышла из актерского искусства.
Своими корнями она уходит в искусство актера. Это совсем не отменяет связи режиссуры с драматургией, она подразумевается сама собой, по крайней мере до сих пор подразумевалась, все‐таки основное дело режиссера – это перенесение пьесы на сцену, переложение литературы в сценическое действие живого человека на сцене, создание, таким образом, на сцене жизни человеческого духа. Это нисколько не умаляет также и связей режиссуры с изобразительными искусствами, музыкой, пластическими искусствами и т. д., наоборот, только придает этим связям особую ценность, ибо именно режиссер преображает все смежные театру искусства, осуществляя их синтез в процессе постановки спектакля.
Вопрос для сегодняшнего дня особенно острый заключается только в том, где находится, как говорил А. Д. Попов, «точка общего схода» всей этой многогранной деятельности режиссера. На этот вопрос может быть дан единственный ответ: точка общего схода всех многообразных выразительных средств, всех возможных искусств, приемлемых или даже неприемлемых, но применяемых режиссером при постановке спектакля, находится в живом человеке на сцене.
Это – фундаментальное положение всей методологии.
Поставить театральный спектакль, то есть выразить в сценическом действии, воплотить в сценической форме, неожиданной, необычной, часто даже поражающей своей смелостью, драматургию автора, сделать это через живого человека-актера на сцене может только режиссер и никто другой, для этого у него есть вся необходимая сумма знаний и навыков, данная и обеспеченная методологией.
Мы живем во времена, когда с чьей‐то легкой руки спектаклем стали называть вообще любое представление, независимо, кстати, от того, участвуют ли в нем актеры или нет, часто вместо актеров в таких представлениях заняты сами зрители, а бывает и так, что устроители вообще обходятся без человеческого участия – людей вполне могут заменять роботы или самодвижущиеся фигуры – да что угодно!
Некоторые по‐настоящему в своем роде талантливые люди, создают, бывает, действительно оригинальные, интересные представления, зрелища, в том числе сценические, их называют еще хеппенингами, перформансами, инсталляциями. Для работников, которые всем этим занимаются с большим или меньшим успехом, даже придумали новое труднопроизносимое и непонятное словечко – перфекционисты. Они занимаются разного рода арт-акциями, которых не счесть. В их числе арт-акции и сценические акции. Спектаклями в прямом смысле такие сценические опусы все же назвать трудно. Но, несмотря на новые термины, авторов этих сценических опусов до сих пор, скорее, по привычке, называют режиссерами.
Это неверно, и было бы не так страшно, если бы такая привычка не стала дорого обходиться театру, распространяя внешнее понимание режиссуры на весь театральный процесс, который, говоря откровенно, бывает в достаточной мере скучен и от которого зритель, взбудораженный арт-акциями, стал требовать чего-нибудь в том же духе. Этих талантливых организаторов пространства, организаторов представлений удобнее для всех было бы называть сценическими дизайнерами. Да, такая новая профессия стала реальностью. И надо сказать, она какими‐то своими путями связана с режиссурой, прежде всего во всем, что касается организации пространства и его наполнения разного рода объектами, почти всегда создающими некий ритм, но далеко не всегда смысл или, надо сказать, отсутствие смысла и составляет весь «смысл» таких представлений. Тут огромный простор для всякого рода софизмов.
Сценический дизайн, остановимся на этом названии, почти во всем весь вышел из режиссуры. Но каким образом это произошло? Да просто одна из сторон деятельности режиссера, его собственно постановочная работа, связанная с организацией и переосмыслением привычного сценического пространства, была гиперболизирована и подменила собой вообще все понятие режиссуры. Такое понимание режиссуры очень опасно; эта замена стала дорого обходиться театру как таковому; такое упрощенное, укороченное понимание режиссуры стали переносить и на театр.
Это противоречит методологии, и дело не в том, что не соответствует ее букве, а в том, что выхолащивает ее смысл, уничтожает суть искусства театра – жизнь человеческого духа на сцене. Но разве возможно сделать, создать жизнь человеческого духа без живого человека на сцене? Но что такое живой человек на сцене? И разве во всяческих выше перечисленных и неперечисленных, не учтенных нами арт-акциях не участвуют актеры? Все‐таки не всегда только из многоугольников состоят участники и персонажи таких представлений, есть ведь и живые люди?
Для того чтобы ответить на этот вопрос, надо научиться не путать на сцене человека живого с человеком движущимся.
Живой человек раскрывает перед нами свой внутренний мир, проживая на наших глазах свою судьбу; человек движущийся ничего не проживает, никакого внутреннего мира раскрыть не может по причине его полнейшего отсутствия, но он очень многое хочет обозначить. Однако для того, чтобы что‐то обозначить на сцене, вовсе и не надо быть актером. Никакое обозначение, даже самое остроумное, никогда не способно раскрыть суть, полностью передать смысл, сущность события. Обозначить что‐то в искусстве – это, простите за невольную тавтологию, значит не понять, не увидеть, не уловить сути. Знак и художественный образ – совершенно разные вещи, особенно на сцене. Актер создает сценический образ, только раскрывая внутреннюю жизнь действующего лица, живого человека. Другое дело, каким путем прийти к наиболее полному раскрытию этой жизни – тут и приходит на помощь методология.
Знак – временная вещь, его легко поменять, заменить другим. Да и не всякий знак к тому же соответствует времени и месту: знак «Гололёд» на дороге летом ничего не значит, только мешает. Да и не всегда знак означает то, что на нем изображено – знак «Ремонтные работы» на шоссе, где нет работ, очень часто означает только ловушку для водителей. Вся, так сказать, сила знака как раз заключается в том, что он должен быть предельно и быстро понятным. Вместе с тем, как вы понимаете, знак далеко не бессмыслен, и манипуляция знаками может быть не только опасной, как в случае дорожного движения, но и довольно интересной, а при применении особых технических средств и увлекательной.
Но не надо все это называть театром, а тех, по приказу или прихоти которых осуществляется эта манипуляция – режиссерами. Правда, сейчас некоторые «теоретики», должно быть, в глубине души понимая, что это все‐таки не совсем театр, придумали новый термин для обозначения того, что мы условно называем сценическим дизайном, – метатеатр. Но тогда по логике вещей и актер в таком метатеатре является метаактером, то есть… метачеловеком. Ну а что такое метачеловек – это привидение, хорошо еще, если кентервильское из повести Оскара Уайльда. Жизнь всегда непонятна, но в театре должна быть понята. А для этого – прожита на наших глазах. И если актеру – живому в полном смысле человеку на сцене бывает ровным счетом ничего не нужно, кроме, может быть, отключения мобильных телефонов и тишины в зрительном зале, то актеру движущемуся нужно многое, чтобы хоть как‐то оправдать пребывание на площадке и свое часто совершенно непонятное ему место в ходе представления.
Режиссер обладает своими только его профессии присущими инструментами, с помощью которых он способен поставить спектакль, то есть создать подлинную жизнь на сцене. Что это за инструменты, мы скажем позже. Пока важно понять, что режиссура – это профессия, и никакой другой профессионал – ни драматург, ни даже актер, ни театральный критик, ни музыкант, ни хореограф не имеют возможности поставить настоящий театральный спектакль, если они не владеют специфическими режиссерскими инструментами.
Из сказанного выше становится понятным, что в связи с вопросом театральной методологии необходимо рассмотреть еще и режиссуру, очень тесно связанную с актерским искусством и находящуюся с ним в близких родственных отношениях.
Поэтому театральное искусство в целом рассматривается нами как своеобразный сплав искусства актера и искусства режиссера.
Может быть, это и сужает обычные, довольно широкие рамки, в которых принято смотреть на театр, впрочем, не всегда в какие‐либо рамки вмещающийся, хотя бы потому, что это прежде всего искусство живого действующего и действующего именно в данный момент человека, который и сам по себе, как известно из слов классика, широк. Добавим еще: строптив и всяческому сужению и ограничению поддается с трудом; охотно допускаем упрек в том, что нарочно несколько сужаем, так сказать, эстетические параметры театра, но делаем это, только исходя из соображений целесообразности, во‐первых, а также удобства изложения нашей проблемы, во‐вторых.
Для нас важно, что методология театрального искусства является общей платформой для актерского мастерства и режиссуры. Поэтому мы несколько произвольно оставляем в стороне синтетическую природу театра, выделяя из нее то, без чего, собственно, о театре говорить не приходится – мастерство актера и режиссуру.
Современная режиссура именно методологически вся вышла из искусства актерского.
Режиссер, не знающий законов природы актерской профессии и не умеющий их применить в работе с актером, требующий от актера строгого выполнения поставленных перед ним задач, но неспособный подвести актера к этим задачам через естественную правдивую и верную жизнь на сцене, переводит даже самые свои интересные задумки и решения из сферы искусства, сферы эмоционально-художественной в плоскость рациональных и не всегда, к сожалению, остроумных суждений. Можно сказать, в плоскость плаката, который, может быть, и остановит на себе внимание публики в момент своего появления оригинальным дизайном, но через несколько дней, промоченный дождями и высушенный солнцем, никого уже интересовать не будет. Даже если он содержит весьма актуальную информацию.
Также и спектакль: решение режиссера, как бы оно само по себе не было оригинальным, не пропущенное через живого человека на сцене, может быть, и способно удивить, но поразить, взволновать, потрясти не может. Хотя, собственно, чем сегодня можно удивить на сцене? Кажется, что перепробованы практически все из ранее уже существовавших решений сценического пространства, приемов сценического существования актеров. Редкая пьеса, во всяком случае из тех, которые признаны классикой, не подвергалась в былые времена совершенно невероятным переосмыслениям, даже переделкам, в этом смысле практически израсходован весь театральный запас.
Но что же это за театр, в котором все эмоции зрителя связаны прежде всего со сценическим решением (оно, как это часто бывает, принадлежит театральному художнику, как сейчас его называют – сценографу, иногда спасающему режиссера в драматическом театре и почти всегда выручающему режиссера в оперном), а не рождаются в результате потрясения от правдивой жизни человека, развертывающейся на глазах зрителя в искусстве актера.
Той правдивой сценической жизни, к которой режиссер обязан знать, как подвести актера.
Сегодня – это один из самых важных вопросов театрального искусства.
Открытие Станиславским законов актерского творчества стало для режиссеров важнейшей основой их профессии. Конечно, не следует забывать, что сама по себе режиссура имеет отдельную от актерской специфику, свои понятия, уникальные методы работы над литературным материалом и спектаклем, без которых нельзя говорить о самостоятельности режиссерской профессии, но важно понимание того, что они тесно связаны, переплетены с понятиями актерской методологии, а иногда просто вытекают из нее. Поэтому мы и имеем право сказать, что как актерское мастерство, так и режиссура имеют общие методологические корни, общую методологическую платформу.
Основные методологические понятия и категории театрального искусства, рассматриваемого в данном случае как совокупность актерского мастерства и режиссуры, одинаково важны для обеих театральных профессий, составляют их основу, дают инструменты для их творчества; но надо учитывать, что эти методологические понятия по‐разному используются и находят каждый свое своеобразное практическое применение в труде актера и в режиссерской работе.
Например, если мы возьмем «внутренний монолог», а он является исключительно важным понятием театральной методологии в целом, то увидим, что он имеет одинаковое по важности значение и в актерском мастерстве, и в режиссуре, но подход к нему в каждом из видов сценической деятельности будет разным и применяется он в обеих профессиях по‐разному.
В актерском искусстве «внутренний монолог» – в обоих его видах. Немирович-Данченко говорил о двух видах внутреннего монолога актера – инструмент актерской работы, непременное, обязательное условие правды актерского существования на сцене, в руках режиссера он важнейший инструмент в его работе с актером. Когда Немирович-Данченко ставил спектакль «Враги» М. Горького, он подсказывал В. И. Качалову, исполнявшему в спектакле роль Захара Бардина, внутренний монолог героя. При этом он подчеркивал, что монолог начинается еще обязательно за кулисами, что в монологе актеру нужно ставить перед собой простые цели, физические задачи, но при этом все время говорить себе: «Я Захар Бардин, сделаю сейчас то‐то и то‐то…» Это было необходимо актеру, чтобы почувствовать физическую правду своей жизни на сцене, а режиссеру – чтобы актер, обретя эту правду, смог плотнее приблизиться к очень непростому образу пьесы Горького.
Здесь надо обратить внимание на очень интересный, важный и поучительный факт того, как методологическое понятие, общее для мастерства актера и режиссуры, но применяемое ими по‐разному, приобретает еще и весьма существенную педагогическую составляющую.
Вообще очень важно понимать тот факт, что разговор о методологии – это всегда в большой степени еще и педагогический разговор; педагогика вообще укоренена в режиссуре, является одной из важнейших составляющих этой профессии, если подходить к ней серьезно и ответственно.
Или возьмем, например, такое фундаментальное понятие режиссуры, как «событие»: без определения событий, событийного ряда спектакля просто невозможно поставить полноценный спектакль. Умение создать сценическое событие и организовать в нем правильную жизнь актеров – существеннейший элемент режиссерского мастерства, без этого нет, собственно, режиссуры.
Событийный ряд – основа спектакля.
Но он так же исключительно важен и для актера, правда, в его работе «событие», будучи столь же важным, как и в режиссуре, является основой работы над ролью – актер на сцене живет только в событиях и событием. То же самое можно сказать и о сценическом конфликте, и о многом другом.
Это чрезвычайно важно, что театральное искусство имеет сегодня хорошо разработанную методологию, что оно системно, опирается на строго научный подход к актерскому и режиссерскому творчеству.
Современный актер, если только он честный художник, обладает хорошими знаниями законов сценической деятельности; в своем творчестве он больше не зависит от вдохновения и настроения. Разумеется, совсем не быть зависимым от настроения нельзя, но именно благодаря методологии современный актер знает, как освободиться от любой эмоциональной зависимости, прийти к правильному рабочему сценическому самочувствию, «поймать» когда‐то неуловимое и капризное чувство, без которого никакого театрального искусства просто быть не может.
Ибо именно и только чувствами актера, излучающимися со сцены в зрительный зал и, как мы потом увидим, имеющими в своей природе весьма существенную социальную составляющую, если не доминанту, и сильно, и прекрасно театральное искусство. В этом, впрочем, театральное искусство ничем не отличается от остальных – никакая идея, как бы она сама по себе ни была замечательна, не способна захватить зрителя, убедить его в своей правде, не будучи выражена в чувственной форме.
«Никакое железо не может войти в человеческое сердце так леденяще, как точка, поставленная вовремя» – блестящая мысль И. И. Бабеля, выраженная не менее блестящим афористическим языком. О чем она? Во-первых, как это ни странно, о том, что прежде чем научиться ставить точку вовремя, надо знать, что такое эта точка и зачем нужна. Стало быть, это еще и вопрос синтаксиса, который учит правилам, по которым соединяются слова и предложения, а в широком смысле – и грамматики, в которую синтаксис входит как важнейшая ее часть.
Это очень интересно и важно, что поэзия требует хорошего знания грамматики. Мы часто склонны сосредоточиваться на поэзии, а грамматикой пренебрегаем.
Ну и, конечно, замечательные слова писателя говорят не только о значении формы в литературе, гением которой был Бабель, но и, что для нас важно, о чувственности вообще художественной формы, о том, что художественная форма может сделать с нашими чувствами. Это важно для литературы, то есть для искусства интимного, писатель общается с читателем один на один и, как правило, в спокойной обстановке, сам процесс чтения всегда нетороплив и обстоятелен. И все равно – писатель говорит о том, что сердце читателя может быть поражено точкой, элементом синтаксиса, только вдумайтесь в это слово, леденяще!
Какой же силы должен быть этот эмоциональный удар!
А что же сказать о театре, где общение происходит спонтанно между живыми людьми на сцене и в зале, какие же по силе эмоции и чувства должны возникать и там, и там! Возникают ли? Это вопрос методологии, потому что эмоциональное потрясение зрителя целиком и полностью зависит от того, насколько хорошо усвоены актерами и режиссером спектакля ее основные понятия, насколько хорошо они знают и умеют применять правила грамматики своего искусства. И сама художественная форма спектакля от этого зависит; все это вместе взятое и составляет то, что великий режиссер и педагог А. Д. Попов так удивительно точно назвал «художественной целостностью спектакля».
Восприятие зрителем спектакля – это восприятие прежде всего тех чувств, которые живут в его атмосфере; она пробуждает чувства зрителя, они в свою очередь влияют на художественную атмосферу спектакля, происходит взаимный обмен чувствами. Прежде всего чувствами, а потом уже – бывает, что гораздо позже посещения театра и просмотра спектакля, – мыслями и идеями.
Немирович-Данченко говорил о том, что идею спектакля, его второй план, его смысл, растворенный в атмосфере, зритель уносит домой, заразившись чувствами актеров, созданной ими сценической атмосферой. Разумеется, зритель сначала должен пережить катарсис, прибегая к отчасти туманному термину Аристотелевой «Поэтики», то есть некое исключительно сильное чувственное потрясение, об этом мы часто забываем, а потом уже в результате этого потрясения к нему непременно придут размышления по поводу того, что он увидел и услышал на сцене. Другое дело, что это потрясение ему приятно. Так приятно, что он стремится еще и еще раз пережить его, снова и снова приходит для этого в театр. Что ж, это потрясение одна из главных, если не главная, особенностей театрального искусства.
Только пережив сильное и всеохватывающее чувство, зритель оказывается способным оценить идею спектакля, сверхзадачу режиссера, принять ее или отвергнуть. Если идея колом торчит в спектакле, а это случается в современном театре сплошь и рядом, или выглядывает из всех его закоулков, то она в лучшем случае оставит зрителя равнодушным, в худшем – отобьет у него охоту дальше посещать театр. Удобнее, да в наше время и значительно дешевле, почитать газету, послушать радио и в крайнем случае посмотреть телевизор, правда, испытывая при этом потрясения другого рода, и совсем не всегда приятные.
Но в театре, в отличие от литературы и других видов искусства, эта присущая вообще всякому искусству способность заражать зрителя идейно, через возникающие у него от соприкосновения с предметом искусства чувства (а в театре мы можем сказать – с живым сиюминутным процессом искусства), целиком и полностью зависит от живого человека на сцене. А он подвержен десяткам тысяч раздражающих и отвлекающих актера от сценического действия факторов.
И в этом заключается уникальность театра и одновременно его самая большая трудность и уязвимость; способность заражать зрителя зависит от актера, от его правильного и, что исключительно важно, сиюминутно правдивого бытия на сцене. И вот если актер по каким‐то причинам, а таковых, повторяем, множество, теряет нить правильного бытия на сцене и у него не получается восстановить ее – то есть снова встать на верный путь сценического существования, то на помощь ему приходит режиссер.
Режиссер-педагог, оснащенный методологией художник, способный увидеть в актере то, чего сам актер в себе часто не видит, не находит, умеющий понять природу его таланта, знающий, как открыть перед ним неожиданные пути работы над ролью и направить его творчество через верную сценическую жизнь к созданию художественного образа.
Благодаря методологии режиссер теперь знает, как помочь актеру в его сценическом творчестве, как привести актера к правильному сценическому поведению в сценическом событии, к последовательному решению сценических задач, к органическому рождению сценического характера, то есть к перевоплощению, которое, собственно, и является целью совместной работы актера и режиссера над ролью, в конце концов, к созданию сценического художественного образа.
При этом, не посягая ни в каком смысле на сценическую свободу актера, не принуждая его к действию, а создавая актеру ту обстановку, при которой он вовлекается в действие, целесообразное и продуктивное, – органически, непринужденно.
Вопрос о творческой свободе – важнейший вопрос методологии.
Мы не ошибемся, если станем говорить о том, что, собственно, ради этой творческой свободы актера она, эта методология, и создавалась. Да, сначала, будучи еще только «системой», она раньше всего сосредоточилась на изучении вопросов собственно актерского искусства, но она, углубившись в изучение природы актерского творчества, довольно быстро расширила сферу своих поисков и стала методологией театрального искусства в целом, стала мощным идейно-художественным учением, не оставившем в театре ни одного не затронутого ею творческого элемента.
Очень важно с самого начала подчеркнуть, что режиссер, опирающийся в деятельности на методологию, никогда, ни при каких условиях не может применить какое бы то ни было насилие к актеру.
Речь, разумеется, идет о творческом насилии, то есть о требовании к актеру выполнять задание режиссера, не давая ему для этого никаких психологических, внутренних оснований и, что, может быть, важнее всего, ставя его в такое положение, когда актер воспринимает задачу исключительно головой, в то время как весь его организм совершенно не готов ее выполнить.
Искусство актера – это прежде всего искусство человеческого тела; если тело актера не разбужено к творчеству, то никакой приказ головы не заставит его оживиться и действовать. Наоборот, начнется страшный разлад в актерской психофизике. Но при таком разладе можно ли говорить о какой‐либо правде сценического искусства? Конечно, нет. Это и есть насилие над творческой природой актера, такое случается, когда режиссер не знает путей, которые органически приведут актера к выполнению необходимой режиссеру задачи.
Методология навсегда освободила актера от неизбежного ранее в его работе насилия над его творческой природой.
Произошло это не сразу. По мере становления методологии актер освобождался от насилия, постепенно обретал все бóльшую и бóльшую творческую свободу, добавим – при все возраставшей требовательности к дисциплине его творчества, причем совершенно не в ущерб этой обретенной наконец творческой свободе.
Прежде всего он научился преодолевать физический, то есть мышечный, мускульный зажим, бывший до возникновения методологии настоящим проклятием актерского творчества, получил в руки целый ряд инструментов, которые дают ему возможность от него избавиться.
Следует учесть, что зажим физический напрямую связан с зажимом психологическим, вообще со всей психической стороной актерского творчества, очень сильно влияет на нее. Неслучайно мы говорим о психофизике актерской работы на сцене, где одно нельзя оторвать от другого.
На самом деле физический зажим очень трудно преодолеть по‐настоящему, это понимает каждый, кто выходил на сцену, кстати, не только для того, чтобы сыграть роль или исполнить художественный номер, физическому зажиму подвержены все, кто так или иначе связаны с публичными выступлениями на сцене. Очень трудно его преодолеть или избавиться от него, если не знать методологии и не владеть ею; зажим приводит актера к быстрому изнашиванию организма, нервному истощению, к таким неприятным, а иногда и роковым вещам, как, например, потеря голоса, – у актеров-певцов это можно наблюдать довольно часто.
Певец теряет голос – почему? Ведь, казалось бы, он правильно поставлен и артист как будто бы умеет им пользоваться! Конечно, может быть много причин, но не последняя из них это физический зажим, отсутствие знания законов сценической жизни. Сейчас не будем говорить, что голос нужно не ставить, а, по словам замечательного Ежи Гротовского, освобождать.
Освобождать из плена физически зажатого тела. Это тема отдельного и исключительно важного разговора. Скажем только, что чаще всего виноват в потере голоса именно зажим – работают только связки, а остальное тело не включается в действенный процесс пения. В то время как петь должны и пятки актера, это не неуклюжая шутка, на самом деле поет либо все тело человека, либо только связки. Ну и насколько хватит связок, если тело инертно, живет отличной от них жизнью. Это нарушение, ненормальность, она влечет за собой опасность потери профессии.
Вопрос заключается только в том, а как же заставить петь самое тело актера?
Для этого как раз и нужно знать методологию актерского творчества. И вот, если актер-певец не научен в школе законам органической жизни на сцене, если он пренебрегает ими в творчестве, а бывает и это, если тело его не участвует в процессе пения, мускулы его зажаты, а актер-певец не знает, как их освободить, то в конце концов связки перенапрягаются, наступает катастрофа.
Нечто очень похожее происходит совсем нередко и с актером драматическим, просто на драматической сцене это не так режет слух, как на музыкальной, у драматического актера это не всегда так явно выражено и заметно, как у актера-певца, но процесс примерно один и тот же.
Не надо думать, что разнообразные зажимы (а их очень много, всех просто невозможно учесть и предупредить, да этого и не нужно делать, если знать методологию и следовать ей) выражены исключительно в физической неподвижности, неуклюжести, статичности. Отнюдь нет, бывает, и довольно часто, что зажим наоборот проявляет себя в, казалось бы, вполне раскрепощенном, даже слишком раскрепощенном поведении актера на сцене. Но это значит только то, что подлинная актерская свобода подменяется активной, если не сказать агрессивной, актерской развязностью, а она является своеобразным результатом неснятого мышечного зажима, как мы уже говорили, напрямую связанного с психической стороной актерского творчества. Тут недалеко и до самой настоящей истерики, которую мы нередко встречаем на сцене и которую иногда стремятся выдать за подлинное чувство.
В таком случае изнашивается не только голос актера, а приходит в негодность весь его психофизический аппарат, нервы расшатываются, теряется внимание как основной элемент творчества актера, стареет тело. Актер становится негоден к сценической работе, в лучшем случае – меняет амплуа, теряет роли, а в худшем – бывает вынужден покинуть сцену.
Неискушенный зритель часто актерскую истерику, в которой сам актер себе никогда не признается, принимает за подлинное чувство, смотря с интересом на то, что происходит на сцене. Но заметим, этот его интерес далек от потрясения. С не меньшим интересом наблюдают иногда за уличными скандалами, разного рода происшествиями.
Режиссер, оснащенный методологией, способен распознать этот иногда скрытый от невооруженного глаза, но очень опасный процесс потери органической жизни на сцене, ее подмены сценической неврастенией, изображением чувства и т. п., вмешаться в него и, наконец, выправить вывихи актерского существования на сцене.
Методология дала в руки режиссера еще одну совершенно замечательную вещь: она предоставила ему тонко отточенный инструмент анализа пьесы, ее разбора, перевода драматургической литературы в сценическую драматургию, иными словами – в сценическое действие, в сценические события, когда смысл, идея и художественные особенности пьесы воплощаются на сцене через систему взаимоотношений и в поведении живых людей, существующих в событиях спектакля не только органично с точки зрения актерской жизни на сцене, но еще и – что очень важно, – в органическом соответствии художественной природе автора.
Это, безусловно, особенность режиссерской профессии: не только создать на сцене правдивый образ человеческой жизни, но еще и сделать эту правдивую сценическую жизнь соответствующей художественной природе автора, увидеть, как говорил Немирович-Данченко, «лицо автора» в спектакле.
Методология дала режиссеру великолепный набор изумительных творческих инструментов для того, чтобы в любом случае поставить спектакль, то есть поставить его всегда, при любых условиях, знать, как его поставить, независимо от разного рода обстоятельств: состава труппы, качества литературного материала, материальной обеспеченности постановки или – что бывает гораздо чаще – необеспеченности ее, и многого прочего, в том числе большей или меньшей одаренности самого художника. Определенные способности, разумеется, режиссер должен иметь всегда, ибо, как в свое время говорил выдающийся советский режиссер, сам блистательно владевший методологией А. А. Гончаров: «Спектакль должен стоять».
Театр – это искусство: тонкое, умное, страстное, но театр – это еще и производство. В городе N главный режиссер должен поставить определенное количество спектаклей, театр должен выпустить определенное количество премьер – город небольшой, и репертуар должен обновляться чаще, чем в большом городе. И все спектакли должны быть на определенном художественном уровне. Иначе театр потеряет зрителя, а стало быть, и возможность существования. Вот в таких условиях и сказывается вся сила методологии – зная ее, владея ею, режиссер обязательно справится с чрезвычайно трудными художественными и производственными задачами, встающими перед ним в любом театре. Театральное производство не остановится, а зритель будет только радоваться, даря театр своим постоянным вниманием, а актеров любовью.
Замечательную реплику А. А. Гончарова о том, что «спектакль должен стоять», стоит запомнить всем молодым людям, кто хочет заниматься искусством режиссуры. В самом деле – нужно уметь построить дом, нужно знать, как построить мост, точно так же нужно уметь и знать, как поставить спектакль.
Дом должен быть в первую очередь крепок, по мосту в первую очередь нужно безопасно переходить с одного берега на другой; если соблюдены эти условия, то и дом, и мост могут стать шедеврами архитектуры. Шедевр архитектуры барокко – Карлов мост в Праге и скромный, даже неказистый деревянный мост через неизвестную речку где-нибудь в глуши Средней России, где его называют «лавами», имеют одинаковое основание – точные математические расчеты пролетов и основ, быков, иными словами, в зависимости от материалов, которые используют строители. Дом может быть самым обычным с точки зрения искусства архитектуры, но так же, как и Екатерининский дворец в Царском Селе, любой дом, большой или малый, дворец или хижина, должен стоять на подходящей почве, иметь прочный фундамент, опираясь на который, с точным математическим расчетом возводятся стены дома и становится крыша.
Так же и спектакль.
Он может быть удачным или, напротив, не очень удачным с точки зрения привлекательности его художественной формы, заразительности его идеи, увлекательности сверхзадачи, но он всегда должен быть спектаклем, то есть обладать точным сквозным действием, событийным рядом, верно отобранными предлагаемыми обстоятельствами, живыми людьми, живущими в этих обстоятельствах и событиях, – в этом смысле режиссер обязан уметь поставить спектакль. Потому что методология дает ему ту необходимую сумму знаний и навыков, приобретая которые, режиссер становится профессионалом. Знает свое ремесло. Кто‐то в этом очень редком и трудном искусстве достигнет необыкновенных высот, откроет новые горизонты, кому‐то этого совершить не дано, он просто не успевает это сделать, а бывает и так, что обстоятельства не дают – еще как бывает! – но в любом случае режиссер остается профессионалом, он, засучив рукава, ставит спектакль, и лучше, если при этом не задумывается об успехе.
Успех по большому счету – враг труда; успех часто составляет заговор против искусства.
Как удачно назвал свою прекрасную статью о театре великий французский актер и режиссер Жан-Луи Барро – «Режиссура – мое ремесло». Прекрасное название! Не надо бояться в искусстве этого слова, так же как ни в коем случае нельзя в искусстве полагаться только на талант. Талант – подведет; ремесло, то есть схваченная накрепко профессия, – никогда.
Почему вопрос о методологии так актуален именно сегодня? Знание и изучение методологии всегда было важным для актера и режиссера, но еще относительно недавно вопрос о ней не стоял так остро, как в наше время. Нынешнее время в искусстве, к сожалению, благоприятствует дилетантизму, более того – дает ему большой простор.
Творческое пространство, кое-где в силу особенностей времени превратившееся в пустоту, просто переполнено разного рода дилетантами. Уже одно это – достаточно важная причина того, почему надо снова и снова сегодня ставить вопрос о методологии. Если есть что‐то ненавистное дилетантам, так это методология.
В самом дилетантизме, может быть, и не было бы большой беды, поскольку дилетанты были всегда и далеко не всегда они приносили вред искусству, все‐таки не все сплошь были Неронами. Но случилось так, что само слово, само понятие «дилетант» как‐то вдруг потеряло свое до сих пор противоположное профессионализму значение. Было время, когда дилетанты в искусстве вызывали уважение, прежде всего, не только любовью к искусству, но и искренним пиететом к нему. Но сегодня мы видим, как воинственные, иначе не скажешь, дилетанты, особенно самые одаренные из них, пережившие случайный успех, но полагающие, что это теперь их постоянный способ пребывания в искусстве, не любят методологию, отвергают школу в искусстве – вот-де мы ничему не учились, а глядите, чего достигли!
Не учились – это-то и плохо; достижения ваши – временные. Да и вообще, что такое – достижения в искусстве? Достижения бывают в спорте, там они исчисляются секундами, очками и забитыми мячами. А в искусстве как измерить достижения? Это чрезвычайно условное понятие, выдуманное, конечно, не самими художниками.
В искусстве не бывает соревнования; но должно быть соучастие. И в искусстве случаются открытия. Любой вид соревнования вреден и опасен для искусства. Спектакль, идущий в театре, это один спектакль, он же в обстоятельствах конкурса совершенно другой, он попадает в условия ненормальные для творчества. К слову говоря, бывали времена, когда и сами профессионалы в искусстве таковыми себя не признавали. Г. Р. Державин терпеть не мог, когда его называли поэтом, любил, когда его называли сенатором и министром. Пушкин был одним из первых, как тогда говорили, сочинителей, кто взял на себя смелость назваться таковым, то есть профессиональным писателем. Помните «Разговор книгопродавца с поэтом»? И стал великим национальным гением – в отличие от многих талантливых дилетантов вокруг него.
Дилетанты в глубине души всегда хотят стать профессионалами, и бывает, что действительно становятся таковыми. И. Г. Эренбург когда‐то писал о дилетантах в литературе первой половины XIX в., относя к ним в первую очередь такого безусловно великого писателя, каким был Стендаль. Стендаль, начиная как дилетант, скрыв настоящее имя под псевдонимом, стал величайшим профессионалом в литературе; стиль Стендаля надолго вперед ушел от его времени; в чем‐то он, безусловно, предвестник литературы XX в.
Надо признать, что и сам Станиславский в начале пути был не кем иным, как дилетантом. На это часто любят ссылаться противники школы в искусстве.
Но Станиславский, помимо, если можно быть помимо – гениальности, был любознательным, трудолюбивым и в высшей степени порядочным человеком. Людям, подобным ему, русская культура обязана многим. Они имели свои университеты, ведь бывает еще и школа жизни – важно, понял ли ты жизнь как школу, и как ты в ней учился.
Надо сказать, что, как это ни покажется странным, элемент порядочности, то есть именно нравственный элемент, чрезвычайно присущий русской культуре вообще, непременно входит в методологию и является ее существенной частью.
Неслучайно одной из самых важных тем в учении Станиславского является этика, а непосредственно в актерском и режиссерском искусстве – сверхзадача и сверх-сверхзадача.
Станиславский упорно учился всю жизнь, он изучал тайны своей профессии, приемы и приспособления великих современников, прочитал всю литературу, посвященную театру, а ее и в то время было немало. Он прошел по своей инициативе самую настоящую школу и, отлично изучив самые разные мнения и взгляды на искусство актера, подвергнув тщательному анализу всяческие направления в театральном искусстве, попробовав себя в них, взял у них лучшее. И, как результат этого в прямом смысле пожизненного труда, он, наконец, основал свою театральную школу, вскоре ставшую всеобщей театральную систему, положив на это дело всю жизнь (надо только понять это – всю жизнь!). Он вместе с Немировичем-Данченко дал нам научно обоснованную методологию актерского и режиссерского труда.
Дилетант становится художником в том случае, когда он не боится учения и не чурается труда. Об этом написана прекрасная книга эстонского режиссера и педагога, получившего русскую театральную школу в ГИТИСе, школу Станиславского и Немировича-Данченко, у великих А. Д. Попова и М. О. Кнебель, она называется «Труд и талант в творчестве актёра». Эта книга стала одним из ценных вкладов в методологию, который внесли наследники и продолжатели дела Станиславского, каким, безусловно, являлся В. Х. Пансо.
Труд – постоянный, непрерывный труд, вот, собственно говоря, отличительный признак настоящего профессионала. Он включает в себя и работу над собой – так называется великая книга К. С. Станиславского «Работа актёра над собой». Работу над освоением своей профессии, постоянным изучением ее основ, знание ее методологии. Об основных постулатах этой книги, составившей эпоху в мировой театральной теории и практике – педагогике и режиссуре, мы будем говорит ниже.
Именно методология противостоит разрушительному воздействию на современный театр тех, даже талантливых, дилетантов, которые не хотят учиться, трудиться, но затянутые соблазнительно прекрасным миром театра, блуждают в обаятельных, но опасных сумерках незнания, претендуя при этом быть или хотя бы называться художниками.
Именно в методологии черпает силы, то есть обретает необходимую сумму знаний и навыков, современный художник сцены, актер и режиссер.
Глава вторая
К. С. Станиславский и Вл. И. Немирович-Данченко
Методология театрального искусства в широком смысле слова или, что, в сущности, то же самое – методология современных актерского мастерства и режиссуры, известна больше у нас и во всем мире как так называемая система Станиславского. Она родилась в России на перепутье XIX и XX вв.
Не случайно, что это произошло именно в России и именно на границе двух столетий, на рубеже веков, вспомним название известной книги А. Белого.
Прежде чем разъяснить этот важный тезис о первенстве именно русского театра, русской театральной мысли в деле открытия, становления, утверждения и расцвета строго научной теории театрального искусства, скажем несколько слов, как нам кажется, необходимых, о двух театральных учениях, собственно, и составивших методологию.
Эти театральные учения в чем‐то самом важном очень близкие, а в чем‐то не столь существенном, но интересном несколько отличающиеся одно от другого. Но всю совместную историю они обладали очень сильной взаимной притягательностью, взаимным тяготением; они не только дополняли одно другое, но взаимопроникали друг в друга, обладая единым взглядом на сущность театрального процесса и, что мы не перестаем подчеркивать, на ту его важнейшую часть, каковой является театральная школа, то есть часть педагогическую.
Как вы уже догадались, эти два учения связаны с именами Станиславского и Немировича-Данченко, и они, собственно, в совокупности составляют методологию нашего искусства, принятую с разными, конечно, нюансами и оттенками практически во всем мире.
Таким образом, если мы хотим говорить о методологии в целом, то просто обязаны всегда иметь в виду, что сама по себе она не сводится только лишь и исключительно к системе Станиславского, хотя, безусловно, именно в ней берет начало.
Огромное, без всякого преувеличения, значение в современной методологии имеет фундаментальное театральное учение Вл. И. Немировича-Данченко, которое как таковое мы узнали досадно поздно, но без которого, разумеется, современная театральная мысль была бы очень неполной, даже в чем‐то ущербной. И без него то, что, собственно, ныне мы понимаем под системой, то, что на самом деле представляет собой сплав двух одинаково важных театральных учений – Станиславского и Немировича-Данченко, конечно, не смогло бы иметь такого значения для современной театральной мысли, актерского искусства, режиссуры и педагогики.
Поэтому система Станиславского – это привычное и ставшее нарицательным название, а по сути под ним подразумевается объединение системы Станиславского как таковой и театрального учения Немировича-Данченко. В данном случае одно безусловно подразумевает другое; будем считать, что оба великих учения объединены в емком понятии «система». Мы будем говорить – методология, система, все об одном и том же.
Но исторически так получилось, и продолжалось довольно долго, что исключительно система Станиславского стала чуть ли не нарицательным названием новейших театральных исканий, открытий, своего рода ярлыком, как мы (стремясь забыть родной язык, прибегая к иностранным словам для обозначения довольно простых вещей) говорим сегодня, – «брендом», которым обозначается колоссальная театральная реформа, связанная с его именем.
При этом огромное значение наследия Немировича-Данченко в лучшем случае только подразумевалось, но далеко не всегда понималось и выделялось как самостоятельное учение, что в корне неверно, так как это учение методологически и философски глубоко, и не просто, повторим, дополняет систему, а вместе с ней является непременным обоснованием театральной методологии.
Такому долгое время «теневому» существованию учения Немировича-Данченко способствовали по крайней мере два обстоятельства, если не брать в расчет отсутствие у Немировича-Данченко желания выдвигать себя на первый план. Ни ему, ни Станиславскому даже в микроскопической доле не было свойственно тщеславие. Но Станиславский написал две большие книги, сам он называл их двумя первыми томами труда, в которых хотел изложить свою систему, и которые стали классикой театральной методологии – две книги, известные во всем мире. Эти два тома, которые он успел довести до конца и опубликовать, представляют собой книги: «Моя жизнь в искусстве» и «Работа актёра над собой в творческом процессе переживания».
В первой он высказывает замечательные мысли о театральном искусстве, рассказывает о том, как к нему пришла идея реформировать театральное искусство, о своих творческих исканиях, о создании Художественного театра, театральных студий, но в целом эта книга носит характер мемуаров, необыкновенно интересных и исключительно ценных с точки зрения кристаллизации театрального учения.
Вторая же целиком и полностью представляет собой настоящее научное исследование, хотя и написана в литературной форме дневника ученика театральной студии. Это исследование уникально, не имеет аналогов и стало самой настоящей библией для поколений актеров, режиссеров и, разумеется, театральных педагогов.
В этой книге процесс «переживания», то есть правильно организованной сценической жизни актера, подвергнут исчерпывающему анализу, и в ней сформулированы основные законы актерского творчества.
Ничего подобного история искусства не знала; любые другие театральные исследования (а среди них были совершенно замечательные, ставшие настоящими вехами на пути театральной теории), как бы глубоки и значительны они не были, все выходят из книги Станиславского «Работа актёра над собой», в ней имеют свои корни и должны до сих пор ее учитывать.
Без этой книги, кажется, всесторонне охватившей процесс работы актера над собой, в которой досконально, подробнейшим образом исследована природа актерского искусства, никакой сколько-нибудь серьезный и ответственный разговор о театральном искусстве просто невозможен – вне этой книги он становится бессмысленным.
Второй том в виде отдельной книги Станиславский хотел посвятить работе актера над собой в творческом процессе перевоплощения, но при жизни опубликовать не успел. Поэтому он часто выходит как дополнение к первой части труда о работе актера над собой и публикуется с ней под одной обложкой. Кстати, это наименее изученный и наиболее трудный для восприятия труд Станиславского. К этому можно прибавить огромное количество статей и записей выступлений Станиславского, посвященных тем или иным проблемам методологии, – как-никак на сегодняшний день мы имеем девять томов его литературного наследия.
Ничего подобного в смысле наличия теоретических трудов нельзя сказать о Немировиче-Данченко, его теоретическое наследие крайне скромно по сравнению с литературным наследием Станиславского. Более или менее известна его замечательная книга «Из прошлого», конечно, и в ней мы находим суждения и мнения великого реформатора сцены, которые являются ценными и важными теоретическими положениями, но сама по себе книга прежде всего биография, хотя биография не столько личная, сколько театральная, художественная.
Теоретическое наследие Немировича-Данченко, то, что впоследствии назовут его театральным учением, стало нам известно и прочно вошло в обиход театральной науки благодаря его ученикам и соратникам, среди которых следует отметить В. Г. Сахновского, собравшего воедино его высказывания, заметки, выступления, замечания, советы, статьи и т. д. В первую очередь важны труды великого театрального педагога М. О. Кнебель, без ее книги статей, научных исследований могло бы случиться так, что мы бы и не узнали о театральном учении Немировича-Данченко. Нечего говорить, что бы это значило для нашей методологии, ее просто не было бы, так важна в ней составляющая Немировича-Данченко.
Что же касается собственно режиссуры, то она именно в учении Немировича-Данченко, не зафиксированном им самим на бумаге, обрела то, что называется professione de foi, свое исповедание веры, профессиональную идентификацию. И это при том, что и при жизни Немировича-Данченко, и после него были созданы блистательные теоретические режиссерские труды – достаточно упомянуть здесь такие огромные фигуры отечественной режиссуры, как Вс. Э. Мейерхольд, С. М. Эйзенштейн, А. Д. Попов, Б. Е. Захава, блистательные практики и теоретики театра.
Очень значительный вклад в дело изучения и распространения наследия Немировича-Данченко сделали работы П. А. Маркова, В. Я. Виленкина. Книга Виленкина «Немирович-Данченко ведёт репетицию» стала одним из бесценных достояний методологии, дающих понятие о режиссерских и педагогических принципах Немировича-Данченко. Кроме того, опять‐таки исторически сложилось так (не будем сейчас вникать в причины), что с 30-х гг. прошлого века вплоть до своей смерти в 1944 г. все руководство огромным мхатовским коллективом осуществлял в сущности один Немирович-Данченко. Невероятная по нагрузке, просто поражающая воображение практическая занятость его в Художественном театре, а также в руководимом им знаменитом музыкальном театре его имени (вплоть до насильственного закрытия этого уникального музыкального театра, впрочем, как и музыкального театра Станиславского, выразившегося в слиянии двух вовсе к этому не стремившихся коллективов), оставляли ему мало времени для написания и публикации специальных теоретических трудов.
Закрытие под видом слияния театров, выросших из музыкальных студий, нанесло непоправимый вред отечественному искусству музыкального театра. Это были театры – оперные прежде всего, хотя в них ставились и оперетты, всей деятельностью доказывавшие правоту театрального учения Немировича-Данченко и системы Станиславского на оперной сцене. То есть на той сцене, которая исторически менее всего склона была к каким-нибудь новациям, особенно в сфере актерского мастерства, которое почти всегда было на оперной сцене не самой главной составляющей оперного спектакля.
Ф. И. Шаляпин был гениальным исключением, только доказывающим правило. Должно было пройти много лет, чтобы на оперной сцене снова восторжествовали принципы Станиславского и Немировича-Данченко, это произошло в творчестве великого оперного режиссера, ученика Станиславского и В. Г. Сахновского – Б. А. Покровского. К счастью для нас, Б. А. Покровский обладал, как и его учитель Станиславский, блестящим даром теоретика и оставил нам замечательные книги, по которым можно и должно учиться режиссуре и актерскому мастерству в музыкальном театре и которые по праву вошли в тезаурус нашей методологии.
Но была еще одна и, пожалуй, решающая причина, почему наследие Немировича-Данченко пришло к нам с досадным значительным опозданием. В те годы в советском искусстве сложилась весьма тяжелая для художников ситуация: властями была спровоцирована кампания, которая шла под лозунгом борьбы с формализмом, позже к ней прибавилась и так называемая борьба с космополитизмом. Возник тяжелый, трагический для многих художников период в советском многонациональном искусстве и культуре, начавшийся в 40-е гг. и достигший апогея в 50-е гг. прошлого столетия, принесший большие беды в частности Художественному театру, да и всему советскому театру в целом. Случилось это вскоре после ухода из жизни великого режиссера.
В самом Художественном театре началась ожесточенная схватка за власть. Из театра выдавливалось наследие Немировича-Данченко. В результате вынуждены были покинуть театр преданные этому наследию художники. Вообще в советском театре возникла, а говоря откровенно, была ему навязана не менее ожесточенная дискуссия вокруг творческого наследия обоих великих деятелей театра. Эта дискуссия имела, конечно, внутри себя политическую подоплеку, что в то время было крайне опасно. Проводилась она не вполне, скажем так, академически. И стоила системе Станиславского дорого. На многие годы система стала пониматься чрезвычайно узко, свелась вся только к так называемому методу физических действий, которые были вырваны из контекста системы и объявлены единственно правильным путем работы актера и режиссера в театре, они предписывались всем театрам как единственный метод работы над спектаклем. Более того, была совершена феноменальная по своей невежественности глупость – метод физических действий из важнейшего инструмента работы актера и режиссера вдруг сделали явлением эстетическим и в этом виде навязали всему театральному искусству страны. Сам того не подозревая, он стал понятием эстетики; он предписывал художественную форму, в которой одной только и должен был работать театральный коллектив. «Отображение жизни в формах самой жизни» – так это называлось, на самом деле под этим лозунгом насаживалось унылое правдоподобие на сцене советского театра. Конечно, это не имело ничего общего даже в мельчайших деталях со сценическим реализмом Художественного театра, к которому апеллировали адепты метода физических действий.
Этот реализм Художественного театра сам Немирович-Данченко называл «реализмом, отточенным до символа», конечно, такое понимание сценического реализма было в то время невозможно. Нечего и говорить о том, что прежде всего от такого насильственного, чуть ли не с милицией, внедрения метода физических действий, который, разумеется, сам по себе ни в чем не виноват, пострадал прежде всего сам метод физических действий, гениальная находка последних лет жизни Станиславского.
Что же касается наследия Немировича-Данченко, оно было отодвинуто на задний план и объявлено идеалистическим, в противовес якобы материалистическому подходу Станиславского. Обвинение в идеализме в те годы было обвинением политическим и влекло за собой часто последствия самые страшные.
Нужно было обладать смелостью и принципиальностью М. О. Кнебель, чтобы бороться с таким мнением и в конце концов перебороть его. В этом помогал ей великий А. Д. Попов – с ним Кнебель работала многие годы и в театре, и на знаменитой кафедре режиссуры ГИТИСа, которой впоследствии она руководила, правда, не очень долгое время.
В те годы стали знаменитыми и восхищали своей смелостью слова А. Д. Попова, произнесенные им на одной из конференций: «У нас перебиты крылья!» Так он оценивал результаты этой навязанной художникам театра кампании.
Но как бы то ни было, прошли годы, прежде чем появилась основополагающая работа М. О. Кнебель о режиссуре и педагогике Немировича-Данченко, ее книга называлась «Школа режиссуры Немировича-Данченко». Со времени появления этой книги наследие Немировича-Данченко, чуть было не потерянное в пылу навязанных театру сражений, стало неотъемлемой частью театральной методологии, а его огромная фигура заняла место рядом со Станиславским.
М. О. Кнебель велика еще и тем, что именно она объединила теоретическое наследие двух великих художников театра, нисколько не нивелируя ни того ни другого, но, вскрывая разницу в их подходах к некоторым важным проблемам театрального искусства, раскрывая их режиссерские и педагогические методы работы с актером, над ролью и спектаклем, добилась как раз того, что мы обладаем единой методологией, основывающейся на трудах обоих великих режиссеров и педагогов, в которой их методы слились воедино.
Именно М. О. Кнебель мы обязаны тем, что в методологию вошли и стали доступными для нас такие гениальные театральные открытия Немировича-Данченко, как внутренний монолог и физическое самочувствие, зерно и второй план, сценическая атмосфера, харáктерность… Три волны театрального искусства и триединство режиссера, лицо автора в спектакле…
И наконец, самые великие открытия Немировича-Данченко, весьма далеко простирающиеся, собственно, за театральные рамки, – «мужественная простота» и уже упоминавшийся нами «реализм, отточенный до символа».
За каждой из этих тем движутся огромные пласты театрального искусства; проблемы мировоззренческие, идейные, проблемы жизни и человека, мира.
Это и есть русский театр – самая техника театрального искусства в нем неразрывно связана с его философией. Любая методическая проблема сейчас же выведет нас на идейные вопросы, на человеческое бытие, на путь к смыслу жизни. На тяжкий путь познания – это вообще свойство русского искусства. В деятельности Немировича-Данченко это воплотилось в полной мере.
У А. П. Чехова, автора очень близкого Художественному театру, в одном из его лучших рассказов «Студент» герой думает о том, что мы связаны с прошлым невидимой цепью, и если тронуть одно из звеньев этой цепи, мгновенно отзовутся другие.
И у Станиславского, и у Немировича-Данченко невозможно выделить что‐то одно из цепочки целостного театрального учения. Все взаимосвязано, все перетекает одно в другое, все живо, и ничто не представляет из себя истины в последней инстанции и ни в коем случае не претендует на нее. Театральное наследие великих деятелей русского театра не может, не должно становиться догмой, оно живое, развивающееся. На основе системы Станиславского и учения Немировича-Данченко должны вырасти и обязательно вырастут новые открытия, от них пойдут новые прямые пути русского театра.
Надо только хорошо знать и внимательно изучать это наследие.
Тысячелетия театр, – понимаем под ним прежде всего искусство актера, а не искусство литературы в виде драматического ее рода, – существовал без своей теоретической базы. Драма имела свою теорию, свои законы и исследователей, начиная с Аристотеля. Но кто в многовековой истории театра занимался самой природой актерской игры, многие ли пытались исследовать законы сценической деятельности актера? Кто пытался изучить, понять, объяснить и сделать доступными тайны актерской жизни на сцене, природу актерского перевоплощения, основы сценической жизни артиста? Скажут – многие пытались, и справедливо назовут при этом целый список имен писателей, философов, актеров, так или иначе занимавшихся вопросами актерского искусства, – от книги иезуита отца Франциска Ланга до С. Волконского.
Но большинство из этих работ ровным счетом ничего не дают собственно актеру, в них часто написаны справедливые вещи о том, что должно быть, но как к этому «что должно быть» прийти актеру – понятия не имеют. О законах актерского творчества, о тех психических и физических процессах, которые происходят с актером на сцене, изучив которые, можно построить внятную, строгую, логически, научно обоснованную теорию актерского мастерства, – об этих законах не знали. Они еще не были, да и не могли быть открыты, это удалось сделать много позже. О них могли только догадываться, могли их предполагать, но и то далеко не все из тех, кто занимался актерским творчеством и как практик, и как теоретик.
Действительно, об актерском искусстве, о феномене актера на сцене писали многие – так интересен и в известном смысле слова он был таинственен. Писали и сами актеры: знаменитые трактаты итальянских актеров Луиджи Риккобони-отца, который, кстати, называется «Об искусстве представления», и Франческо Риккобони-сына в XVIII в., публикации Б.-К. Коклена-старшего, Т. Сальвини, П. Д. Ленского в XIX в. – называем самые из самых знаменитых.
Актером и его парадоксом занимались философы, эстетики, литераторы – особенно известной (правда, спустя 40 лет после написания) стала книга об актерском искусстве философа Д. Дидро, опубликованная в 1830 г.; она так и называлась «Парадокс об актёре», ее изучают и сегодня. О ней известный театральный педагог, соратник и сотрудник Станиславского Н. В. Демидов остроумно и зло заметил, что этот трактат является как раз тем случаем, когда автор рассуждает о предмете, которого совершенно не знает и не понимает.
Мысль Демидова кажется нам хотя и слишком резкой, но в то же время в большой степени справедливой, чтобы обратить на нее внимание. Знаменитая книга Дидро – сочинение философское, она мало что дает в смысле изучения природы актерского бытия на сцене, а своими положениями способна запутать неискушенного читателя. Если принять ее всерьез, то неизвестно чего больше она принесет – пользы или вреда. Во всяком случае книга ровным счетом ничего не дает для решения тех технологических задач, которые встают перед актером в процессе его творчества, а главное – в процессе обучения актерскому искусству. Но, кажется, она таких задач и не ставила; книга Дидро отражает прежде всего идейную полемику времени. Вообще, следует сделать поправку на время – в эпоху Дидро, да еще долго после него, вся сторона внутренней душевной жизни человека, его психики и связи ее с физической жизнью была изучена чрезвычайно мало и состояла сплошь из догадок, иногда удивительно верных, но в целом была еще покрыта если не мраком, то флером таинственности и едва ли не мистичности. А без развития науки о человеческой душе докопаться до тайн природы жизни актера на сцене было, конечно, задачей почти невыполнимой.
В этом смысле имелись гениальные догадки о природе и сущности актерской игры у Шекспира. Вспомните знаменитую сцену с актерами из «Гамлета» у Мольера в «Версальском экспромте», в котором некоторые пассажи созвучны известному требованию нашего великого Щепкина – «влезть в шкуру действующего лица». Интересны мысли о театральном искусстве Лессинга в его «Гамбургской драматургии», исключительно важны для дальнейшей методологии актерского творчества мысли о труде актера великого Гёте, поразительно точно и остроумно он говорит об актерском искусстве в прологе к «Фаусту».
В словах, произносимых Директором театра в прологе к трагедии, блестяще афористично сказано об актерской профессии: «С талантом человеку не пропасть. Соединить сумейте только в каждой роли / Воображенье, чувство, ум и страсть / Да юмора значительную долю». Это очень созвучно великолепной формуле Станиславского – «Проще, легче, веселее, выше». Если внимательно прислушаться к остроумным словам искушенного театрального дельца – Директора театра, то легко в них увидеть целую программу актерской школы. Воображенье, ум, страсть, юмор – это все необходимейшие предпосылки плодотворной актерской деятельности.
Вопрос, и самый главный, самый настоятельный, был только в том, как же сделать так, чтобы всем этим комплексом овладеть, и как, говоря словами Щепкина, влезть в шкуру действующего лица. Как бы то ни было, ни в одном из трактатов и руководств по актерскому искусству, коротко говоря, не предпринималось попытки вскрыть сущность того сложного процесса, который происходит с актером на сцене, найти и использовать потом в творческой деятельности мастеров сцены основные законы, изучив и овладев которыми можно стать профессиональным, грамотным актером и заниматься этой деятельностью без оглядки на пресловутое вдохновение.
Практически все работы, посвященные удивительному феномену актера, сосредоточивались главным образом на споре о том, настоящие ли чувства должен испытывать актер на сцене или он должен умело изображать их, доходя иногда до виртуозности в этом сложном деле. Актер испытывает или во всяком случае должен испытывать во время своей сценической игры настоящие чувства, этот постулат поддерживала одна партия. Другая настаивала на том, что актер ни в коем случае не должен испытывать настоящие чувства на сцене, что подлинное чувство, если его на самом деле испытывает актер, говорит только об отсутствии у него искусства; чувство, наоборот, только мешает актеру, овладевает им и заставляет уклониться от создания совершенного произведения искусства.
Известный спор приобрел такую отчасти лаконичную афористическую форму – настоящими слезами плачет актер на сцене или нет. Занятно, что никто почему‐то не задавал вопроса о том, а настоящим ли смехом смеется актер на сцене или нет. А ведь сценическая природа смеха и слез, как это ни покажется странным, в своей, так сказать, физиологической составляющей одинакова, это известно любому актеру.
Чрезвычайно интересным представляется то, что партия сторонников искусного изображения чувств имела довольно внушительную теоретическую базу, то есть выпустила довольно много руководств, книг, чуть ли не учебников о том, как это сделать, как добиться максимального сходства изображаемых чувств с чувствами настоящими. Велика была роль в этом и театральных традиций, передачи опыта из поколения в поколение, как правило, тех или иных приемов, посредством которых можно наиболее удачно изобразить чувство.
В одном относительно недавнем, почти уже в эпоху Станиславского написанном руководстве насчитывалось 187 положений бровей, изучив и запомнив которые, актер мог бы изображать тот или иной оттенок чувства. И это не только воспринималось вполне серьезно, но и вполне серьезно осуществлялось. Нечего и говорить о том, какой же это был гигантский труд. Но иначе не представляли возможность стать по-настоящему хорошим актером-художником. А ведь изучив 187 положений бровей, легко обнаружить, что есть еще и 188-е и так далее, как в таблице Менделеева, с той только разницей, что таблица Менделеева научно обоснована и появление в ней каждого нового элемента строго обусловлено.
Такую таблицу Менделеева в актерском искусстве еще только предстояло создать, и она была разработана Станиславским и Немировичем-Данченко. Понятно, что для этого нужно было открыть, изучить законы сценической жизни и, что исключительно важно, – сделать их потом общедоступными, то есть научить ими пользоваться любого актера.
Так получилось, и это было естественным для своего времени, что пути к изображению были изучены гораздо подробнее, чем пути проживания подлинного чувства. В так называемой школе переживания долгое время все было отдано на откуп легкомысленному и пугливому вдохновению – настоящему врагу актерской профессии, да и любой другой, если иметь в виду профессионализм, а не любительщину. Хотя к подлинному переживанию искались пути, но долгое время вполне безуспешно.
Грубо говоря, в те времена – конец XIX в., наиболее ярким представителем первой партии, партии подлинных чувств или, как стали говорить потом, – переживаний, был великий итальянский трагик Сальвини; представителем противоположной же партии, той стороны, которая требовала от актера искусного изображения чувства или, как стали позже говорить, – их представления,











