Читать онлайн Путь Волка и Сокола
- Автор: Alex Coder
- Жанр: Исторические приключения, Историческое фэнтези, Русское фэнтези
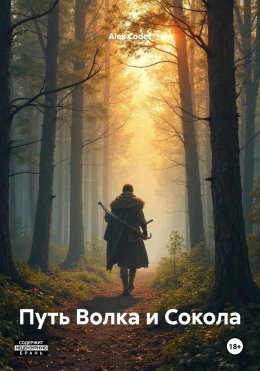
Глава 1: Утро в кожевенной слободе
Новгород просыпался неохотно, кутаясь в клочья влажного утреннего тумана, ползущего от седых вод Волхова. Далеко, на Торговой стороне, уже звенели молоты в кузнях, скрипели немазаные колеса телег, переругивались грузчики у пристани. Но здесь, на Софийской стороне, в лабиринте узких улочек Кожевенной слободы, утро имело свой собственный, ни с чем не сравнимый запах.
Это была удушливая, всепроникающая вонь – смесь сырой крови, гниющей плоти, едкой золы и застарелой мочи. Запах, который въедался в дерево домов, в одежду, в кожу и волосы, становясь второй натурой для тех, кто здесь жил. Для Ратибора этот смрад был так же привычен, как дыхание.
Он стоял по колено в чане с мутной, белесой жижей – известковым раствором, в котором отмокали коровьи шкуры. Вода была ледяной, и холод пробирал до самых костей, но Ратибор, казалось, не замечал этого. Его обнаженный по пояс торс, уже широкий и бугристый не по годам, блестел от пота, смешанного с грязными брызгами. В руках он держал тяжелый деревянный шест, которым ворочал скользкие, тяжелые пласты кожи, не давая им слежаться. Каждый толчок отдавался напряжением в могучих плечах и спине. Мышцы, выкованные не праздными забавами, а ежедневным, изнурительным трудом, перекатывались под кожей, словно живые змеи.
– Сильнее жми, Ратибор, – раздался позади него низкий, чуть хрипловатый голос. – Та, что у края, совсем залежалась. Щетина колом встанет, не выдерешь потом.
Велеслава, его мать, стояла у колоды для мездрения. Она не выглядела как скорбящая вдова или измученная трудом женщина. В ее фигуре, широкой в кости, крепко сбитой, все еще угадывалась несокрушимая мощь воительницы. Даже сейчас, в простой холщовой рубахе и портах, перепачканных грязью, она двигалась с хищной экономией сил. Ее руки, покрытые сетью старых белесых шрамов и свежих мозолей, сжимали тяжелый скребок с той же уверенностью, с какой когда-то сжимали рукоять боевого топора.
Одним точным, сильным движением она содрала с растянутой на колоде шкуры пласт мездры – остатки подкожного жира и мяса. Слизь и кровь брызнули в стороны. Велеслава даже не моргнула.
– Новую шкуру вчера приволокли. От быка, что вчера на празднике резали, – продолжила она, переворачивая шкуру. – Радим бы обрадовался. Толстая, без парши. Такие сапоги из нее вышли бы – век носи.
При упоминании отца Ратибор на мгновение замер. Радим. Отец. Прошло уже почти полгода с тех пор, как моровая язва, черная холера, выпила из него жизнь за три страшных дня. Отец был не таким громадным, как сын, но жилистым и упрямым, как старый корень дуба. Он знал о коже все: как вымочить, как размягчить, как выдубить так, чтобы она пела под ножом. Это он научил Ратибора этому смрадному ремеслу, и теперь каждый клочок кожи, каждый чан с золой напоминал о нем.
– Он бы сказал, что я ленюсь, – глухо ответил Ратибор, с новой силой налегая на шест. Ледяная жижа плеснула ему на грудь, заставив поморщиться.
– Он бы сказал, что ты вымахал в два раза шире него и скоро пробьешь головой нашу крышу, – Велеслава усмехнулась уголком рта, но в глазах ее не было веселья. – И был бы прав. Давай, вытаскивай ту, что с краю. Пора скоблить.
Совместными усилиями они вытянули из чана огромную, осклизлую шкуру. Она шлепнулась на дощатый настил двора, источая новую волну смрада. От нее веяло могильным холодом и тленом. Тучи жирных, зеленых мух, жужжащих, словно натянутая тетива, тут же облепили ее. Ратибор схватил шкуру за один край, Велеслава – за другой, и они потащили ее к колоде. Она была тяжелой, неподатливой, словно мертвое тело.
Пока мать закрепляла шкуру, Ратибор взял свой скребок. Инструмент был тяжелым, двуручным, с лезвием, заточенным ровно настолько, чтобы сдирать волос и эпидермис, но не резать саму кожу. Работа была монотонной, грязной и требовала огромной физической силы. Сантиметр за сантиметром он счищал размокшую щетину, которая сходила вместе с верхним слоем кожи грязной, вонючей кашей. Пот заливал ему глаза, смешиваясь с вонью. Он дышал ртом, стараясь не думать о запахе, о холоде, о том, что эта работа никогда не кончается.
– Боярин Ярун новый заказ прислал. На дюжину ремней для сбруи, – сказала Велеслава, начиная работать с другой стороны шкуры. Их движения были слаженными, выверенными годами совместного труда. – Платит серебром. Хоть на муку и соль хватит.
Ратибор молча кивнул. После смерти отца стало совсем туго. Заказов было меньше – многие знали Радима, но не доверяли его вдове и сыну-подростку, хоть тому и стукнуло уже семнадцать зим. Приходилось браться за любую работу, самую грязную, самую дешевую. Они жили от заказа до заказа, и каждая монета была на счету.
На мгновение Ратибор остановился, чтобы вытереть пот со лба тыльной стороной запястья. Его взгляд скользнул за частокол их двора, в сторону соседней улицы – Гончарной слободы. Там не было такой вони. Там пахло влажной глиной и дымом из обжиговых печей. Иногда по утрам он видел, как Зоряна, дочь гончара, выносит свежие, еще теплые горшки остывать на воздух. Он ловил себя на том, что смотрит на ее тонкие пальцы, испачканные глиной, на светлые волосы, выбившиеся из-под повойника, и ему становилось тошно от запаха собственного двора, от липкой грязи под ногтями.
Он встряхнул головой, отгоняя ненужные мысли. Сейчас не до девок. Сейчас нужно работать, иначе зимой придется грызть кору с деревьев.
Он снова навалился на скребок. Глухой, методичный стук их инструментов о дерево колоды был единственной музыкой этого утра. Стук, который означал выживание. Во дворе медленно светало, и первые лучи солнца, пробившись сквозь туман, упали на окровавленные остатки мездры, сваленные в углу. Мухи зажужжали громче, предвкушая пир. День обещал быть долгим.
Глава 2: Глиняные пальцы
Если двор Ратибора был царством распада и смерти, то соседний двор, отделенный лишь ветхим частоколом, был местом созидания. Здесь воздух был иным – густым от запаха влажной, жирной глины, сухого сена, которым перекладывали готовые изделия, и теплого, уютного дыма из горна, похожего на раздувшегося пузатого домового.
Зоряна сидела за гончарным кругом в тени навеса. Ее босые ступни умело и привычно толкали нижний маховик, задавая плавное, убаюкивающее вращение. В отличие от Ратибора, чья сила была грубой, взрывной, необходимой, чтобы рвать и скоблить, сила Зоряны была в ее пальцах. Длинных, чутких, испачканных серой глиной до самых локтей.
На круге рос горшок. Бесформенный ком глины под ее ладонями обретал жизнь. Она чувствовала малейшее биение, малейшее сопротивление материала. Ее пальцы скользили по мокрой поверхности, то сжимая, то разглаживая, и в этих движениях была сокровенная, почти непристойная близость. Она не просто лепила – она соблазняла глину, заставляя ее подчиниться своей воле, принять желанную форму. Изнутри большой палец вытягивал стенки, снаружи ладонь формировала выпуклые бока. Это был танец, известный лишь ей и податливому серому кому.
Но мысли ее были не здесь. Сквозь щели в частоколе она то и дело бросала быстрые, воровские взгляды на соседний двор. Она видела Ратибора – его широкую, напряженную спину, блестящую от пота, рельеф мышц, перекатывающихся под кожей при каждом движении. Она видела, как он ворочает в чане мерзкие, скользкие шкуры, и вместо отвращения чувствовала странный, будоражащий трепет. В его мире не было места изяществу. Все было подчинено первобытной силе: убить, освежевать, выделать, выжить. В нем была та дикая, необузданная мощь, которой так не хватало в ее упорядоченном, предсказуемом мире глиняных черепков.
Ее отец, Микула, кряжистый мужик с вечно недовольным лицом, заметил ее отвлекшийся взгляд.
– Опять на скорняков пялишься? – пробурчал он, не отрываясь от росписи большой корчаги. – Смотри, стенки поведет. Вся работа насмарку. От них вони, как от могильника, а ты туда же. Доброму человеку и по ветру стоять рядом с ними зазорно.
– Они работают, батюшка, – тихо ответила Зоряна, заставляя себя сосредоточиться на горшке.
– Работают… – хмыкнул Микула. – Ковыряются в падали. Наше дело чистое. Мы из праха земного красоту творим, а они из мертвечины – вонючие ошметки. Не ровня они нам. Запомни это.
Зоряна промолчала. Что она могла сказать отцу? Что этот «вонючий ошметок», этот парень из соседнего двора, снится ей по ночам? Что в своих снах она чувствовала жар его тела, а его руки, большие и грубые, испачканные не глиной, а кровью и известью, касались ее кожи, и от этих прикосновений у нее перехватывало дыхание?
Она закончила горшок, срезала его с круга тонкой нитью и поставила в ряд с другими, сохнуть. Пальцы ныли от напряжения.
– Воды принеси, – бросил отец. – В кадке на донышке осталось.
Для Зоряны это был долгожданный предлог. Она знала: примерно в это время Ратибор заканчивает утреннюю грязную работу и идет к общему колодцу, что стоял на перекрестке их улочек, чтобы хоть немного смыть с себя смрад кожевенного двора.
Схватив два деревянных ведра на коромысле, она выскользнула за ворота. Так и есть. Он был уже там. Ратибор стоял у сруба, обнаженный по пояс. Сняв грязную рубаху, он зачерпнул ледяной воды и плеснул себе на лицо, шею, грудь. Вода стекала по его могучим плечам и загорелой коже, смывая грязь и пот. В утреннем свете его тело казалось высеченным из камня, диким и совершенным. Зоряна невольно сглотнула, чувствуя, как пересохло во рту.
Он заметил ее и нахмурился, словно его застали врасплох за чем-то постыдным. Быстро натянул влажную рубаху, которая тут же прилипла к телу, очерчивая каждый мускул. Он остро осознавал, что от него, должно быть, все еще разит чаном.
– Здрав будь, Ратибор, – тихо сказала Зоряна, подходя ближе и ставя ведра на землю. Ее сердце стучало так громко, что, казалось, его стук слышен по всей слободе.
– И тебе не хворать, – буркнул он, не глядя на нее и делая вид, что поправляет ворот колодца.
Возникла неловкая тишина, нарушаемая лишь скрипом цепи. Зоряна искала слова, но они застревали в горле.
– Тяжелы ведра у вас, – наконец выдавила она, кивая на огромную бадью, которой он только что пользовался. – Силы, поди, надо много.
Он лишь пожал плечами. Комплименты его смущали.
– Привычное дело, – ответил он и, чтобы прервать разговор, начал опускать ее ведро в колодец.
Когда он поворачивался, чтобы передать ей полное ведро, край его рубахи зацепился за тесьму, которой была перевязана ее коса. Тонкая лента с вышитыми на ней васильками развязалась и упала на землю, прямо в лужу грязной воды у его ног.
– Ой! – вскрикнула Зоряна.
Ратибор замер. Затем, неуклюже наклонившись, он поднял мокрую, испачканную ленту. Он держал ее на своей огромной, загрубевшей ладони. Казалось, эта тонкая полоска ткани была самой нежной вещью, которую он когда-либо держал в руках.
Он протянул ленту ей. На мгновение их пальцы соприкоснулись. Его кожа была грубой, покрытой мозолями и мелкими царапинами. Ее – прохладной и гладкой. Для обоих это прикосновение было подобно удару молнии. Зоряну бросило в жар, а Ратибор резко отдернул руку, словно обжегся.
– Вот… держи, – прохрипел он, отступая на шаг.
– Благодарствую, – прошептала Зоряна, заливаясь краской. Она схватила свои ведра, расплескав воду, и, не говоря больше ни слова, почти бегом бросилась к своему двору.
Ратибор остался стоять у колодца один. Он смотрел ей вслед, а потом опустил взгляд на свою руку. На ладони, там, где ее коснулись пальцы девушки, все еще оставалось ощущение ее прохладной кожи. Он потер это место, пытаясь стереть странное, незнакомое чувство. Но оно не исчезало. Впервые в жизни вонь его ремесла показалась ему не просто привычной, а постыдной.
Глава 3: Уроки матери
Когда солнце окрасило небо над Новгородом в кроваво-багряные тона и дневной шум слободы начал стихать, уступая место вечерней тишине, во дворе Ратибора начиналась другая работа. Чаны были накрыты рогожей, свежевыделанные кожи развешаны на жердях, источая кислый запах дубильного раствора. Это было время, когда смрад ремесла уступал место запаху стали и пота.
Велеслава сняла свой рабочий передник. Под ним была все та же простая холщовая рубаха, но теперь, расправив плечи и взяв в руки две тяжелые деревянные палицы, имитирующие мечи, она преобразилась. Измученная трудом вдова исчезла, и на ее месте появилась воительница – опасная, собранная, с холодным блеском в глазах.
– Подними свою дубину, щенок, – бросила она Ратибору. – Или ты думаешь, враг будет ждать, пока ты свои кости разомнешь?
Ратибор, тоже вооруженный такой же палицей, встал напротив. Его молодое, мощное тело было создано для боя. Сила в нем кипела, ища выхода. Но в этих тренировках грубая сила была бесполезна против отточенного годами опыта.
Они сошлись в центре двора. Сухая, утоптанная земля стала их ристалищем. Несколько мгновений они кружили, оценивая друг друга. Велеслава двигалась легко, почти не касаясь земли, ее палица описывала ленивые, обманчивые круги. Ратибор стоял тверже, как вкопанный, готовый к мощному, сокрушительному удару.
– Ты стоишь как столб, – процедила Велеслава. – Ждешь, когда в тебя топор воткнут? Двигайся! Ноги – твоя жизнь. Не руки, не меч, а ноги!
Не успел он ответить, как она бросилась вперед. Это не был грубый наскок. Ее тело метнулось влево, делая ложный выпад, и когда Ратибор дернулся, чтобы его отразить, она уже была справа от него, и ее палица с сухим треском врезалась ему под ребра. Боль была острой, выбивающей дух. Ратибор согнулся, кашляя.
– Печенеги так не бьют, – прорычала она, отступая на шаг и давая ему перевести дыхание. – Они бьют, чтобы убить. Их кривые сабли входят в бок и вспарывают брюхо. И все твои кишки вываливаются на траву, а ты лежишь и смотришь, как их топчут кони.
Она говорила не для того, чтобы напугать. Она рисовала картины, которые сама видела. Ее глаза на мгновение затуманились дымкой воспоминаний – пыль степная, ржание сотен коней, свист стрел и предсмертные крики друзей.
Ратибор выпрямился, злость смешивалась с болью. Он атаковал сам. Это был яростный, прямой удар, в который он вложил всю свою юношескую силу. Удар, способный переломить кость или проломить череп.
Велеслава не стала его блокировать. Она сделала короткое, едва уловимое движение в сторону. Тяжелая палица Ратибора со свистом пронеслась в сантиметре от ее головы, увлекая его вперед по инерции. И в этот момент, когда он был максимально открыт и неустойчив, она нанесла короткий, тычковый удар торцом своей палицы ему в солнечное сплетение.
Воздух вылетел из легких Ратибора с хриплым стоном. В глазах потемнело, ноги подкосились. Он рухнул на колени, хватая ртом воздух, который не шел в горло.
Велеслава стояла над ним, тяжело дыша. На ее лице не было ни жалости, ни материнской нежности. Был лишь холодный огонь учителя.
– Сила – это ничто. Ярость – это ничто. Все это – дерьмо, если у тебя нет головы, – произнесла она жестко. – Твой первый любимый… Рогволод. Он был как ты. Сильный, как медведь. Храбрый, как волк. И такой же тупой.
Она опустила свою палицу.
– Мы стояли в щитовом строю у стен Переяславца. Греки лезли, как саранча. Их копья были длиннее наших. Рогволод рванулся из строя, как бешеный пес, чтобы достать одного знатного ублюдка в позолоченном шлеме. Он проломил ему череп своим топором… а через мгновение три копья пробили его насквозь. Одно вошло в горло. Он захлебнулся собственной кровью, глядя на меня. Он хотел что-то сказать, но из его рта только пузырилась алая пена.
Ратибор наконец смог вдохнуть. Он поднял голову и посмотрел на мать. В ее глазах стояла та древняя, неутихающая боль. Он не был сыном Рогволода. Он был сыном Радима, кожевника. Но дух Рогволода, его первого мужчины, с которым она делила походную койку и смертельный бой, жил в ее уроках.
– Он умер за свою глупость, – закончила Велеслава, ее голос стал глуше. – А я выжила, потому что не полезла за ним. Я осталась в строю. Я видела, как его тело топчут, как с него срывают доспехи, а я ничего не могла сделать. Понимаешь? Бой – это не потеха на празднике. Это грязная, кровавая работа. Здесь не выигрывают, здесь просто выживают. А для этого нужно быть хитрее, подлее и быстрее врага. А не сильнее.
Она протянула ему руку. Ратибор, все еще тяжело дыша, ухватился за нее. Ее хватка была железной. Она рывком подняла его на ноги.
– Еще раз, – скомандовала она, и в ее голосе не было и намека на усталость. – И если я снова увижу, что ты прешь вперед, как бык на бойне, я тебе эту палицу так в задницу засуну, что ты ею дышать будешь. А теперь – дерись!
И они снова сошлись. Но на этот раз в движениях Ратибора было меньше слепой ярости. В них начала появляться мысль. Он начал двигаться, уклоняться, искать бреши. Боль под ребрами и в груди была жестоким, но лучшим учителем. А над ними, в сгущающихся сумерках, молчаливо висел дух ее прошлого, пропитанный запахом степной полыни и пролитой крови.
Глава 4: Город гудит
За несколько дней до праздника Перуна Громовержца Новгород преобразился. Будничная, деловитая суета сменилась гулом иного рода – возбужденным, предвкушающим, пьянящим. Воздух, даже в Кожевенной слободе, стал другим. Смрад никуда не делся, но теперь сквозь него пробивались новые запахи: смолы от свежесрубленных досок для торговых рядов, печеного хлеба, пряного сбитня и хмельной медовухи, которой уже начали торговать из бочек, выкаченных прямо на улицы.
Торг на Ярославовом дворище распух, раскинув свои щупальца по всем прилегающим улочкам. Это был живой, ревущий, многоголосый зверь, в чреве которого смешались все племена и народы. По уши в грязи стояли длинные телеги, запряженные косматыми низкорослыми лошадьми. Из-за Волхова, с Торговой стороны, на лодках и плотах непрерывным потоком везли товар.
Ратибор, которого мать отправила продать несколько выделанных овчин и забрать должок с сапожника, протискивался сквозь толпу. Она обрушилась на него стеной звуков, запахов и цветов. Кряжистые, рыжебородые варяги в железных шлемах, пахнущие солью, морем и потом, громко переговаривались на своем гортанном языке, торгуясь за меха и рабов. Мелкие, юркие греки с маслянистыми глазами разложили на шелковых платках диковинные товары с юга: тонкие стеклянные бусы, переливающиеся всеми цветами радуги, острые специи в глиняных горшочках, чей аромат щекотал ноздри, и тонкие, изогнутые ножи из неведомой стали.
Крестьяне из окрестных деревень привезли кто что мог: горшки с медом, пахнущим луговыми травами, холщовые мешки с рожью и пшеницей, пучки сушеных грибов и ягод. Бабы в ярких, вышитых поневах предлагали домотканое полотно, а их мужья – простые, но крепкие изделия из дерева и бересты.
Ратибор проходил мимо рядов, где мясники рубили туши прямо на огромных плахах. Кровь стекала в грязь, смешиваясь с дождевой водой. Огромные свиные головы с застывшими стеклянными глазами взирали на суету с прилавков. В воздухе стоял тяжелый, сладковатый запах свежего мяса и требухи. Рядом торговали живой птицей: в тесных плетеных клетках бились куры, утки и гуси, создавая невообразимый гвалт.
В другом конце гудел скотный рынок. Мычали коровы, блеяли овцы. Мужики бесцеремонно разевали скотине пасти, проверяя зубы, щупали бока, оценивая упитанность, громко хлопали друг друга по рукам, заключая сделку, и тут же обмывали ее кружкой забористой браги.
Среди этого хаоса бродили гусляры. Слепой старик с белой, как лунь, бородой сидел на перевернутой бочке и, перебирая струны своих звончатых гуслей, пел старинную былину о Вольге и Микуле. Его высокий, надтреснутый голос тонул в общем реве, но люди останавливались, кидали ему медные монеты, слушая знакомые с детства строки о славных богатырях и древних временах.
Молодой парень, наоборот, играл что-то веселое, плясовое. Под его быструю, задорную музыку несколько пьяных мужиков, уже успевших отметить грядущий праздник, пошли вприсядку, взметая ногами грязь и вызывая хохот и одобрительные крики толпы.
Повсюду сновали дети, грязные, оборванные, с вечно голодными и хитрыми глазами. Они таскали с лотков все, что плохо лежало, путались под ногами, выпрашивали милостыню или просто глазели на диковинных заморских гостей и их товары.
А над всем этим, над шумом, гамом, грязью и праздничной суетой, возвышалось главное. На холме, за городом, уже устанавливали огромного, вытесанного из векового дуба идола Перуна. Городские плотники и добровольцы обтесывали его, украшая искусной резьбой. Лик бога был суров, в руке он сжимал стилизованную молнию, а в глазницы ему должны были вставить большие, отполированные рубины. Рядом с идолом уже складывали поленницу для будущего костра и рыли яму для жертвенного быка. Волхвы в белых одеждах ходили вокруг, шепча заклинания и окуривая место дымом священных трав.
Ратибор чувствовал эту первобытную, густую энергию праздника. Она проникала в самую кровь. Она обещала веселье, силу, забытье от тяжелых будней. Это был тот день, когда можно было помериться силой, выпить допьяна, съесть до отвала жареного на костре мяса и почувствовать себя частью чего-то большого и могучего – своего рода, своего города, своих богов.
Именно здесь, в сердце этого бурлящего котла, он понял, что сегодня, на празднике, он не будет просто зрителем. Сегодня он должен показать себя, свою силу. Не ради похвальбы, а чтобы доказать, прежде всего самому себе, что он – не просто сын кожевника, погрязший в грязи и вони, а мужчина, в чьих жилах течет кровь воинов. Мысли об уроках матери, о боли от ее ударов, смешались с гулом толпы. Сегодня эта боль должна была принести плоды.
Глава 5: Сын ростовщика
В то время как Ратибор пробивался сквозь плотные ряды торгашей, другая, куда более заметная фигура, двигалась сквозь толпу совершенно иначе. Люди расступались перед ним не от уважения, а от инстинктивной неприязни и толики страха, как расходятся воды перед носом драккара, который не собирается менять курс.
Это был Лют, единственный сын Горыни, самого известного и самого ненавидимого ростовщика в Новгороде.
Лют был невысок, но крепок и широк в плечах, как молодой бычок. Однако вся его стать была испорчена выражением самодовольства, навсегда застывшим на его пухлом, румяном лице. Он был одет с вызывающей роскошью: сафьяновые сапоги с загнутыми носами, алого цвета, расшитые серебряной нитью; шелковая рубаха византийской работы, просвечивающая сквозь тонкий летний кафтан из лучшего сукна. На толстых пальцах блестели перстни с яхонтами, а тяжелая серебряная гривна оттягивала мясистую шею. Он пах не потом и трудом, а дорогим привозным маслом и вином. За ним, стараясь не отставать, семенили два прихлебателя – тощие, вертлявые парни с бегающими глазками, всегда готовые поддакивать и смеяться его шуткам.
Лют не приценивался и не торговался. Он шел по ярмарке как хозяин, с презрительной ухмылкой разглядывая людей и товары. Он пришел сюда не за покупками, а за развлечением, и этим развлечением были чужие эмоции: зависть бедняков, подобострастие торговцев, которые надеялись на его щедрость, и робость девушек, на которых он бросал свои сальные взгляды.
Именно в этот момент его взгляд наткнулся на гончарный ряд. И не на горшки, а на ту, что их расставляла. Зоряна, по поручению отца, выставляла на прилавок лучшие образцы их ремесла: расписные крынки, гладкие миски, пузатые корчаги. Она была одета просто, в домотканый сарафан и белую рубаху, ее волосы были убраны под простой льняной повойник, но на фоне ярмарочной пестроты и грязи ее свежесть и чистота бросались в глаза, как полевой цветок среди крапивы.
Лют остановился, оценивающе оглядел ее с ног до головы, словно выбирал на рынке кобылу. Его прихлебатели захихикали.
– А ну, поглядите, какую ягодку в крапиве нашли! – громко, чтобы слышали все вокруг, произнес Лют. Он подошел к прилавку, взял в руки одну из расписных мисок, повертел ее в пальцах. – Горшками торгуешь, красавица?
Зоряна вздрогнула, услышав его голос. Она знала, кто это. Весь город знал Люта. Она опустила глаза и тихо ответила:
– Торгую, господин.
Слово «господин» явно польстило Люту. Он ухмыльнулся еще шире.
– Хороша работа, – сказал он, постучав по миске перстнем. – Но твои руки куда искуснее, чем эти черепки. Такие пальчики созданы не глину мять, а шелка перебирать да перстни носить.
Он бесцеремонно взял ее руку. Зоряна попыталась отдернуть ее, но его хватка была сильной, влажной и неприятной. Он начал разглядывать ее ладонь, испачканную подсохшей глиной, с парой свежих мозолей.
– Глядите-ка, трудится, пчелка, – сказал он своим дружкам, и те снова заржали. – Жаль такую красоту на глину тратить. Вот, держи. Куплю у тебя эту плошку.
Он вытащил из кошеля на поясе серебряную монету и швырнул ее на прилавок. Монета была куда дороже, чем стоила вся миска. Это была не плата, а демонстрация.
– Возьми, красавица, – продолжил он, не выпуская ее руки. – А вечером, как торг свернется, приходи за Медвяной мост. Я там с друзьями буду меды пить. И для тебя кубок найдется. И не только кубок. Может, и ожерелье жемчужное подарю. Что скажешь?
Его слова, произнесенные с похабной ухмылкой, были прямым и унизительным предложением. Вокруг них уже собиралась небольшая толпа. Кто-то смотрел с любопытством, кто-то – с осуждением, но никто не смел вмешаться. Ссориться с сыном Горыни было себе дороже.
Зоряна вспыхнула. Оскорбление было настолько явным, что кровь бросилась ей в лицо. Она рванула руку изо всех сил, и на этот раз ей удалось вырваться.
– Мои руки созданы для работы, а не для ваших утех, господин, – отчеканила она, глядя ему прямо в глаза. Ее голос дрожал, но в нем звучала сталь. – А горшки мои стоят ровно столько, сколько за них просят, и ни монетой больше.
Она взяла его серебряную монету и протянула ему обратно. Затем взяла с прилавка две мелкие медные монеты – настоящую цену миски – и положила их перед ним.
– Вот цена. А ваше серебро оставьте для тех, кто на него падок.
На мгновение на лице Люта отразилось изумление, которое тут же сменилось яростью. Его пухлые щеки побагровели. То, что какая-то нищая гончарка, дочь простого ремесленника, смеет ему отказывать, да еще и публично, было неслыханной дерзостью. Его прихлебатели замолчали, растерянно переглядываясь.
– Ты… ты что себе позволяешь, девка? – прошипел он. – Ты знаешь, кто я? Я могу твоего папашу-горшечника со всем его скарбом в долговую яму упрятать!
– Знаю, кто вы, – так же твердо ответила Зоряна. – Потому и говорю, что честь моя не продается. Ни за серебро, ни за жемчуга.
Она развернулась, подхватила корзину и, не глядя больше на него, пошла прочь, к отцу, который наблюдал за сценой с другого конца ряда с побелевшим от страха и гнева лицом.
Лют остался стоять, как оплеванный. Толпа вокруг начала тихонько расходиться, пряча усмешки. Он сжал кулаки, чувствуя, как внутри закипает злоба и унижение. Он, Лют Горынич, был отвергнут. Какой-то грязной девкой.
– Посмотрим, как ты запоешь, когда твой батюшка к моему на поклон приползет, – процедил он ей вслед, но уже не так громко. Он сгреб с прилавка свои деньги и с силой швырнул миску на землю. Она разлетелась на мелкие черепки. – Дрянь… Все вы дрянь!
Развернувшись, он зло пошел прочь, расталкивая людей. Но лицо Зоряны, ее гордый и презрительный взгляд, отпечатались в его памяти. Он не простит этого унижения. Никогда.
Глава 6: Стеношный бой
Когда солнце перевалило за полдень, изрядно подогрев хмелем и брагой головы новгородцев, гул ярмарки сместился. Главное действо начиналось на широком, вытоптанном лугу у городской стены. Туда, словно река в половодье, стекался народ. Мужики и парни, торговцы и ремесленники, свободные и холопы – все шли смотреть на потеху, что была слаще любого меда и желаннее любой девки. Начинался стеношный бой.
Это было не просто развлечение. Это был древний ритуал, выход для накопившейся ярости, проверка мужества и силы. Город делился надвое. Торговая сторона шла против Софийской, конец против конца, улица против улицы. Обиды, копившиеся год, споры за межу или долги – все должно было разрешиться здесь, в яростной, кровавой схватке.
Правила были просты и жестоки. Бились голыми кулаками. Зажимать в кулаке ничего было нельзя – ни свинчатку, ни камень, – но волхвы, присматривающие за боем, не могли уследить за каждым, и хитрые уловки были в чести. Бить лежачего или того, кто сдался и присел на землю, считалось подлостью, но в пылу схватки на это правило часто плевали. Цель была одна: сбить противника с ног, прорвать его «стену» и заставить бежать с поля. Победивший конец целый год ходил с гордо поднятой головой, а проигравший – зализывал раны и копил злобу до следующего праздника.
Ратибор пришел сюда со своими друзьями – двумя такими же молодыми парнями с их слободы, Михеем и Остапом. Михей, жилистый и быстрый, работал у плотников. Остап, невысокий, но коренастый, как вросший в землю гриб-боровик, помогал отцу в кузне. Оба были взбудоражены, их глаза горели нездоровым огнем.
– Ну что, Ратибор, покажем торговым выскочкам, где раки зимуют? – басил Остап, разминая могучие плечи. – А то ходят, носы задравши, будто не навозом у них под ногами, а персидскими коврами устлано.
– Главное, в первую сшибку не лезть, – советовал рассудительный Михей. – Пусть сначала самые буйные себе лбы порасшибают, а мы уж потом.
Ратибор молчал, вглядываясь в толпу. Воздух гудел, как растревоженный улей. Он был наэлектризован тестостероном, запахом пота и перегара. Мужики и парни снимали верхнюю одежду, оставаясь в одних портах. Они разминали кулаки, хлопали друг друга по спинам, выкрикивали оскорбления в адрес противников, стоявших на другом конце поля. Женщины и старики облепили окрестные холмы и валы, кричали, подбадривали, делали ставки.
С обеих сторон начали выстраиваться «стены» – плотные шеренги бойцов в три-четыре ряда. Впереди стояли самые опытные и сильные – «надежи», столпы, на которых держался весь строй. За ними – молодежь, горячая, но неопытная. Цель была – давить, теснить, выдергивать из вражеского строя по одному и калечить, пока стена не дрогнет и не рассыплется.
Взгляд Ратибора скользнул по рядам бойцов с Торговой стороны. И тут он увидел его. Лют стоял в первом ряду, в окружении своих прихлебателей и дюжины нанятых мордоворотов-грузчиков из порта. Он вел себя вызывающе: смеялся, показывал противникам непристойные жесты, явно ощущая себя предводителем. Сама мысль, что этот холеный, надутый индюк будет представлять Торговую сторону, разожгла в Ратиборе холодную ярость.
Рядом, в толпе зрителей, он мельком увидел Зоряну с родителями. Она с тревогой смотрела на поле. Их взгляды на секунду встретились. В ее глазах он прочел страх и… мольбу? Чтобы он не лез. Но было уже поздно. Кровь в его жилах закипала, уроки матери эхом звучали в голове.
– Я иду, – коротко бросил он друзьям.
– Куда? В первый ряд? – ахнул Михей. – Убьют!
– Пусть попробуют, – огрызнулся Ратибор, снимая рубаху.
Он протиснулся вперед, вставая в первую шеренгу Софийской стороны. Рядом с ним стояли матерые мужики – кузнецы с руками-колотушками, мясники, привыкшие к виду крови, плотники, чьи кулаки были тверже дерева. Они смерили его, молодого и незнакомого, оценивающими взглядами.
– С Кожевенной, что ли, парень? – пробасил здоровенный, бородатый мужик с перебитым носом. – Силенки-то хватит?
– Проверим, – ровно ответил Ратибор, вставая в стойку, как учила мать: ноги чуть согнуты, вес распределен, руки прикрывают голову и корпус.
Волхв, стоявший в центре поля, поднял вверх посох. Гул на мгновение стих.
– Боги видят нас! – проревел он. – Перун смотрит! Силу свою покажите, да чести не теряйте! Бейся, Новгород!
Посох опустился.
И на долю секунды повисла мертвая тишина. А потом поле взорвалось. С ревом, который, казалось, мог обрушить городские стены, две лавины людей ринулись навстречу друг другу.
Земля содрогнулась от топота сотен ног.
Схватка началась.
Глава 7: Первый круг
Столкновение было подобно удару двух разъяренных быков. Глухой, влажный звук сотен тел, врезающихся друг в друга. Хруст костей, крики ярости и боли смешались в единый, неразборчивый рев. Строй мгновенно смешался, превратившись в бурлящую, отчаянно дерущуюся массу.
Ратибор ожидал хаоса, но реальность оказалась гуще, страшнее и пьянящее. Его тут же зажали, толкая и давя со всех сторон. В нос ударил густой запах пота, перегара и страха. Чей-то кулак – твердый, как камень, – тут же прилетел ему в скулу. Боль вспыхнула звездочками в глазах, голова мотнулась назад. Но уроки матери сработали быстрее разума. Инстинктивно он не отшатнулся, а наоборот, шагнул вперед, сокращая дистанцию.
Перед ним был верзила-торговец с красным, распаренным лицом и налитыми кровью глазами. Он замахнулся для нового, размашистого удара, широко открываясь. Это была ошибка, которую Велеслава вбивала из него палкой неделями. Ратибор нырнул под его руку, и его собственный кулак, выкованный годами тяжелого труда, коротко и жестко врезался противнику под дых.
Воздух вышел из легких торговца с громким, свистящим хрипом. Глаза его выкатились, лицо из красного стало багрово-синим. Он согнулся пополам, хватая ртом воздух, как выброшенная на берег рыба. Ратибор не дал ему опомниться. Второй удар, точно такой же, но уже в солнечное сплетение. А третий – короткий, боковой, ребром ладони, как учила мать, – в основание шеи. Верзила молча рухнул в грязь, и толпа тут же поглотила его, переступая через неподвижное тело.
Ратибор не успел перевести дух. Сбоку на него налетел еще один, помоложе, с диким оскалом на лице. Он был быстр, но Ратибор уже вошел в ритм боя. Он не думал, он действовал. Ушел с линии атаки, заставив парня промахнуться. Инерция пронесла того мимо. Ратибор развернулся и, вложив в удар вес всего тела, врезал ему кулаком в ухо. Раздался мокрый, чавкающий звук. Парень взвыл, схватившись за голову, и повалился на колени, дезориентированный. Ему тут же добавил ногой в лицо кто-то из своих же, спеша прорваться дальше.
Кровь стучала в висках Ратибора. Боль в скуле превратилась в тупой, горячий пульс, но он ее почти не замечал. Вокруг творился ад. Он видел, как его соседа, бородатого мужика, сбили с ног и двое противников принялись остервенело пинать его по ребрам, пока он не перестал двигаться. Видел, как его другу Михею разбили в кровь нос, но тот, плюясь кровью, продолжал яростно махать кулаками.
Это был не поединок, а мясорубка. Но в этом кровавом хаосе Ратибор чувствовал себя странно… живым. Каждый удар, каждый уворот, каждое движение были наполнены смыслом. Здесь не было времени на сомнения, на мысли о долгах или о вони кожевенного двора. Была лишь одна цель – устоять на ногах. И заставить упасть того, кто стоит напротив.
Третий противник был опытнее. Кряжистый, низкорослый, он не лез напролом, а действовал хитро, пытаясь подсечь Ратибору ноги. Он пропустил два удара Ратибора, но выдержал их, лишь поморщившись. А потом, выждав момент, когда Ратибор замахнулся, сам ударил снизу, метя в пах.
Это был грязный, запрещенный прием. Ратибор в последний момент успел развернуться, и удар пришелся в бедро. Нога онемела от острой боли, он пошатнулся. Противник тут же ринулся на него, целясь головой в живот, как баран. Ратибор упал бы, если бы не вспомнил еще один материнский урок: "Если тебя валят, падай вместе с ним, но сверху".
Он не стал сопротивляться, а наоборот, подался вперед, обхватив голову противника могучими руками. Они рухнули на землю вместе, но Ратибор оказался сверху. Он не дал врагу опомниться. Оседлав его, он со всей силы обрушил свой локоть ему на переносицу. Раздался отвратительный хруст. Из-под его локтя хлынула темная, густая кровь. Мужик под ним обмяк, лишь судорожно захрипев.
Ратибор вскочил на ноги. Он был весь в грязи и чужой крови. Лицо горело, сбитые костяшки на кулаках саднели, нога все еще болела, но он стоял. Вокруг него на мгновение образовалось пустое пространство. Бойцы Торговой стороны, видевшие, как он хладнокровно расправился с тремя, теперь обходили его стороной, предпочитая нападать на более легкую добычу.
Он стоял, тяжело дыша, и искал глазами главную цель. И нашел. В центре свалки, в окружении своих телохранителей, которые расчищали ему дорогу, стоял Лют. Сам он почти не дрался, лишь изредка наносил подлые удары уже ослабевшим или упавшим противникам. Он самодовольно улыбался, видя, как его сторона теснит Софийскую.
Их взгляды встретились. Улыбка сползла с лица Люта, сменившись выражением злобы и узнавания.
В этот момент для Ратибора стеношный бой перестал быть общей потехой. Он стал личным. И у него была только одна цель – добраться до сына ростовщика.
Глава 8: Роковой удар
Пробиться к Люту было все равно что плыть против течения в бурной реке. Его охраняли, как княжьего сына. Два дюжих портовых грузчика, похожие на медведей-шатунов, стояли по бокам, отшвыривая любого, кто пытался приблизиться к их нанимателю. Но Ратибор уже не видел никого, кроме своей цели. Холодная ярость, что учила его сдерживать мать, сменилась горячей, первобытной ненавистью.
Он ринулся вперед, расталкивая своих и чужих. Один из телохранителей Люта шагнул ему навстречу, выставив вперед кулак размером с добрую тыкву. Ратибор не стал вступать в открытый обмен ударами. Он нырнул под руку верзилы, ударил его коленом в незащищенный бок, под ребра, а когда тот согнулся, схватил его за волосы и со всей силы приложил лицом о свое же колено. Раздался хруст ломающегося носа, и телохранитель, воя и заливаясь кровью, осел на землю.
Второй охранник взревел и бросился мстить за товарища. Но Ратибор уже проскочил мимо, оставляя его разбираться со своими же, подоспевшими на помощь парнями. Путь был свободен.
Лют стоял в нескольких шагах от него. Он не выглядел испуганным, скорее, разъяренным, что какой-то смерд посмел прорвать его заслон. На его лице играла презрительная, злая усмешка.
– А, кожевенный выродок! – выплюнул он, сплевывая на землю. – Решил и здесь свою вонь распространить? Что, мамка отпустила от сиськи? Или пришел добавки попросить за свою шлюху-гончарку?
Каждое слово было как удар хлыста. Упоминание Зоряны, брошенное как грязное оскорбление на потеху толпе, сорвало последнюю заслонку в душе Ратибора. Весь мир сузился до одной точки – до ненавистного, ухмыляющегося лица напротив. Все уроки матери о холодном расчете вылетели из головы. Остались только ее слова о ярости.
– Она тебе не по зубам, гнида, – прорычал Ратибор, наступая.
– Ошибаешься, нищеброд, – оскалился Лют. – Очень скоро она будет по зубам мне и моим друзьям. Когда ее папаша приползет к моему отцу за долгами, я заберу ее просто так, за красивые глазки. И сделаю с ней все, что захочу. А ты будешь рядом стоять и смотреть. И даже пикнуть не посмеешь, потому что ты – никто. Пыль под моими новыми сапогами.
Он сделал роковую ошибку. Вместо того чтобы драться, он говорил. Он наслаждался своим превосходством, упивался унижением Ратибора. Он видел, как потемнели глаза его противника, как заходили желваки на его скулах, и это доставляло ему удовольствие.
А потом он увидел кулак.
Ратибор не кричал. Он не делал никаких лишних движений. Вся его сила, вся ярость, все унижение его семьи, весь тяжелый труд, весь смрад кожевенной ямы – все это было вложено в один-единственный, короткий и страшный удар.
Это не был размашистый удар бойца. Это был удар молота по наковальне.
Кулак врезался Люту точно в челюсть.
Звук был ужасен. Громкий, мокрый хруст, который, казалось, услышали все на поле. Голова Люта дернулась назад с такой силой, что хрустнули шейные позвонки. Его самодовольная ухмылка на мгновение застыла, а потом лицо исказилось от боли и изумления. Изо рта, смешиваясь со слюной, брызнула кровь. Вместе с ней на землю вылетел белый осколок – передний зуб с окровавленным корнем.
Глаза Люта закатились. Он не кричал, он просто обмяк, как тряпичная кукла, и рухнул на спину в грязь, даже не попытавшись выставить руки. Он лежал неподвижно, с открытым ртом, из которого текла струйка крови, обнажая черную дыру на месте выбитого зуба.
На мгновение вокруг них воцарилась тишина. Все, кто был рядом, замерли, глядя на распростертое тело сына ростовщика и на Ратибора, который стоял над ним, тяжело дыша. Его кулак, которым он нанес удар, горел огнем, костяшки были разбиты в кровь.
А потом кто-то из Софийской стороны заорал:
– Торговых надежа упал! Бей их!
И этот крик словно прорвал плотину. Стена Торговой стороны, потеряв своего пусть и никчемного, но символического предводителя, дрогнула. Софийские с удвоенной яростью ринулись вперед. Бой превратился в избиение.
Ратибор не участвовал в этом. Он стоял и смотрел на Люта, чувствуя, как горячая волна триумфа сменяется холодным, леденящим осознанием.
Он, Ратибор, сын простого кожевника, ударил Люта, сына всемогущего Горыни.
И этот удар будет стоить ему очень, очень дорого.
Глава 9: Затишье перед бурей
Праздник ревел до поздней ночи. Софийская сторона праздновала победу. Горели костры, жарились туши жертвенных животных, рекой лилась медовуха. Победителей качали на руках, их разбитые лица и окровавленные кулаки были предметом гордости. Ратибора хлопали по плечу, наливали ему полную чашу браги, называли героем. Но он почти не чувствовал вкуса ни хмельного напитка, ни победы.
Он ушел с гулянки одним из первых, оставив друзей у костра. Ночь была теплой, пахнущей дымом и травами, но Ратибор ощущал лишь могильный холод, подступающий к сердцу. Путь домой, в их смрадную слободу, казался бесконечным. Каждый шаг отдавался болью в разбитых костяшках и гудением в голове. Но самая сильная боль была не в теле. Это был страх – липкий, незнакомый. Страх не за себя, а за мать, за их дом, за все то хрупкое, что еще оставалось от их жизни.
Когда он тихонько отворил калитку, Велеслава уже ждала его. Она сидела на крыльце, и в свете тусклой луны ее лицо казалось высеченным из серого камня. Она не спала. Она все знала. В Новгороде новости, особенно такие, разлетались быстрее степного пожара.
Она молча осмотрела его с ног до головы: разбитая скула, распухшая рука, одежда в грязи и чужой крови. В ее глазах не было ни упрека, ни гордости. Лишь глубокая, тяжелая усталость и затаенная тревога.
– Цел? – коротко спросила она. Голос был ровный, без эмоций.
– Цел, – так же коротко ответил Ратибор.
– А он?
Ратибор сглотнул.
– Живой. Зуба нет.
Велеслава медленно кивнула.
– Один зуб, – произнесла она в тишину. – Боги, как дорого нам может стоить этот один поганый зуб…
Она поднялась и вошла в дом, жестом велев ему следовать за собой. Внутри она зажгла лучину. Достала из ларя чистую ветошь и ведро с водой, в которое плеснула отвар ромашки, всегда стоявший у нее наготове. Без лишних слов она начала промывать его ссадины. Ее прикосновения были жесткими, деловитыми, как у знахарки, а не матери. Но в этой грубоватой заботе было больше любви, чем в тысяче ласковых слов.
– Я говорила тебе – голова, – тихо сказала она, обрабатывая его разбитые костяшки. Он зашипел от боли, когда отвар попал в раны. – Я говорила – держи ярость на цепи. Но ты, как Рогволод. Такой же глупый бык, который видит только красную тряпку.
– Он оскорбил… – начал было Ратибор, но она его перебила.
– Мне плевать, что он сказал! Горыня-ростовщик не станет слушать, кто и кого оскорбил. Он видит только одно: его отродье валяется в грязи, а сын кожевника стоит над ним. И этого он не простит. Никогда.
В ее голосе прозвучали нотки безнадежности. Она видела десятки подобных историй в своей походной жизни. Сильные мира сего не прощали обид, нанесенных им простыми людьми. Расплата всегда была несоизмеримо жестокой.
– Что теперь будет, мама? – впервые за долгое время Ратибор почувствовал себя не сильным бойцом, а маленьким мальчиком.
Велеслава закончила перевязку, крепко затянув узел.
– Теперь? Теперь мы будем ждать. Утром они придут. А мы будем готовы. Иди спать. Ночь будет короткой.
Ратибор лег на свою лавку, но сон не шел. Он лежал с открытыми глазами, глядя в темный потолок. Каждая трещинка на нем была знакома с детства. Он родился в этом доме. Здесь умер его отец. И мысль, что они могут потерять его, была острее ножа.
Вдруг он услышал тихий-тихий скрип. Кто-то был во дворе. Он напрягся, рука сама потянулась к тяжелой кочерге, стоявшей у печи. Но это был не враг.
В щель приоткрытой двери просунулась маленькая глиняная баночка, а за ней – бледное, испуганное лицо Зоряны. Ее глаза в полумраке казались огромными. Она была босая, в одной ночной рубахе, накинув на плечи старый отцовский кожух.
Она знаком показала ему молчать и на цыпочках прокралась к его лавке. От нее пахло ночной прохладой, глиной и чем-то еще, незнакомым и волнующим – запахом ее кожи, ее волос.
– Ты как? – прошептала она так тихо, что он едва расслышал. – Я видела… все видела. Это было страшно.
– Живой, – хрипло ответил он, садясь.
– Вот, – она протянула ему баночку. – Это мазь. Бабушка моя делала. От ушибов и синяков. С живокостом и медвежьим жиром. Помогает.
Ее пальцы, прохладные и дрожащие, на мгновение коснулись его перевязанной руки. Ратибор снова ощутил тот же удар, что и у колодца, только в тысячу раз сильнее.
– Ты не должен был… из-за меня, – прошептала она, и в ее голосе прозвучали слезы. – Теперь… теперь будут проблемы. Отец боится. Он говорит, Горыня нас всех со свету сживет.
– Не из-за тебя, – глухо ответил Ратибор, хотя сам знал, что это неправда. – Он получил по заслугам.
Зоряна подняла на него глаза, полные тревоги и восхищения.
– Ты был такой… сильный. Как медведь.
Она подалась чуть вперед. На мгновение ему показалось, что она хочет его поцеловать. Сердце заколотилось где-то в горле. Но в соседней комнате скрипнула лавка – Велеслава ворочалась во сне.
Зоряна испуганно отпрянула.
– Мне пора. Мажь руку. Пожалуйста, – прошептала она и так же бесшумно, как и появилась, выскользнула за дверь.
Ратибор остался сидеть один в тишине. В руках у него была маленькая, еще теплая от ее ладоней, глиняная баночка. Он открыл ее. Резкий, травяной запах мази ударил в нос, перебивая привычный смрад их дома. Этот запах был запахом другого мира – чистого, теплого, нежного. И сейчас, в преддверии надвигающейся беды, этот маленький, хрупкий подарок казался ему дороже всех сокровищ на свете.
Глава 10: Гости, которых не ждали
Утро следующего дня было обманчиво тихим. Город отсыпался после бурного праздника. Улицы были пустынны, лишь кое-где валялись пьяные тела, которых еще не успели подобрать родственники. Воздух был тяжелым и пах вчерашним перегаром, прокисшей брагой и дымом догоревших костров.
В доме Ратибора тишина была иной – звенящей, напряженной. Велеслава с самого рассвета молча точила старый мясницкий нож, и скрежет стали о точильный камень был единственным звуком, нарушавшим молчание. Ратибор сидел за столом, почти не притронувшись к скудному завтраку – куску вчерашнего хлеба и кружке кваса. Мазь, которую принесла Зоряна, приятно холодила распухшую скулу, но не могла унять тревогу, сжимавшую внутренности холодным обручем. Он ждал. Они оба ждали.
И дождались.
Сначала послышался глухой, размеренный топот нескольких пар тяжелых сапог. Он приближался, становился все громче, и было в этом звуке что-то неумолимое, как в поступи судьбы. Топот остановился прямо у их ворот. Скрипнула петля, и на пороге их двора появились гости.
Их было пятеро, и от одного их вида хотелось съежиться и вжаться в стену.
Впереди шел сам Горыня. Ростовщик не был похож на своего сына. Высокий, костлявый, с редкой седой бороденкой и глубоко посаженными, бесцветными глазками, он напоминал старого голодного стервятника. На нем был длинный кафтан из дорогого, но неяркого темного сукна – он не кичился богатством, он и был богатством, вернее, его темной, паучьей изнанкой. Власть его была не в мышцах, а в долговых грамотах, что хранились в его сундуках и держали в кабале половину новгородских ремесленников. Лицо его было лишено всяких эмоций, словно вырезанное из высохшего дерева.
Рядом с ним, чуть позади, стоял Лют. Его вид был одновременно и жалким, и злобным. Нижняя губа распухла до невероятных размеров и приобрела синюшно-фиолетовый оттенок. На месте выбитого зуба чернела дыра, из-за которой он не мог толком закрыть рот и слегка пришепетывал. В глазах его плескалась неприкрытая ненависть и жажда мести. Он смотрел на Ратибора так, словно хотел испепелить его на месте.
За их спинами, перекрывая выход, стояли трое. Это были не городские дружинники, а наемники Горыни – здоровенные, угрюмые мужики с лицами, обезображенными шрамами и оспой. В их пустых глазах не было ничего, кроме готовности выполнить любой приказ. За поясами у них торчали рукояти тяжелых боевых ножей, а в руках они держали короткие дубовые палицы, окованные железом. От них веяло опасностью – не той, что на праздничной потехе, а настоящей, смертельной.
Велеслава медленно отложила нож на стол, но так, чтобы рукоять была под рукой. Она встала, выходя навстречу гостям. Ратибор поднялся следом, вставая за ее плечом.
– Чем обязаны такой чести, Горыня? – голос Велеславы был ровным и холодным, как лед на Волхове в лютую зиму. – Или пришел в наш скромный дом милостыню просить?
Горыня даже не удостоил ее взглядом. Его бесцветные глазки были прикованы к Ратибору.
– Уйми свою бабу, щенок, – проскрипел он, обращаясь к Ратибору, словно Велеславы и не было рядом. – Или я велю своим людям заткнуть ей рот. Мы пришли говорить с тобой. Вернее, не говорить.
Он сделал едва заметный знак рукой. Лют шагнул вперед, ткнув пальцем в Ратибора.
– Вот он, батя! – прошамкал он, брызгая слюной. – Он меня покалечил! На людях! Опозорил!
– Я вижу, – все так же безэмоционально ответил Горыня. Он медленно перевел взгляд на Велеславу. – Твой выродок нанес ущерб моему сыну. Его лицо теперь обезображено. Его честь растоптана. За это нужно платить.
– Стеношный бой – честная потеха, – отрезала Велеслава. – Ваш сын сам вышел на поле. Мог и голову сложить, и никто бы слова не сказал. Радуйтесь, что ушел на своих ногах.
Горыня криво усмехнулся. Это была не улыбка, а просто движение мышц на мертвом лице.
– Честная потеха – для честных людей. А не для нищих скорняков, которые поднимают руку на тех, кто выше их родом и достатком. Ты думаешь, я пришел сюда из-за какого-то зуба? Ты глупа, женщина. Ваш род давно мозолит мне глаза. И твой щенок вчера дал мне повод.
Он снова посмотрел на Ратибора.
– Я мог бы велеть своим людям переломать тебе все кости прямо здесь. И никто в городе не вступился бы за тебя. Но я – человек порядка. И действовать буду по закону.
С этими словами он медленно, словно совершая священный ритуал, достал из-за пазухи свернутый в трубку свиток пергамента. Он развернул его, и у Ратибора внутри все похолодело. Это была долговая грамота.
Глава 11: Долговая грамота
Горыня держал пергамент двумя руками, растянув его, чтобы все могли видеть. Документ был из дорогого, хорошо выделанного пергамента, а не из дешевой бересты, которой пользовались простые люди. Каждая буква была выведена ровно и четко чернилами на основе сажи и дубовых орешков. Внизу стояли кресты – знаки свидетелей – и, самое страшное, жирная, темная клякса от восковой печати. Это был не просто клочок бумаги. Это была цепь, которую ростовщик медленно накидывал им на шею.
Ветер, гулявший по двору, трепал край пергамента. Он издавал сухой, шуршащий звук. Звук их приговора.
Ратибор не мог оторвать взгляд от документа. Он ничего не понимал в грамоте, но чувствовал исходящую от этого свитка темную, удушающую силу. Лют смотрел на него с торжествующей, злобной ухмылкой, предвкушая унижение своего обидчика. Наемники позади стояли неподвижно, как каменные истуканы, их присутствие давило, делая воздух во дворе тяжелым и спертым.
Но Велеслава смотрела не на грамоту. Она смотрела в бесцветные, пустые глаза Горыни. В ее взгляде смешались недоверие, гнев и затаенный страх.
– Что это? – спросила она глухо.
– Ты что, грамоте не разумеешь, женщина? – проскрипел ростовщик с издевкой. – Хотя о чем я. Откуда тебе. Это – долговая расписка. Подписанная твоим покойным мужем, Радимом. Благослови его Перун в загробном мире.
Он шагнул вперед, почти ткнув пергаментом в лицо Велеславе.
– Ровно за три месяца до того, как его унесла моровая язва, твой муж пришел ко мне. На коленях почти стоял, умолял дать в долг. Деньги, говорил, нужны позарез, для важного дела. Обещал вернуть через полгода с добрым набегом. Я человек добрый, вошел в его положение. И дал. Вот, тут все записано. Десять гривен серебром.
Десять гривен.
При этих словах у Велеславы перехватило дыхание. Это была колоссальная сумма. За такие деньги можно было купить небольшой дом с двором или пару хороших тягловых лошадей. Всю свою жизнь они с Радимом не держали в руках и десятой доли такого богатства. Мысль, что ее муж, человек осторожный, прижимистый, мог взять в долг такие деньжищи, казалась чудовищной, абсурдной.
– Ты лжешь, – выдохнула она. В ее голосе зазвенела сталь. – Радим никогда бы не взял в долг такую сумму. Мы жили скромно, нам хватало. А если бы и взял – он бы сказал мне! Он ничего от меня не таил!
– Мужчины часто не делятся своими делами с бабами, – процедил Горыня. – Особенно когда дело рисковое. Видать, хотел тебе сюрприз сделать, озолотить. Да вот, не успел. Боги решили иначе.
Он свернул грамоту.
– Он ничего не говорил мне, – упрямо повторила Велеслава, ее лицо стало бледным, ноздри раздувались от гнева. Она посмотрела на Ратибора, словно ища поддержки. – Твой отец… он никогда… Он каждую монету считал. Мы копили на новую крышу, помнишь? Он бы не стал…
Она говорила это скорее себе, чем им. Пыталась убедить себя, что это какой-то злой, страшный сон. Она вспоминала последние месяцы жизни мужа. Был ли он задумчив? Да, пожалуй. Иногда уходил куда-то вечером. Она думала, к друзьям, в корчму. Неужели он в тайне от нее ввязался в какую-то авантюру, о которой она даже не подозревала?
Ратибор тоже пытался вспомнить. Отец в последние месяцы действительно был каким-то другим. Более молчаливым. Часто сидел дотемна, что-то чертил углем на дощечке, а когда Ратибор входил, быстро стирал. На все вопросы отвечал уклончиво: "Не твоего ума дело, сынок, вырастешь – поймешь". Тогда Ратибору казалось, что это просто от усталости. А теперь… теперь эти воспоминания обрели зловещий, страшный смысл.
– Ложь, – снова, уже не так уверенно, повторила Велеслава. – Это подлог. Ты мог сам написать эту бумажку.
– Мог, – согласился Горыня, и от этого его спокойствия по коже пробегал мороз. – Но я этого не делал. Вот, видишь кресты? Это свидетели. Тимофей-скорняк и Прохор-перевозчик. Оба готовы на Вече подтвердить, что Радим взял у меня деньги и поставил свою руку под этой грамотой. Если хочешь, можем прямо сейчас пойти к посаднику. Но боюсь, тебе это обойдется еще дороже.
Он знал, что делал. Он упоминал имена людей, которых Велеслава знала. Тимофей действительно был другом Радима. Неужели… неужели друг мог предать? Или же… все это правда?
Шок Велеславы был глубок и страшен. В один миг весь ее мир, все ее представления о муже, о их совместной жизни, пошатнулись. Горечь утраты смешалась с горечью обмана. Он не доверял ей. Он скрыл от нее что-то важное. Это ранило ее сильнее, чем любой удар.
Она смотрела на непроницаемое лицо Горыни, на торжествующую рожу его сына, и понимала – они в ловушке. Это было не просто требование денег. Это была месть. Месть, поданная холодной, как язык змеи. И зуб, выбитый Ратибором, был лишь предлогом, спусковым крючком для капкана, который был приготовлен для них уже давно.
Глава 12: Цена зуба
Горыня выдержал паузу, давая яду своего откровения проникнуть в кровь Велеславы и Ратибора. Он наслаждался их растерянностью, их бледными лицами, их сбитым дыханием. Это было слаще любого серебра.
– Срок возврата, – продолжил он своим ровным, скрипучим голосом, постукивая свитком по ладони, – должен был наступить через три месяца. Но есть в нашем новгородском законе, в Правде Ярославовой, одна занятная статья. Если должник умирает, не оставив наследства, долг прощается. Но если наследство есть – сын ли, дом ли, дело ли отцовское, – то и долг переходит на него.
Он медленно, с наслаждением обвел взглядом их двор: чаны с гниющей жижей, недоделанные шкуры, старый, покосившийся дом.
– У твоего мужа, женщина, есть наследство. Вот он, – он кивнул на Ратибора, – бугай, который уже умеет калечить людей. И дело его живет. И дом стоит. Значит, и долг теперь ваш.
Велеслава молчала. Шок сменялся холодной, трезвой яростью. Она поняла, что спорить бесполезно. Правда это или ложь, уже не имело значения. У Горыни была грамота, были свидетели, были деньги и власть. А у них не было ничего.
– У нас нет таких денег, Горыня, – сказала она твердо. Ее голос больше не дрожал. – Мы едва сводим концы с концами. Ты это знаешь лучше других.
– Знаю, – равнодушно подтвердил ростовщик. – И, по правде сказать, мне было бы вас даже жаль. Я бы подождал. Может быть. Если бы не одно обстоятельство.
Он положил костлявую руку на плечо Люта.
– Твой отпрыск вчера обезобразил моего сына. На глазах у всего города. Он унизил мой род. И теперь о милости речи быть не может. Долг должен быть уплачен. Немедленно. Все десять гривен. Плюс набег, как договаривались.
Он сделал шаг вперед, вторгаясь в их личное пространство, и от него пахнуло затхлой сыростью, как из склепа. Его бесцветные глаза впились в Ратибора.
– Это цена одного зуба, щенок. Запомни ее на всю жизнь. Каждый раз, когда будешь поднимать кулак на того, кто стоит выше тебя, вспоминай этот день.
Лют, почувствовав поддержку отца, осмелел. Он шагнул вперед, становясь рядом с Горыней.
– Они не заплатят, батя, – прошамкал он злорадно. – У них и мыши в доме от голода повесились. Я знаю, что нужно делать. Отдай их мне. Я… я заставлю его заплатить.
Он смотрел на Ратибора с такой неприкрытой ненавистью, что казалось, она обрела физическую плотность. Было ясно, о какой «плате» он говорит. Его руки сжимались в кулаки. Он жаждал крови, жаждал увидеть Ратибора на коленях, сломленным, униженным, истекающим кровью под палицами наемников. Он хотел не просто отмщения. Он хотел пытки.
Велеслава инстинктивно шагнула вперед, заслоняя собой сына. В этот момент она снова стала воительницей. Ее тело напряглось, готовое к прыжку, рука сама скользнула к ножу, оставленному на столе.
– Только тронь его, мразь, – прошипела она, и в ее голосе заклокотали такие низкие, звериные ноты, что даже наемники за спиной Горыни шевельнулись. – Я выпущу твои кишки прямо здесь, и мне плевать, что со мной потом будет. Ты хоть представляешь, падальщик, что я могу сделать с тобой и с твоим недомерком, пока твои псы добегут до меня?
Атмосфера во дворе стала густой, как смола. Пахло кровью. Лют отшатнулся от неожиданной ярости женщины, его лицо побледнело. Он видел, что она не шутит. Он видел в ее глазах смерть.
Но Горыня остался невозмутим. Он лишь поднял руку, останавливая сына.
– Тихо, Лют. Не нужно пачкать руки об эту грязь, – сказал он спокойно. Он снова обратился к Велеславе, и в его голосе появились новые, елейные нотки, которые были страшнее любой угрозы. – Не нужно угроз, женщина. Я же сказал, я – человек закона. Я не хочу крови. Я хочу свои деньги. Но раз у вас их нет… придется найти другой способ уплаты. У меня есть предложение. Очень… справедливое.
Глава 13: Изгнание
"Справедливое предложение" Горыни прозвучало тихо, почти буднично, но от этих слов в жилах стыла кровь.
– Ваш дом, – сказал он, обводя рукой их убогое жилище. – И двор со всем, что в нем есть. Я забираю его.
Велеслава застыла. Это было хуже, чем требование денег. Дом, доставшийся им от деда Радима, дом, где родился Ратибор, где умер ее муж, был единственным, что у них оставалось. Это были их корни, их последнее убежище в этом жестоком мире.
– Ты не можешь, – выдохнула она. – Закон не позволяет забирать единственное жилище.
– Закон, женщина, – криво усмехнулся Горыня, – как дышло: куда повернешь, туда и вышло. Я не забираю его навсегда. Пока. Я даю вам срок. Два года. Ровно столько, сколько нужно, чтобы твой щенок стал мужчиной и смог заработать на уплату долга. Найдите эти десять гривен серебром, принесите мне, и я верну вам вашу конуру.
Он сделал паузу, давая им осознать всю глубину его "милосердия".
– А если через два года денег не будет… что ж, тогда считайте, что дом перешел в мою собственность. Окончательно. Как плата за моральный ущерб и проценты, что набежали.
Это был не выход. Это была медленная, мучительная казнь. Горыня прекрасно понимал, что для нищих кожевников, лишившихся и дома, и мастерской, собрать такую сумму за два года – невозможно. Это было все равно что предложить утопающему выпить море. Он не давал им шанса. Он обрекал их на два года скитаний и унижений, после которых их ждала та же самая долговая яма.
– Мой сын Лют пока поживет здесь, – добавил Горыня, и это было последним, самым ядовитым плевком им в лицо. – Ему нужно прийти в себя после… инцидента. Свежий воздух слободы пойдет ему на пользу. Он присмотрит за вашим имуществом.
Лют осклабился, обнажив дыру на месте зуба. Торжество плескалось в его глазах. Он будет жить в доме своего врага, спать на его лавке, пользоваться его вещами, топтать его землю. Он будет каждый день проходить мимо соседей, мимо дома Зоряны, как новый хозяин. Это было унижение куда более изощренное, чем простое избиение.
Ратибор сжал кулаки так, что ногти впились в ладони до крови. Он сделал шаг вперед, его тело было напряженной пружиной, готовой распрямиться. Ему было плевать на долг, на грамоту. Он хотел одного – стереть эту торжествующую ухмылку с лица Люта, даже если это будет последнее, что он сделает в своей жизни.
– Не смей! – голос Велеславы, резкий и властный, как щелчок кнута, остановил его. Она положила ему на плечо тяжелую руку. – Не сейчас. Не здесь.
Она смотрела не на сына. Она смотрела на Горыню, и во взгляде ее читалась вся та ненависть, на которую только была способна женщина, у которой отнимают ее ребенка и ее нору. Она была готова убить. Но она была и достаточно умна, чтобы понимать: сейчас любой опрометчивый шаг приведет лишь к тому, что их просто забьют здесь, во дворе, как бешеных собак. И никто не поможет.
Горыня все понял. Он едва заметно кивнул, словно признавая ее выдержку.
– Мудрое решение. Итак, решено. У вас есть время до заката, чтобы собрать свои пожитки и убраться отсюда.
– Куда мы пойдем? – глухо спросил Ратибор.
Горыня пожал плечами с преувеличенным равнодушием.
– Это меня не волнует. Можете пойти на паперть, просить милостыню. Или продать твою мать в рабство заезжим купцам. Говорят, на восточных рынках крепкие бабы в цене. Ее еще можно пустить по рукам раз десять, прежде чем она издохнет.
При этих словах что-то внутри Ратибора оборвалось. Ярость схлынула, оставив после себя ледяную, звенящую пустоту. Он посмотрел на свою мать, на ее гордую, несгибаемую спину, и представил ее в цепях, с клеймом на щеке, на невольничьем рынке…
Он не смог вынести этой мысли.
Горыня, видя, что дело сделано, повернулся.
– Собирайте свои тряпки. Я вернусь к вечеру, чтобы принять дом. И не вздумайте ничего ломать или портить. Это теперь моя собственность.
Он и его свита вышли со двора. Ворота за ними закрылись с глухим стуком.
Они остались одни посреди своего двора, который уже был им чужим. Тишина была оглушающей. Ратибор посмотрел на мать. Ее лицо было похоже на каменную маску, но он видел, как под кожей на ее скулах ходят желваки, видел, как дрожат ее пальцы. Она была на грани.
Не говоря ни слова, она пошла в дом. Он последовал за ней. Внутри пахло привычно: дымом, квашеной капустой, высохшими травами. Родной запах, который они должны были теперь покинуть.
Велеслава подошла к печи, запустила руку в щель между кирпичами и вытащила небольшой, завернутый в промасленную тряпицу сверток. Она развернула его на столе. Внутри лежал ее старый боевой топор. Небольшой, с узким лезвием, идеально сбалансированный. Оружие, с которым она прошла через огонь и кровь. Лезвие было тусклым, но по краю шла тонкая, все еще острая, как бритва, серебристая полоска.
– Собирай вещи, – сказала она глухо, проводя пальцем по лезвию. – Берем только самое нужное. Одежду. Инструменты. И это.
Она кивнула на топор.
– Мы уходим. Но мы еще вернемся. Клянусь тебе всеми богами, Ратибор, мы вернемся. И тогда они за все заплатят. Не серебром. Кровью.
Глава 14: Последняя ночь в родном доме
День умирал медленно и мучительно, окрашивая небо в те же багрово-синячные цвета, что украшали теперь лица многих новгородских мужиков. Для Ратибора и Велеславы это был закат не просто дня, а целой жизни.
Сборы были короткими и безмолвными. Каждое движение, каждый взятый в руки предмет отзывался тупой болью, словно они amputровали части самих себя. Что взять с собой в никуда? Что пригодится, когда у тебя нет ни крыши над головой, ни очага?
Велеслава двигалась с той же сосредоточенной экономией движений, с какой работала или дралась. Она сняла с гвоздя старый, заплатанный тулуп Радима, долго смотрела на него, потом встряхнула, словно пытаясь выбить из него последний дух мужа, и аккуратно сложила. Он пригодится в холодные ночи. Затем собрала в грубый холщовый мешок свои и Ратибора сменные порты и рубахи, пару мотков крепких ниток, иглы, шило – все, что могло помочь выжить.
Ратибор выгребал из деревянного ларя их скудные запасы: полкаравая ржаного хлеба, несколько сморщенных луковиц, горсть соли в берестяном туеске. Еды, которой едва хватило бы на два дня. Он смотрел на эти жалкие крохи, и в горле вставал горький ком. Вчера, на празднике, он чувствовал себя героем. Сегодня он был нищим, собирающим подаяние со стола собственной жизни.
Он подошел к лавке, где спал. Провел рукой по грубо отесанному дереву, по зарубкам, которые сам же вырезал ножом от скуки, когда был ребенком. Вот здесь он пролил чернила. Вот царапина от конька, который отец вырезал ему на семилетие. Каждый шрам на дереве был шрамом на его памяти. Теперь на этой лавке будет спать Лют, класть на нее свои холеные руки, бросать свою дорогую одежду. Мысль была настолько омерзительной, что Ратибора затошнило. Он сжал кулак, и у него возникло дикое, иррациональное желание разнести эту лавку в щепки, сжечь дом дотла, лишь бы он не достался врагу.
Но он встретился взглядом с матерью и увидел в ее глазах то же самое – подавленное, бессильное бешенство. Она поняла его без слов.
– Оставь, – сказала она тихо. – Не давай им еще одного повода посмеяться над нами. Пусть забирают мертвое дерево. Живое – с нами.
Самое важное они оставили напоследок. Когда скудные узлы были собраны и поставлены у порога, Велеслава взяла свой топор. Она села за стол, положила оружие перед собой и достала оселок и баночку с салом.
В наступивших сумерках, при свете единственной лучины, она принялась точить лезвие. Шершавый камень медленно, скрежеща, скользил по стали. Движения ее были выверенными, почти ритуальными. Это была не просто заточка оружия. Это был обряд, способ превратить свою ярость, свою боль и свое унижение в нечто осязаемое, холодное и смертельно острое.
Ратибор молча сидел напротив и смотрел. Он видел, как меняется лицо матери. Морщины вокруг глаз стали глубже, губы сжались в тонкую, безжалостную линию. Это было лицо женщины, которая смотрит в глаза смерти и не отводит взгляда. Она не плакала. Слезы были непозволительной роскошью. Она копила ненависть.
– Когда-то я думала, что оставила все это позади, – проговорила она, не прерывая своего занятия. Ее голос был ровным и глухим, словно шел из глубокого колодца. – Думала, что нашла покой. Что рожу тебе сестер, буду штопать рубахи и умру в своей постели. Твой отец… он был добрым. Слишком добрым для этого мира. Он не понимал, что есть люди, которые похожи на волков. Сколько их ни корми, они все равно смотрят в лес. А Горыня и его выродок – это даже не волки. Это опарыши. Они питаются гнилью, чужим горем. И единственный способ с ними справиться – выжечь их каленым железом.
Она провела большим пальцем по заточенному лезвию. На коже остался тонкий, алый порез. Она поднесла палец к губам и слизнула каплю крови.
– Запомни, Ратибор. Милосердие – это для богов. А для людей есть месть. Она может долго спать, но когда проснется, она должна быть сытой.
Закончив точить, она тщательно протерла топор промасленной тряпицей. Затем взяла самый большой узел, с теплой одеждой, распорола шов сбоку и аккуратно засунула оружие внутрь, между слоями овчины и грубого холста. Зашила так, что и не заметишь. Теперь это была просто их поклажа. Тяжелый узел нищего, внутри которого дремала смерть.
Они сидели в пустеющем доме, пока лучина не догорела до самого конца, оставив их в полной темноте. За окном уже слышались шаги. Горыня пришел за своим.
Велеслава встала первой.
– Пора.
Они взвалили на спины узлы. Ратибор бросил последний взгляд на свой дом – на темные силуэты лавок, на холодную печь, на пустые стены. Здесь больше не было жизни.
Когда они открыли дверь, на пороге уже стоял Лют с двумя наемниками. На его лице было написано нетерпеливое злорадство.
– Ну что, вонючки, собрали манатки? – прошамкал он. – Проваливайте. И побыстрее. Нужно проветрить после вас.
Ратибор молча прошел мимо, стараясь не смотреть на него, чувствуя на своей спине его ненавидящий, торжествующий взгляд. Велеслава задержалась на пороге на долю секунды. Она посмотрела Люту прямо в глаза. И в ее взгляде не было ни страха, ни мольбы. Было лишь холодное, спокойное обещание.
Обещание вернуться.
И они ушли. Шагнули из своего двора в темную, чужую ночь, не имея ничего, кроме жалких пожитков, друг друга и топора, спрятанного в узелке с тряпьем.
Глава 15: Рука помощи
Ночь приняла их в свои холодные, безразличные объятия. Улица, днем казавшаяся знакомой, теперь стала враждебной. Из темных переулков тянуло сыростью и гнилью, редкие окна были темны. Город спал, и никому не было дела до двух изгнанников с узлами за спиной.
Они шли, не зная куда. Переночевать на улице означало привлечь внимание либо ночной стражи, которая могла запросто избить и ограбить бездомных, либо стаи таких же бродяг, для которых их скудные пожитки были бы богатой добычей. Можно было уйти из города, заночевать в лесу, но без огня и оружия это было самоубийством.
Они остановились на перекрестке. Ветер пробирал до костей. Ратибор чувствовал, как отчаяние, холодное и липкое, как болотная жижа, начинает подступать к горлу. Он посмотрел на мать. Она стояла прямая, несгибаемая, глядя в темноту, но он видел в ее силуэте бесконечную усталость. Даже для нее это было слишком.
– Куда теперь? – спросил он, и его голос в ночной тишине прозвучал жалко.
Велеслава не ответила. Она молчала так долго, что Ратибор уже решил, что не дождется ответа.
– Не знаю, – наконец тихо сказала она. И в этом простом "не знаю" было больше отчаяния, чем в любом крике.
Именно в этот момент за их спиной скрипнула дверь. Они оба резко обернулись, готовые к худшему.
В проеме соседнего двора стоял Микула, отец Зоряны. Он был в одной рубахе и портах, в руке держал тусклый сальный огарок, который бросал на его суровое лицо дрожащие, искаженные тени. За его спиной виднелась испуганная фигура его жены, Агафьи, а рядом с ней – бледное, как полотно, лицо Зоряны.
Микула выглядел разгневанным, но гнев его был направлен не на них. Он смотрел на Ратибора, на Велеславу, на их жалкие узлы, и в его глазах боролись злость, жалость и страх. Он был человеком простым, незлобивым, но осторожным. Он знал, что связываться с Горыней – все равно что совать руку в медвежью берлогу. Но он также видел перед собой женщину с сыном, соседей, которых только что вышвырнули на улицу посреди ночи.
– Это правда? – пробурчал он, кивая в сторону их темного двора. – Выгнали вас?
Велеслава молча кивнула.
Микула смачно сплюнул в грязь.
– Падальщик… Чтоб ему пусто было. Все ему мало, ирода.
Агафья, его жена, женщина полная и богобоязненная, перекрестилась и зашептала:
– Сгинь, нечистая сила… Куда же вы теперь, Велеслава? На ночь глядя…
Зоряна стояла молча, прижав руки к груди. Ее большие, испуганные глаза были прикованы к Ратибору. Она видела его поникшие плечи, его растерянное лицо, и ее сердце сжималось от боли и бессильной ярости. Это из-за нее. Все из-за нее. Если бы она тогда не ответила Люту, если бы он не заступился за нее…
– Найдем, куда, – твердо ответила Велеслава, хотя и сама не верила своим словам. Она не собиралась просить. Она слишком горда для этого.
Они уже собрались идти дальше, в неизвестность, когда Зоряна вдруг шагнула вперед.
– Батюшка! Матушка! – ее голос дрогнул, но прозвучал настойчиво. – Нельзя же так! Это не по-людски! Куда они пойдут?
Микула нахмурился, посмотрел на дочь, потом снова на изгнанников. Он тяжело вздохнул, борясь сам с собой. Его осторожность кричала ему: "Не лезь! Будет хуже! Горыня и тебя со свету сживет!". Но дочь смотрела на него с такой мольбой, с таким отчаянием, а перед ним стояла вдова с сыном-подростком, и что-то внутри него, какая-то простая, мужицкая совесть, не позволила ему отвернуться.
– Тьфу, пропади оно все пропадом, – пробормотал он наконец. – За домом, в сарае… где глину держим… место есть. Тесно, грязно, но хоть крыша над головой. И от чужих глаз подальше. Переночуете. А утром видно будет.
Агафья ахнула, испуганно посмотрев на мужа.
– Микула, что ты?! Горыня узнает – и нам не сдобровать!
– А выгнать людей на улицу – это по-божески, да?! – огрызнулся на нее Микула. – Хватит причитать! Или забыла, как Радим твоему отцу в голодный год мешок муки отдал, последний? За добро добром платят. А ну, заходите, пока стража не нагрянула! Быстро!
Он махнул рукой, приглашая их во двор.
Велеслава на мгновение замерла. Она не ожидала этого. От этого простого, грубого мужика, который всегда смотрел на них свысока из-за их "вонючего" ремесла, она не ждала ничего, кроме презрения. Эта неожиданная помощь пробила брешь в ее броне.
Она посмотрела на Ратибора, тот – на нее. В их глазах смешались удивление, облегчение и унижение от того, что приходится принимать милостыню.
– Благодарствуем, сосед, – тихо сказала Велеслава, и в ее голосе прозвучали нотки, которых Ратибор никогда раньше не слышал.
Они быстро, стараясь не шуметь, проскользнули в гончарный двор. Микула провел их в дальний угол, к приземистому сараю, сложенному из грубых досок. Внутри сильно пахло влажной землей и глиной. Вдоль стен стояли кадки с размоченной глиной, на полках – необожженные заготовки. В углу была свалена куча старого сена.
– Вот, – буркнул Микула, светя огарком. – Не хоромы, конечно. Но сухо и не дует. Устраивайтесь. И чтобы до рассвета – ни звука!
Он поставил огарок на полку и, не говоря больше ни слова, вышел, плотно притворив за собой дверь.
Они остались одни в полумраке. Запах глины и сена после смрада их собственного двора казался почти сладким. Ратибор бросил свой узел на сено. Велеслава прислонилась спиной к стене и медленно сползла на пол, закрыв лицо руками. Ее плечи мелко, беззвучно задрожали. Впервые за весь этот страшный день она позволила себе показать слабость.
Ратибор сел рядом. Он не знал, что сказать, что сделать. Он просто положил свою тяжелую руку ей на плечо, чувствуя, как она дрожит. Сегодня они потеряли все. Но в самый темный час кто-то протянул им руку. Это не решало их проблем. Но это давало им возможность пережить эту ночь. И встретить новый, еще более страшный день.
Глава 16: Новая жизнь под чужой крышей
Первый луч рассвета, тусклый и серый, просочился сквозь щели в стене сарая, разбудив Ратибора. Он спал плохо, урывками. Жесткое сено кололо спину, холод пробирал до костей, а тело ныло от вчерашних побоев и пережитого унижения. Рядом, свернувшись под старым отцовским тулупом, спала Велеслава. Во сне ее лицо утратило свою обычную суровость, стало уязвимым, и Ратибор с новой силой ощутил свою вину за все, что произошло.
Новая жизнь началась не со слов, а с неловкости.
Когда они вышли из сарая, семья гончара уже была на ногах. Двор жил своей привычной жизнью: Микула месил в большом корыте глину, Агафья растапливала печь в доме. Их появление нарушило этот порядок. Микула, увидев их, хмуро кивнул и снова уткнулся в свою работу, делая вид, что чрезвычайно занят. Его движения были резкими, напряженными. Агафья вынесла им чугунок с остатками вчерашней каши и кринку молока, поставила на лавку у сарая и, не глядя им в глаза, быстро пробормотала: «Подкрепитесь», после чего скрылась в доме, плотно притворив за собой дверь.
Это было не гостеприимство. Это была милостыня, поданная из страха и чувства долга. Ратибор и Велеслава чувствовали себя чужими, лишними, опасными. Каждый их шаг, каждый вздох, казалось, нарушал покой этого дома. Они ели молча, быстро, стараясь не шуметь. Еда была пресной и безвкусной, она застревала в горле комом унижения.
Одно лишь существо в этом дворе не излучало напряжения. Зоряна.
Она выпорхнула из дома с пустыми ведрами, и, увидев Ратибора, ее лицо осветилось такой искренней, неподдельной радостью, что на мгновение Ратибору показалось, будто солнце выглянуло из-за туч. Она не видела в нем нищего изгнанника, причину всех бед. Она видела его, Ратибора.
– Доброе утро, – сказала она так, словно они были не жалкими приживалами, а почетными гостями. Она поставила ведра и подошла к ним. – Выспались? Сено не слишком жесткое?
– Спасибо, Зоряна. За все, – тихо ответила Велеслава, глядя на девушку с редкой для нее теплотой. – Мы твоим родителям очень обязаны.
– Пустое, – отмахнулась Зоряна. Она посмотрела на распухшую скулу Ратибора. – Мазь помогла?
– Да. Почти не болит, – соврал Ратибор. На самом деле скула ныла нещадно.
– Надо еще приложить, – серьезно сказала она.
Их неловкий разговор был прерван резким окриком из дома:
– Зоряна! Воды до сих пор нет! Прохлаждаешься?
Девушка вздрогнула, краска стыда залила ее щеки. Она бросила на Ратибора виноватый взгляд и, схватив ведра, поспешила к колодцу.
Так и потекли их дни. Жизнь в сарае была скотской. Днем они старались не попадаться на глаза хозяевам. Велеслава нашла себе место в дальнем углу двора, где ей разрешили заниматься ремонтом старой обуви и конской сбруи – работа, за которую платили сущие гроши. Ратибор, не желая сидеть на шее, с утра до ночи пропадал в городе, ища любую, самую грязную и тяжелую работу.
Но самым тяжелым было не физическое неудобство. Самым тяжелым была давящая атмосфера в доме гончара. Микула и Агафья жили в постоянном страхе. Каждый раз, когда на улице раздавались громкие голоса или стук колес, они вздрагивали, ожидая увидеть на пороге людей Горыни. Они стали раздражительными, часто срывались на дочери, упрекая ее в том, что она "привела в дом беду".
А беда не заставила себя ждать. Уже через день после их изгнания в их бывшем доме поселился Лют. Он вел себя как победитель. Днем он слонялся по слободе в сопровождении своих прихлебателей, громко смеясь и бросая насмешливые взгляды на двор гончара. Вечерами он устраивал пьяные гулянки, крики и музыка из их старого дома разносились по всей округе, заставляя Ратибора сжимать кулаки в бессильной ярости.
И посреди всего этого, как цветок на пепелище, расцветала тайная радость Зоряны. Несмотря на упреки родителей и страх, она была счастлива. Ратибор был рядом. Она могла видеть его каждый день. Она тайком оставляла для них с Велеславой кусок пирога или крынку теплого молока. По вечерам, когда родители засыпали, она иногда проскальзывала в сарай, принося ему новую порцию лечебной мази.
Они сидели в темноте на сене, почти не касаясь друг друга, и говорили шепотом о всяких пустяках. Но под этими пустяками, в этой спертой тишине сарая, между ними росло нечто большее. Притяжение, которое оба чувствовали, но боялись признать. Для Ратибора это было мукой. Он видел ее нежные взгляды, чувствовал ее заботу, и это разрывало ему сердце. Как он мог ответить на ее чувства? Он – нищий, бездомный, калека в глазах ее отца. Завести с ней "гуляние" сейчас, под крышей ее родителей, которые приютили их из жалости, казалось ему верхом подлости и предательства. Он чувствовал себя недостойным даже дышать с ней одним воздухом. И эта пропасть между ними, которую он сам же и выстраивал, причиняла боль куда более сильную, чем любой удар в стеношном бою.
Глава 17: Труд за гроши
На следующее утро, еще до того, как Микула начал греметь своими глиняными горшками, Ратибор уже был на ногах. Он не мог сидеть сложа руки. Чувство долга, стыд и необходимость выжить гнали его из сарая, как злые псы. Если они хотели однажды вернуть свой дом, им нужны были деньги. Много денег. А пока – хотя бы медяки, чтобы не есть хозяйский хлеб, чтобы купить матери кусок кожи для работы, чтобы просто почувствовать себя мужчиной, а не жалким приживалой.
Он пошел туда, где всегда можно было найти работу для тех, у кого не было ничего, кроме собственной спины и рук – в новгородский порт, на Торговую сторону.
Пристань ревела и стонала с самого рассвета. Это был муравейник, где роль муравьев исполняли оборванные, потные, отчаянно ругающиеся мужики. Воздух был пропитан запахом мокрого дерева, гниющей рыбы, дегтя, водки и немытых тел. Здесь никто не спрашивал, кто ты и откуда. Здесь смотрели на твои плечи и руки. Если ты мог поднять и тащить – ты годился.
Ратибор подошел к приказчику – толстому, бритоголовому мужику с лицом, красным от выпитой с утра браги и злости. Тот смерил Ратибора одним взглядом, оценивая его широкую спину и мощные руки.
– Мешки с солью таскать с ладьи на склад, – прохрипел приказчик. – За каждый десяток – медная деньга. Упустишь мешок в воду – вычту вдвойне. Убьешься – твои проблемы. Идет?
Ратибор молча кивнул.
И начался ад. Мешки были из грубой, колючей рогожи, каждый весом пуда в три, если не больше. Их нужно было поднять с шаткой палубы, взвалить на спину, пройти по узкому, скользкому трапу, который качался под ногами, и дотащить до темного, вонючего склада в полусотне шагов от берега. И так – снова, и снова, и снова.
Уже через час спина Ратибора превратилась в одну сплошную, горящую боль. Грубая рогожа натерла плечи до крови, несмотря на рубаху. Соляная пыль, просачивающаяся сквозь ткань, въедалась в раны, и они горели огнем. Пот заливал глаза, делая все вокруг расплывчатым. Его мускулы, привыкшие к другой нагрузке, кричали от напряжения. Он видел, как рядом с ним один из грузчиков, пожилой и изможденный, поскользнулся на трапе. Он упал в воду вместе с мешком, и его тут же увлекло течением под днище ладьи. Никто даже не бросился на помощь. Приказчик лишь выругался и крикнул, чтобы убирали тело, пока оно не мешает проходу.
К полудню Ратибор чувствовал себя так, словно его били палками несколько часов подряд. Он заработал всего пять медных монет. Пять монет ценой его выломанной спины и стертой в кровь кожи.
Он понял, что здесь он много не заработает – только сдохнет раньше времени. Он забрал свою жалкую плату и побрел дальше, искать другую работу.
Он нашел ее на стройке. Один из богатых бояр строил себе новый терем, высокий, в три этажа. Работа была не менее тяжелой, но платили чуть больше. Здесь нужно было таскать бревна. Огромные, просмоленные, весом в несколько человек. Их поднимали наверх с помощью простых воротов и веревок.
Ратибор встал в артель к таким же бедолагам. Они обхватывали скользкое от смолы бревно и, надрывая животы, по команде старшего тащили его к основанию строящегося сруба. Смола въедалась в руки, смешиваясь с грязью и потом. Занозы, большие, как иглы, впивались в ладони. Ругань стояла такая, что, казалось, от нее вянут уши. Рабочие подбадривали себя похабными песнями и злыми шутками.
Один раз веревка, которой поднимали бревно на второй этаж, лопнула. Огромная махина со свистом полетела вниз. Ратибор и еще один мужик успели отскочить в последнюю секунду. Бревно рухнуло на землю с таким грохотом, что, казалось, содрогнулась земля. Оно упало ровно на то место, где они только что стояли. Мужик рядом с Ратибором посерел, перекрестился дрожащей рукой и пошел к краю площадки, где его вырвало. Старший лишь обругал их за то, что плохо закрепили, и велел работать дальше. Никто не думал о том, что их только что чуть не раздавило насмерть. Их жизни стоили дешевле, чем испорченное бревно.
Вечером, когда солнце уже садилось, Ратибор получил свою плату – еще несколько медяков. Итого за день – меньше одной десятой гривны серебром. С такими темпами ему понадобится не два года, а двадцать лет, чтобы расплатиться с долгом. И то, если он не сдохнет раньше.
Он шел обратно, во двор гончара, и его тело было одной сплошной болью. Каждый шаг отдавался в натертой спине, в гудящих руках, в ноющих ногах. Он чувствовал себя старым, разбитым, выжатым до последней капли. Грязь и смола въелись в его кожу так, что их нельзя было отмыть.
Когда он вошел во двор, Зоряна как раз убирала последние горшки. Увидев его, она замерла. Она смотрела на его изможденное, грязное лицо, на его руки, покрытые ссадинами и занозами, на то, как он двигался, словно столетний старик. И в ее глазах стояли слезы.
Он прошел мимо, не поднимая головы, и скрылся в сарае. Он бросил на лавку заработанные монеты. Они глухо звякнули в тишине. Это был звук его бессилия. Он рухнул на сено и лежал, глядя в темный потолок. Он не чувствовал ни голода, ни жажды. Только бесконечную, черную усталость. И тихую, тлеющую ненависть. Ненависть к Горыне, к Люту, к своей судьбе. И к самому себе – за то, что он оказался таким слабым.
Глава 18: Неловкая близость
После адского дня на стройке тело Ратибора превратилось в сплошной, ноющий ушиб. Он спал тяжелым, липким сном без сновидений, а проснувшись, не сразу понял, где он и кто он. Каждая мышца протестовала, когда он попытался встать, и он рухнул обратно на сено с глухим стоном.
И тут он услышал ее голос, тихий, как шелест листьев.
– Я принесла тебе… – Зоряна стояла в дверях сарая, держа в руках деревянную миску, от которой шел пар, и чистую тряпицу. Утренний свет очерчивал ее силуэт, превращая простые льняные одежды в подобие сияния.
Она вошла, притворив за собой дверь, и села на сено рядом с ним. Ратибор попытался сесть, но резкая боль в спине заставила его поморщиться.
– Лежи, – мягко приказала она. – Я украла у матери горячей воды и отвара подорожника. Дай сюда руки.
Он подчинился, протянув ей свои ладони. Они были в ужасном состоянии: кожа потрескалась, покрылась кровавыми мозолями, а из нескольких мест торчали темные щепки заноз. Зоряна охнула, увидев их.
– Боги… Что они с тобой делают…
Она поставила миску, омочила тряпицу в горячем отваре и начала осторожно, нежно обмывать его руки. Ее прикосновения были легкими, как крылья бабочки, но каждый раз, когда она касалась особенно больного места, Ратибор вздрагивал. Она, закусив губу от сопереживания, тут же дула на ранку, и ее теплое дыхание на мгновение приносило облегчение.
Эта близость была невыносимой. Здесь, в тесном, пахнущем глиной и сеном сарае, она была слишком близко. Он чувствовал запах ее волос – свежий, травяной, не похожий ни на один из запахов его прошлой жизни. Он видел, как несколько светлых прядей выбились из-под повойника и щекотали ее щеку. Видел, как сосредоточенно она нахмурила брови, пытаясь иглой, которую принесла с собой, подцепить самую глубокую занозу.
Сердце его стучало тяжело, гулко. Он не привык к такой заботе. Его мать любила его, но ее любовь была суровой, практичной – накормить, научить драться, промыть рану грубой, проспиртованной тряпкой. Нежность Зоряны была чем-то иным. Она обезоруживала, делала его уязвимым.
– Зачем ты это делаешь? – хрипло спросил он, не выдержав.
Она подняла на него глаза. В них плескалось такое чистое, искреннее сочувствие, что ему стало стыдно.
– А как иначе? – просто ответила она. – Тебе же больно.
Она вытащила занозу. Маленькая капелька крови выступила на его ладони. Зоряна, не задумываясь, наклонилась и слизнула ее языком, как сделала бы это, порезав собственный палец.
Этот невинный, почти детский жест взорвал что-то внутри Ратибора. Его словно ударило молнией. Кровь бросилась ему в лицо, а ниже пояса предательски потежелело. Он резко отдернул руку.
– Не надо, – сказал он жестче, чем хотел. – Я сам.
Зоряна испуганно отпрянула, ее щеки залил румянец. Она не поняла его реакции. Она хотела помочь, а он… он ее оттолкнул.
– Я… я только хотела… – пролепетала она, опустив глаза.
– Я знаю, – сказал Ратибор, заставляя себя смягчить голос. Он сел, превозмогая боль. – Спасибо тебе. Но не нужно. Твои родители и так из-за нас… в беде. Они приютили нас с матерью, а я… не могу. Не могу, чтобы ты…
Он не мог договорить. Как объяснить ей, что каждое ее доброе слово, каждый взгляд, каждое прикосновение – это соль на его раны? Раны не телесные, а душевные. Они напоминали ему, что он – никто. Нищий бездомный калека, живущий на птичьих правах в чужом сарае. Он недостоин ее. А принимать ее заботу, зная, что не может дать ничего взамен, зная, что ее родители смотрят на него с плохо скрываемым страхом и неприязнью, – было верхом подлости.
Это было предательством их гостеприимства. Он не мог гулять с их дочерью. Он не мог позволить себе даже мечтать о ней. Это было бы так, словно обокрасть единственного человека, который подал тебе кусок хлеба.
– Уходи, пожалуйста, – сказал он, глядя в сторону, на пыльные доски стены. – Мне нужно собираться. Искать работу.
Зоряна сидела несколько мгновений, не двигаясь. Она видела его напряженную спину, слышала холод в его голосе. Она не понимала его сложного кодекса чести, она чувствовала лишь обиду и отвержение. Слезы навернулись ей на глаза.
Молча, оставив миску и тряпицу на сене, она встала и вышла из сарая, тихо притворив за собой дверь.
Ратибор остался один. Он со всей силы ударил кулаком по сену. Бессилие и ярость душили его. Он хотел ее. Хотел так, как никогда не хотел ничего в жизни. Хотел обнять ее, защитить, сказать, что все будет хорошо. Но он не мог. Он был пленником своей чести и своей нищеты. И, отталкивая ее, он наносил рану не только ей, но и себе. Рану, которая болела гораздо сильнее, чем разбитые в кровь руки.
Глава 19: Новый хозяин
Если Ратибору казалось, что боль и унижение достигли своего предела, он ошибался. Горыня и Лют еще не закончили свою месть. Им было мало изгнать его, мало обречь на нищету. Им нужно было растоптать его честь, втоптать его имя в грязь на глазах у всей слободы.
Через два дня после изгнания дом Ратибора ожил. Но это была чужая, уродливая жизнь. Лют въехал. И он сделал это так, чтобы видел каждый.
С утра к воротам подъехала телега, груженая нехитрым скарбом – перинами, дорогими тулупами, сундучком с одеждой. А следом, верхом на сытом, лоснящемся жеребце, ехал и сам Лют. Он был одет в новый кафтан, синий, как летнее небо, подпоясанный дорогим ремнем. Распухшая губа уже спала, оставив лишь некрасивый синяк, а дыру от зуба он, казалось, выставлял напоказ, как боевой трофей.
Он громко, на всю улицу, отдавал приказы своим слугам, куда нести вещи, смеялся, шутил со своими верными прихлебателями, которые уже крутились рядом, как шакалы. Весь этот шум был демонстративным, театральным. Он был рассчитан на одних единственных зрителей – тех, кто ютился в сарае на соседнем дворе.
Микула и Агафья в тот день работали молча, стараясь не смотреть в сторону соседнего двора, словно там разверзлась чумная яма. Зоряна металась по двору, роняя все из рук, ее лицо было бледным от гнева.
Велеслава, работавшая в своем углу, казалось, ничего не замечала. Она методично, удар за ударом, вбивала деревянные гвозди в подметку старого сапога, но Ратибор видел, как побелели костяшки на ее руке, сжимающей молоток.
Сам Ратибор не мог найти себе места. Каждый смешок, каждый громкий приказ Люта был как плевок ему в лицо. Он чувствовал себя привязанным к позорному столбу. Он был в шаге от своего дома, но не мог даже переступить порог. И этот дом на его глазах оскверняли.
Но самое страшное началось вечером.
Когда Ратибор вернулся с работы, измотанный и грязный, его встретила не тишина. Из окон его родного дома бил яркий свет множества свечей и лились звуки музыки. Лют устроил пирушку. Новоселье.
До Ратибора доносился звон кубков, громкий, пьяный смех, визг девок – судя по всему, портовых шлюх, которых Лют привел, чтобы окончательно осквернить память о его семье. Гусляр играл какую-то похабную, кабацкую песню. Из трубы валил густой дым – они жарили мясо. Запах жареного мяса, смешанный с запахом пролитого вина и пота, доносился до двора гончара, и это было хуже любой вони.
Ратибор стоял в темноте, забившись в самый дальний угол, и слушал. Каждая нота, каждый смешок впивались в его сердце, как раскаленные иглы. Он представлял, как эти пьяные, грязные люди сидят за его столом, как Лют, ухмыляясь, ставит свои сапоги на лавку, где спал его отец. Он представлял, как они блюют в его сенях, как лапают продажных девок в комнате его матери.
Ненависть душила его. Это была уже не просто злость, а черная, концентрированная, физически ощутимая субстанция, которая заполняла его изнутри. Он сжимал кулаки до боли, его тело дрожало. Он был готов пойти туда. Один. Против всех. Просто чтобы перерезать глотки. Чтобы заткнуть этот смех. Ему было все равно, что будет потом.
– Ратибор.
Голос матери, тихий, но твердый, как сталь, вырвал его из кровавого тумана. Она стояла рядом, в ее руке был тот самый чугунок с кашей.
– Ешь.
– Я не могу! – прохрипел он. – Я не могу это слушать!
– Можешь, – ответила она. – Ты будешь слушать. Будешь смотреть. Будешь запоминать. Каждое лицо. Каждый смех. Этим ты будешь питаться, когда не станет хлеба. Это будет согревать тебя, когда придет холод. Ненависть – это тоже сила, сынок. И сейчас это единственная сила, которая у нас осталась. Не трать ее на глупый порыв. Копи.
Она всунула ему в руку ложку и ушла в сарай. Ратибор остался стоять. Он посмотрел на чугунок, потом на светящиеся окна своего дома. И начал есть. Он ел медленно, механически, не чувствуя вкуса, заталкивая в себя пресную, остывшую кашу. А его глаза смотрели на вражеский пир. И он запоминал.
Поздно ночью, когда пирушка была в самом разгаре, дверь соседского дома с грохотом распахнулась. На крыльцо, шатаясь, вывалился Лют в сопровождении двух своих дружков. Он был пьян вдребезги.
– Эй, гончар! – заорал он, поворачиваясь к дому Микулы. – Знаю, что не спишь! И выродок твой кожевенный там же прячется!
Ратибор замер.
– Слышишь, вонючка? – продолжал орать Лют, обращаясь к темноте сарая. – Я сейчас сплю в твоем доме! Пью твое вино! А скоро и девку твою буду… под себя мять! Прямо на твоей кровати! Слышишь меня?!
Его дружки заржали. Лют постоял еще немного, выкрикивая пьяные оскорбления, потом развернулся, споткнулся и, поддерживаемый собутыльниками, убрался обратно в дом.
В сарае Ратибор медленно встал. Он подошел к узлу, в котором был спрятан топор, и запустил в него руку. Его пальцы нащупали холодное древко.
В эту ночь он не спал. Он просто сидел в темноте, сжимая в руке рукоять топора, и слушал, как за стеной умирает его прошлое. И рождается его будущее. Будущее, в котором не было места ничему, кроме мести.
Глава 20: Лесные тени
Далеко от Новгорода, там, где кончались даже самые глухие крестьянские тропы, в самом сердце векового, полного болот и буреломов леса, таилась жизнь, о которой не знали ни бояре, ни купцы. Это был мир, живущий по своим законам. Вернее, по полному их отсутствию.
Скрытый густыми зарослями орешника и еловым лапником, в небольшой низине у заросшего тиной ручья, располагался лагерь. Лагерем это можно было назвать с натяжкой. Скорее, это была временная стоянка стаи ободранных волков. Несколько грубо сколоченных из жердей шалашей, накрытых дерном и еловыми ветками. Почерневшее от сажи кострище в центре, на котором вечно что-то булькало в закопченном котле – то ли похлебка из ворованного зайца, то ли варево из грибов и кореньев.
Воздух здесь был густой и тяжелый. Он пах сырой землей, прелой листвой, немытыми телами и отчаянием. Это был дом для тех, у кого не осталось другого дома. Для отбросов общества, для тех, кого выплюнула цивилизация.
Здесь собрался самый разный сброд. Был Крив, беглый холоп, который забил до смерти хозяйского приказчика за то, что тот высек его жену на конюшне. Крив был молчалив, жесток, и в его единственном глазу (второй был выбит кнутом) всегда горел голодный, волчий огонь. Был Гвоздь, бывший плотник из Пскова, пропивший свой дом, жену и совесть. Теперь он пропивал все, что удавалось добыть разбоем, и в пьяном угаре часто плакал и говорил, что боги его прокляли. Был Лыко, юркий, похожий на ласку воришка, которого поймали на краже в третий раз и должны были повесить, но он умудрился сбежать прямо с плахи, перегрызя зубами веревки на руках.
Это были люди, доведенные до последней черты. Люди, которым нечего было терять. Их объединяло одно: лютая, глухая ненависть ко всему остальному миру – к сытым горожанам, к чванливым боярам, к закону, который был справедлив только для богатых. Они были гнойником на теле общества, и этот гнойник зрел, готовый прорваться в любой момент.
Их промысел был мелким и трусливым. Они не рисковали нападать на караваны или хорошо охраняемых путников. Их добычей были одинокие крестьяне, заблудившиеся в лесу, или мелкие торговцы, решившие срезать путь по лесной тропе. Часто они даже не показывались. Натягивали поперек тропы веревку с коровьими черепами и пучками перьев, выли из-за кустов жутким, нечеловеческим голосом, изображая лешего. Напуганные до полусмерти путники бросали свои пожитки и бежали без оглядки, а разбойники потом собирали брошенное.
Сегодняшний день был голодным. Вчерашний заяц был давно съеден, а новая добыча не шла. Мужики сидели вокруг едва тлеющего костра, угрюмые и злые.
– Третий день жрем одну лебеду, – проворчал Гвоздь, ковыряя грязным пальцем в зубах. – Скоро сами начнем кору грызть. Надо на большак выходить.
– На большак? – ухмыльнулся Крив. – Чтобы нас там княжья дружина на копья подняла? Умный ты, Гвоздь, жаль, что мозги все пропил.
– А что делать? Ждать, пока с голоду сдохнем?
Их перепалку прервал высокий, жилистый мужчина, который до этого молча сидел в стороне и точил свой длинный нож. Это был Волх. Он не был похож на остальных. В его осанке, несмотря на поношенную одежду, чувствовалась воинская выправка. Его лицо было худым, обветренным, с жесткими складками у рта, а глаза смотрели холодно и осмысленно. Он не был беглым вором или пьяницей. Он был бывшим десятником из дружины южного князя. Человеком, знавшим, что такое строй, дисциплина и кровь.
Он был изгнан за пьяную драку в корчме, где чуть не убил своего же товарища. Но история была мутной. Говорили, что тот оскорбил его покойную жену. Пока князь разбирался и думал, какое наказание ему вынести, Волх, не дожидаясь ни кнута, ни петли, просто ушел. Ушел на север, в эти дикие леса, где его никто не будет искать. Среди этой разношерстной шайки он быстро стал негласным лидером. Не потому что был самым сильным, а потому что он был единственным, кто умел думать.
– На большак мы не пойдем, – сказал он спокойно, и все замолчали. Его голос был негромким, но в нем была власть, к которой все привыкли. – Но и здесь сидеть не будем. Пойдем к реке. Вверх по течению. Туда редко кто заплывает. Но иногда купцы-одиночки срезают путь к Ильменю. Там и посмотрим. Может, боги нам что и пошлют.
В его словах была логика. Река – это всегда шанс. Шанс на добычу.
– Пойдем втроем, – решил он, обводя взглядом своих "побратимов". – Я, ты, Крив, – он кивнул на одноглазого, – и ты, Лыко. Ты будешь смотреть вперед, у тебя глаз острый. Остальные – сидеть здесь и не высовываться. И если мы не вернемся через три дня, разбегайтесь кто куда.
Никто не спорил. Это был приказ.
Когда начало смеркаться, трое разбойников, вооруженные кто ржавым топором, кто дубиной, а Волх – своим верным боевым ножом, бесшумно выскользнули из лагеря. Они двигались по лесу, как тени, как хищники, вышедшие на охоту. Они еще не знали, что эта ночь изменит все. Они еще не знали, что скоро их мелкий и трусливый промысел закончится. И начнется настоящий разбой. Кровавый, безжалостный и куда более прибыльный. Судьба уже вела их к берегу реки, где у догорающего костра дремали ничего не подозревающие варяги.
Глава 21: Лесной совет
Костер догорал. Дыма было больше, чем тепла, и он едкой, кислой струей лез в глаза и ноздри, смешиваясь с привычным лесным смрадом гниющей листвы и сырого мха. Вокруг костра сидело около десятка мужчин. Они были похожи скорее на призраков, чем на людей: осунувшиеся, заросшие щетиной лица, запавшие глаза, одежда, превратившаяся в грязные, лоснящиеся от жира и пота лохмотья.
Молчание давило, тяжелое и липкое. Единственным звуком, кроме треска сучьев, было натужное, булькающее сопение Гвоздя. Он, как обычно, был пьян. Перед ним на земле стоял почти пустой глиняный горшок, в котором еще вчера была мутная, вонючая брага, выменянная у лесного отшельника на украденную курицу. Эта курица была их единственной добычей за последнюю неделю.
Голод был не просто чувством. Он был осязаемой, физической силой. Он сводил животы, делал мысли вязкими и злыми, заставлял мир сужаться до одной единственной идеи – жратвы.
– Кончилась, – Гвоздь потряс горшок, и звук нескольких оставшихся на дне капель прозвучал в тишине как приговор. Он поднял на остальных мутные, полные пьяной тоски глаза. – Все… Все кончилось. Брага кончилась. Курица кончилась. Скоро и мы тут кончимся. Сдохнем, как собаки подзаборные, и вороны наши кости растащат.
– Заткнись ты, алкаш, – прошипел Лыко, юркий воришка. Он нервно грыз грязный ноготь, его маленькие, близко посаженные глазки бегали от одного лица к другому. – Каркаешь тут, как старый ворон. Без тебя тошно.
– А что, неправду я говорю?! – взвился Гвоздь. – Чего мы ждем? Пока нас черви заживо есть начнут? Волх со своими ушли – и с концами. Поди, нарвались на дружину и уже на кольях торчат, кишки на ветру полощут! А мы тут сидим, мох жрем!
Это была общая, невысказанная мысль, которая витала в воздухе. Волх, Крив и Лыко ушли два дня назад. Обещали вернуться к следующей ночи. Но их все не было. И эта неизвестность, помноженная на голод, разъедала их изнутри.
– Может, нашли что-то. Пошли по следу, – неуверенно предположил кто-то из толпы, самый молодой, бывший деревенский парень, сбежавший от податей.
– Нашли они, как же! – расхохотался Гвоздь, но смех его был похож на лай. – Могилу свою они нашли! Волх, конечно, с головой мужик, но против рогатины не попрешь. Я говорил, надо было ту корову у поповского хутора резать, а не одну курицу тащить! Жратвы бы на месяц хватило!
– А потом чтобы за нами весь поповский приход с вилами по лесу гонялся? – зло огрызнулся на него коренастый мужик по кличке Кабан, бывший мясник, сбежавший после того, как в пьяной драке зарезал заезжего купчишку. – Думать надо башкой, а не жопой! Волх правильно сказал – шуметь нельзя.
– "Шуметь нельзя, шуметь нельзя"! – передразнил Гвоздь. – Так и будем втихаря пугать баб в лесу, отбирать у них лукошки с грибами? Это разбой, что ли? Это смех один! Я на большее подписывался!
Он вскочил на ноги, шатаясь.
– Я так больше не могу! Надо идти! На большак, к людям! Ворваться в деревню, взять, что нам положено по праву! Баб, жратву, брагу! Жить, а не гнить здесь заживо! Кто со мной?!
Он обвел взглядом остальных. Но его пьяный, отчаянный призыв не нашел отклика. В глазах разбойников он увидел не храбрость, а лишь усталость, апатию и животный страх. Они были изгоями, но они были трусами. Они ненавидели мир, но боялись его еще больше.
– Шакалы, – выплюнул Гвоздь, видя их реакцию. – Трусливые, вонючие шакалы!
Он схватил свой топор, грубый, с плохо насаженным топорищем, и пошел прочь от костра.
– Куда ты? – окликнул его Кабан.
– К людям! – бросил Гвоздь через плечо. – Сам пойду! Хоть умру, так сытым и с бабой под боком! А вы тут сидите, ждите своего Волха! Может, он вам из пекла гостинец пришлет!
Он скрылся в ночной темноте. Некоторое время разбойники молчали, прислушиваясь к звуку удаляющихся шагов и треску веток под ногами.
– Сгинет, – наконец констатировал Кабан, скорее с облегчением, чем с сожалением. – Дурак пьяный. Туда ему и дорога.
Они снова уставились в костер. Уход Гвоздя ничего не решил. Проблема осталась. Голод. И отсутствие лидера. Без Волха, без его трезвого ума и твердой руки, их шайка была просто сборищем отчаявшихся, готовых перегрызть друг другу глотки за кусок хлеба.
И пока они сидели, поглощенные своими мрачными мыслями, в нескольких часах ходьбы от них, по той же самой лесной тропе, возвращались трое. Они шли медленно, потому что несли тяжелую ношу. Несли оружие, доспехи и связанную, бьющуюся в ужасе девушку. Возвращались не просто с добычей. Возвращались с новой судьбой.
Глава 22: Волх
Пока в лагере царили уныние и голод, тот, кого они ждали, шел сквозь ночной лес с уверенностью хозяина. Он не нес добычу, как Крив и Лыко, которые, тяжело дыша, тащили тяжелые мешки с варяжским добром. Волх шел налегке, но вся его фигура выражала предельную концентрацию. В одной руке он сжимал рукоять добротного варяжского меча, все еще липкую от крови, другой вел за веревку пленницу, которая спотыкалась и падала, но он рывком поднимал ее, не давая остановиться.
Его звали Волх. Имя это он получил еще в дружине за свой редкий дар – умение чувствовать лес, читать следы и предсказывать погоду. Но сейчас в нем не было ничего от лесного ведуна. Это был воин, доведенный до крайности, хищник, который только что снова попробовал вкус крови.
Волх не был похож на остальных разбойников ни статью, ни взглядом. Он был высок, сух, жилист. В его обветренном, с резкими чертами лице не было ни трусливой хитрости Лыко, ни тупой жестокости Крива. Была лишь застывшая, ледяная усталость и глаза. Глаза старого волка, видевшие слишком много смертей, слишком много грязи и предательства.
Его история была проста и кровава, как и большинство историй в то жестокое время. Он не был ни беглым холопом, ни промотавшимся пьяницей. Он был рожден свободным, сыном охотника. С детства он знал лес, как свои пять пальцев. Его сила и умение держать в руках оружие были замечены княжеским гриднем, и в пятнадцать лет его взяли в дружину.
Десять лет он служил верой и правдой. Десять лет он ходил в походы на степняков, стоял в щитовом строю, чувствуя, как копья врага бьют в его щит, рубил и колол, проливал свою и чужую кровь. Он дослужился до десятника. У него были уважение товарищей, милость князя и жена.
Ее звали Любава. Тихая, светловолосая, она была для него тихой гаванью после кровавых походов. Она не умела ничего, кроме как любить его, ждать его и рожать ему детей. Двоих сыновей она похоронила еще в младенчестве. Третий, казалось, выживет. Он вернулся из последнего похода, привез ей византийские шелка, и она смеялась, примеряя их. А через неделю их обоих – и ее, и сына – унесла оспа.
Мир для Волха рухнул. Тихая гавань превратилась в пепелище. Он запил. Пил не как Гвоздь, до беспамятства и слез. Пил молча, методично, пытаясь утопить в браге ту пустоту, что выжгла ему душу. Службу он забросил, на тренировки не ходил. Князь, помня его былые заслуги, пока терпел.
Конец наступил в грязной корчме на окраине города. За столом сидел молодой, заносчивый гридень по имени Свят, который всегда завидовал авторитету Волха. Свят, подогретый вином, решил потешить свою гордыню.
– Что, десятник, все по жене своей скучаешь? – громко, чтобы все слышали, спросил он. – Слыхал я, хороша была. Гибкая, как лоза. Поди, не только тебе радость дарила, пока ты в степи копье свое точил?
Волх медленно поднял на него глаза. В корчме стало тихо.
– А сынок-то твой… Точно от тебя был? А то говорят, больно уж он на одного купчишку заезжего похож был…
Свят не успел договорить. Он не увидел удара. Волх не кричал, не ругался. Он просто встал и ударил. Ударил коротко, ребром ладони в основание шеи, как его когда-то учили в дружине – удар, чтобы оглушить, а не убить. Но в этот удар он вложил всю свою боль, всю свою ярость, всю свою ненависть к миру, отнявшему у него все. А пьяные руки не знают меры.
Раздался отвратительный, сухой хруст. Свят рухнул на пол, изо рта пошла пена. Он не умер. Но его тело больше не слушалось его. Он остался жив – мычащим, пускающим слюни паралитиком на всю оставшуюся жизнь.
Пока князь, который ценил и Свята, и Волха, решал, как поступить – казнить нельзя, заслуги велики; простить – тоже нельзя, закон есть закон, – Волх не стал ждать. Он знал, чем все закончится. В лучшем случае – его продадут в рабство. В худшем – посадят на кол.
Ночью он собрал свой нож, огниво, немного еды и ушел. Ушел на север, в никуда. В леса, которые он знал и которые, как он надеялся, примут его. Он шел несколько недель, питаясь тем, что мог добыть, пока не наткнулся на эту жалкую шайку изгоев.
Они приняли его, потому что увидели в нем силу. Он остался с ними, потому что увидел в них инструмент. Он не питал к ним никаких братских чувств. Они были для него таким же отребьем, как и для остального мира. Но это было его отребье. Его стая. И он, как вожак, должен был сделать эту стаю сильной.
И сегодняшняя ночь дала ему такую возможность. Варяжская сталь, доспехи, пленница. Это было не просто везение. Это был знак. Знак того, что его путь еще не окончен. Он перестал быть десятником, слугой князя. Теперь он сам себе князь. И его княжество – этот темный, дикий лес. А его дружина – эти оборванные, голодные волки, что ждут его в лагере. И он научит их выть так, что задрожит и сам Новгород.
Глава 23: Зов реки
Они шли уже несколько часов. Ночь опустилась на лес, плотная и чернильная, какая бывает только вдали от людских селений. Воздух был неподвижен и влажен, пах грибной гнилью, мхом и близкой водой. Под ногами чавкала болотистая почва, ветки хлестали по лицам, оставляя мокрые, грязные полосы.
Волх шел впереди, прокладывая путь. Он двигался почти бесшумно, с врожденной грацией хищника, его глаза, привыкшие к темноте, сканировали каждый куст, каждый темный провал между деревьями. Он вел своих людей не наугад. Он вел их по едва заметной звериной тропе, которая, как он знал, должна была вывести их к большой воде. К Волхову.
Позади, тяжело дыша и спотыкаясь, шли Крив и Лыко. Настроение у них было паршивое. Холодная, голодная злость, копившаяся в лагере, следовала за ними по пятам.
– Ни черта тут нет, – прошипел Лыко, отмахиваясь от роя комаров, который вился вокруг его головы. – Только гниль да твари болотные. Вернуться надо, Волх. Пустая затея.
– Заткнись и иди, – ровно, не оборачиваясь, ответил Волх. – Твое дело – вперед смотреть, а не скулить под руку.
Крив молчал. Он вообще редко говорил. Но его единственный глаз горел в темноте недобрым огнем. Он доверял чутью Волха, но голод уже начинал грызть его изнутри, делая его похожим на зверя, готового броситься на что угодно.
Еще через час лес начал редеть. Под ногами захлюпала вода, запахло тиной и свежей рыбой. Они вышли на берег.
Перед ними, тускло поблескивая под светом ущербной луны, лежала река. Широкая, темная, ленивая. Вода казалась черной и густой, как деготь. С другого берега доносилось хоровое кваканье лягушек. Тишина была почти абсолютной, оглушающей после постоянного лесного шума.
Они остановились в зарослях камыша, осматриваясь.
– Ну, и что дальше? – снова заныл Лыко. – Сядем тут и будем рыбу ждать, пока она сама на берег не выпрыгнет?
Волх не ответил. Он неподвижно стоял, вглядываясь в темноту, но не глазами. Он вслушивался, вдыхал ночной воздух. Его инстинкты, отточенные годами походов и охоты, были напряжены до предела. В этой тишине было что-то… неправильное.
И тут он это почувствовал. Едва уловимый, почти призрачный запах, который не должен был здесь быть. Запах дыма. Не от лесного пожара, не от костра охотника. А жилой, сытый дымок от просушенных дров.
Он поднял руку, приказывая остальным замереть. Крив и Лыко послушались мгновенно, превратившись в тени. Они знали, что этот жест означает одно – добыча.
Волх медленно, без единого звука, опустился на одно колено, прижимаясь к земле, чтобы его силуэт не выделялся на фоне ночного неба. Он стал смотреть не прямо, а скользя взглядом по кромке воды, вдоль изгиба реки. И через минуту он увидел.
Далеко, может, в полуверсте от них, за поворотом реки, там, где берег был более пологим, небо было чуть светлее. Не зарево, а крошечное, едва заметное световое пятно, которое подрагивало и пульсировало. И над ним – тонкая, почти невидимая в темноте струйка дыма, которую Волх скорее угадал, чем увидел.
Костер.
Кто-то стоял на берегу. Ночью. В этой глуши.
Азарт, холодный и острый, как лезвие его ножа, пронзил Волха. Вся усталость, все сомнения исчезли. Он снова стал тем, кем был всегда – охотником, выследившим зверя.
– Огонь, – прошептал он так тихо, что его едва можно было расслышать.
Крив и Лыко напряглись, всматриваясь в указанном направлении.
– Кто там может быть? – спросил Лыко, в его голосе смешались страх и жадность. – Купцы? Рыбаки?
– Неважно, – отрезал Волх, поднимаясь. – У них есть огонь. Значит, есть еда. И, может быть, что-то еще. Двигаемся. Тихо, как тени. Вдоль берега, под прикрытием камыша. Лыко, ты пойдешь впереди. Если что-то увидишь или услышишь – подашь знак совы. Три раза. Понял?
Лыко кивнул, его маленькие глазки заблестели в темноте. Страх уступил место предвкушению наживы.
– Крив, ты – за мной. Если начнется бой, бьешь по ногам. Валишь на землю. Лежачий – не боец.
Крив молча сжал в руке свой ржавый топор. Его единственный глаз горел предвкушением крови.
Они двинулись. Три голодных, отчаянных хищника, привлеченные светом далекого огня. Они еще не знали, что идут не на мелкую добычу, а на богатый, смертельно опасный пир. Они шли навстречу судьбе, и каждый шорох камыша под их ногами был шагом к кровавой резне, которая навсегда изменит их жизнь.
Глава 24: Драккар на берегу
Лыко двигался сквозь прибрежные заросли с бесшумностью ласки, скользящей в траве. Он был рожден для этого – для того, чтобы красться, подглядывать и вынюхивать. Сейчас страх и голод обострили его чувства до предела. Каждый треск сучка под ногой отдавался гулким эхом в его голове, каждый всплеск рыбы в реке заставлял сердце замирать.











