Читать онлайн Война не будет длиться вечно
- Автор: Игорь Караулов
- Жанр: Стихи и поэзия, Русская поэзия, Современная русская литература
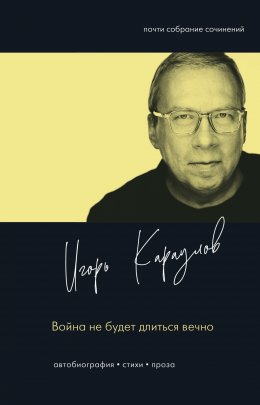
© Игорь Караулов, 2025
© ООО «Издательство АСТ», 2025
Несколько слов о себе
Сочинителем я стал летним утром 1970 года, в возрасте четырёх лет, на поляне напротив дома номер 5 по улице Пушкина в подмосковном посёлке Малаховка. Моя семья каждое лето снимала там дачу. Улица Пушкина была хороша тем, что лишь одну её сторону занимали дома, а вторая сторона выходила на опушку леса.
В то лето мы жили в доме номер 9, а в пятом доме жила девочка, которая мне очень нравилась, и нравилась потом ещё лет восемь. Её звали Лена, она мечтала стать балериной, у неё была типичная семья из массовой интеллигенции, как в мультфильмах про Простоквашино. Я, прирождённый жаворонок, вскочил в то утро слишком рано и подошёл к зелёной калитке с канонической, но не очень правдивой надписью «Осторожно, злая собака», когда Лена, её мама и папа ещё и не думали просыпаться. Я бродил на солнышке, слушая гудки электричек, и вдруг у меня в голове появились строки. Это были строки сразу и о поездах, и о Лене, как-то эти темы там переплелись. Так появилось стихотворение.
Оно было нерифмованным, поскольку я тогда не знал понятия рифмы. Я его не записал, потому что не умел писать. Но я чётко осознавал: это – стихотворение. Следующее я придумал и записал уже через три года, оно было о празднике 7 Ноября и там были строки: «Вот идёт машина с флагом на кабине. / Видно, перевыполнила план эта машина». Словом, начало не обещало многого – но с тех пор стихи стали появляться более-менее регулярно.
Малаховка имела репутацию посёлка еврейского – может быть, именно поэтому моя бабушка выбрала его в качестве нашей летней базы. В Малаховке происходило столько всего, что какие-то моменты тамошней жизни ещё долго появлялись в моих стихах. Это сосны с толстыми корнями, которые перегораживали тропинки; о них можно было запросто споткнуться, упасть, после чего колено покрывалось кровяной икрой. Это любимые луговые цветы – зверобой и львиный зев, и нелюбимые злаки, на пыльцу которых у меня развилась противная сопливая аллергия – тимофеевка и овсяница. Это охота на кузнечиков, бабочек и стрекоз. Это велосипед «Ветерок», у которого время от времени слетала цепь, и мы шли его чинить на станцию, к бородатому дяде Яше, с которым моя бабушка украдкой говорила на идиш. Это сыроежки, из которых в тазу с солёной водой выползали червячки, и перезревшие дождевики, которые дымились, когда на них наступаешь ногой. Это кролики, которых разводил в клетках хозяин нашей дачи; однажды он взял меня прокатиться на мотоцикле с коляской. Это турник с привязанным к нему резиновым шлангом, на котором я по глупости чуть не повесился в те же четыре года. Это берёзовая роща, начинавшаяся за редкими стройными соснами, а за ней – Коренёвский лес, где, по слухам, нашли отрезанную голову пропавшей девочки. И это «Всадник без головы» – первый фильм, который я посмотрел в кинотеатре (он назывался «Союз» и находился по ту сторону от железной дороги). И это шатурские пожары 1972 года – стена дыма на горизонте, раскалённые деревянные скамейки и десятки прекрасных траурниц, слетавшихся в тень яблонь, где на земле гнили падшие райские яблочки. Собственно, почти вся моя биография – это несколько летних сезонов в Малаховке, всё остальное – уточнения, примечания.
Да, перед тем как придумать первое стихотворение, я должен был родиться. Я сделал это 11 февраля 1966 года в роддоме на Щипке, жил в Стремянном переулке на углу Большой Серпуховской, которую все называли просто Серпуховкой. В сквер возле завода Ильича, где подслеповатая Каплан стреляла в вождя, меня водили гулять. Ещё дальше, на Павловской улице, была детская поликлиника, а южнее неё для меня тогда земли не было.
На западе от Серпуховки – тоже мои места. В Морозовской больнице мне удаляли аденоиды, на Шаболовке работала моя мама, на Донском лежит мой отец. В эту сторону можно было дойти даже до парка Горького. Первого мая, когда парк открывался, мы шли туда с мамой, тёткой Маргаритой и двоюродными сёстрами, Татьяной и Ольгой, и по дороге мама покупала мне мороженое; я предпочитал самое дешёвое, ягодное в картонном стаканчике по 7 копеек. Теперь это, кажется, называется «сорбет».
К северу от Садового кольца находится классическое Замоскворечье драматурга Островского, с купеческими особняками и церквями. Есть соблазн сказать, что это тоже мой район. Не совсем так. Я всегда понимал, что я живу за чертой. Я и в Третьяковке в то время ни разу не был. Правда, во втором классе я ходил в модерновый особняк на Полянке, где размещался Дом пионеров, в кружок авиамоделирования. Увы, ни одна модель моя не взлетела, я продолжал клепать нелетающих уродцев из ватмана, в то время как мои товарищи по кружку уже вовсю запускали фанерные самолёты с моторчиками. А потом я просто взял и бросил туда ходить.
Нет, моим районом было другое Замоскворечье – как его назвать? Внешнее, дальнее? На восток от нашего дома по переулку, мимо Пионерских улиц, в то время застроенных какими-то деревянными домами, которые взрослые называли «трущобами», можно было дойти до Павелецкого вокзала. Перед вокзалом, на углу Дубининской, была библиотека, куда я ходил лет с восьми; брал я у них почти исключительно фантастику, перечитал её столько, что до сих пор смотреть на неё не могу. Внимательно обыскивал полки с фантастикой и каждый раз обязательно находил какие-то свежие поступления. Помню только одну нефантастическую книгу, которую я взял там и прочитал, «Пепел Бикини», но её автором, как на грех, был Аркадий Стругацкий.
Впрочем, и за Павелецким я тоже бывал, меня водили на Водоотводный канал к ортодонту, исправлять прикус пластинками (так и не исправили). А по дороге к ортодонту был киоск «Союзпечати», и через этот киоск я пристрастился к собиранию марок. Страсть советского школьника к филателии тогда удовлетворяли в основном две страны, Куба и Монголия. Слова «Монгол Шуудан» – «Почта Монголии» – были настолько популярны, что даже стали названием рок-группы. Впрочем, кубинские марки мне нравились больше. В этом киоске я однажды купил серию из шести марок с рыбами и расстроился, когда увидел, что у одной был оторван уголок. На этой марке была рыба дорадо – настолько экзотическая, думал я, что её наверняка не едят.
Мы, то есть я, мама и бабушка, жили на третьем этаже доходного дома, построенного в 1892 году, при царе-батюшке Александре III. Автор проекта, Иван Терентьевич Владимиров, умер в 37 лет через два года после его постройки, но успел выстроить в нашем районе ещё одно, более известное здание – Гурьевскую богадельню, из которой потом вырос Институт Вишневского.
Хотя я тогда не считал наш дом чем-то особенным. Простенький жёлтый фасад. Тёмный подъезд, который на питерский манер называли «парадным», потому что с площадки между первым и вторым, где покуривали «хулиганы» и из потолка торчали обгорелые спички, был выход на чёрную лестницу, которая вела во двор. По этой лестнице я выходил гулять в наш каменный мешок и мог часами чеканить резиновый мяч об стену.
Квартира номер 23, нам звонить – два звонка, потому что коммуналка. Но не как у Высоцкого, «на тридцать восемь комнаток всего одна уборная». И не «система коридорная», а прямоугольный холл, двери из которого вели в три комнаты, по одной на семью.
В самой большой, 22 квадратных метра, жили сионисты Додик и Фира. Фиру я видел чаще, она больше бывала на кухне. Угловатая женщина, сносившая попрёки в неряшливости в основном молча, хотя порой и её прорывало. Они очень хотели уехать в Израиль, к ним иногда приходили в гости другие сионисты и они допоздна слушали на магнитофоне сионистские песни. Они не давали мне спать, и я не очень любил сионизм. У них погибла дочь, попала под машину, и от этого они ещё острее ненавидели эту страну и ещё больше хотели в Израиль.
Была маленькая узкая комната, в которой обитала пожилая пара; его звали Иван, как звали её, не помню. Я иногда туда заходил и помню затхлый стариковский запах. Дядя Ваня вскоре умер, и тогда я впервые увидел крышку гроба, она стояла у нас в коридоре. Зачем там была эта крышка? Они выносили его в гробу прямо из тесной комнаты? Видимо, взрослые не разрешили мне досмотреть эту сцену до конца, поэтому от дяди Вани у меня в памяти осталось не тело его, не суета с выносом домовины, а помазок, стоявший на кухне рядом с бутылкой из-под итальянского вермута Moroni, с которой соседи ходили в гастроном за подсолнечным маслом. Он брился на кухне, за столом, стоявшим в дальнем углу от газовой плиты. В противоположном углу был стол сионистов, а наш стол находился посредине, между двумя окнами кухни, пол которой был покрыт широкими досками, крашенными коричневой краской.
Мы жили в комнате чуть поменьше, чем у Фиры и Додика. Что было в этой комнате? Платяной шкаф, стоящий не вплотную к стене, так что за ним была своего рода кладовка, где хранились бельё, раскладушка на случай гостей и искусственная ёлка на Новый год. Сервант, трюмо с зеркалом, швейная машинка «Зингер», радиола «Ригонда» на ножках, горшок с алоэ, две кровати, для мамы и для бабушки, и раскладное кресло-кровать с жёсткими красными квадратными подушками, на котором спал я; утром оно накрывалось колючим зелёным ковриком, а вечером раздвигалось с помощью хитрого механизма. Алоэ было растением полезным. Бабушка отламывала кусочек мясистого листа, выжимала сок и капала мне в нос от насморка, который был у меня почти всегда. Но после того, как я ложился спать, алоэ преображалось. В свете фонарей оно отбрасывало на стену и потолок ужасающую тень, которая меня пугала. Я не боялся рёва случайного ночного мотоцикла, не боялся куривших на лестнице «хулиганов». Моим страхом была тень от алоэ.
А где же в этой обстановке телевизор? Телевизор, чёрно-белый «Рекорд», появился позже. За XXIV съездом КПСС в марте 1971 года я ещё следил по радио; когда зачитывали приветствия от братских партий всего мира, среди них была телеграмма от коммунистов Аляски, и меня это так поразило, в такой восторг привело, что я побежал на кухню докладывать бабушке: «Нас даже Аляска поздравила!» И долго потом не мог успокоиться: надо же, Аляска…
В нашем доме было три этажа, если смотреть со стороны улицы. Но на самом деле был и четвёртый, заметный только со двора. Там жила тётя Вера, грузная старая брюнетка. Так вот, у неё был телевизор КВН. Я бывал у неё и смотрел на этом крошечном экране, 14 на 10 см, всё, что там показывали, в том числе и ту самую передачу КВН, которая была названа в честь телевизора. К экрану было принято приставлять большую линзу, наполненную водой или глицерином, для увеличения изображения, и она там была, но почему-то всегда стояла не перед экраном, а на полу, у стенки. Налито в неё ничего не было. Тётя Вера была больна, ходила на костылях и у неё в квартире всегда пахло лекарствами. Я даже не знаю, зачем я к ней вообще ходил, и не отследил момент, когда она умерла. Видимо, уже после того, как у нас появилось собственное окошко в мир и старый КВН стал мне неинтересен.
Потом сионисты всё-таки уехали; я впервые зашёл в пустую комнату, которую они оставили после себя. На полу были разбросаны какие-то бумаги, фотокарточки; помню, я сидел на полу в колготках и копался в этом добре, мне тогда было года три. Много позже мама мне сказала, что там была порнография.
В комнату, освобождённую от сионистов, въехала весёлая русская женщина Наташа с двумя детьми, Васей и Галей. У тёти Наташи была химия на голове, она работала на заводе. Тётя Наташа тоже давала жару. До нас она жила в заводской общаге. Однажды она позвонила в райком партии и заявила, что если ей не дадут жильё, то она выйдет с плакатом к американскому посольству и расскажет западным журналистам, как у нас в стране относятся к рабочему классу. Советской власти пришлось отступить и дать ей комнату. Моя бабушка была лояльнее, она как жена погибшего на войне писала лично Брежневу. Когда её старания увенчались успехом, и мы переехали в отдельную квартиру в Тёплый Стан, тётя Наташа смогла забрать себе и нашу комнату. Выходит, в практическом смысле она была поумнее.
Как в эту обстановку попала моя семья?
Моя бабушка Полина Львовна родилась в самом начале прошлого века в посёлке Новки под Витебском. Это был рабочий посёлок при стекольном заводе, основанном одним еврейским предпринимателем. Для управления заводом он выписал своих земляков или даже родственников, кажется, из Черниговской области, в том числе моего прадеда, который работал в заводской лавке. Новки известны как место последнего еврейского погрома гражданской войны. Банда пришла в посёлок в день зарплаты, так что по сути это было массовое убийство с целью ограбления, без нарочитой этнической подоплёки. Бабушка со своей матерью спрятались в подполе, бандиты увели прадеда и вместе с прочей администрацией завода расстреляли в ближайшем лесу. Ну, а куда моей родне было идти после этого? Пошли в Москву.
В Москве бабушка вышла замуж за Исаака Липкина, тоже приезжего; он заведовал швейной артелью, жили они близ Домниковки, в Докучаевом переулке. Потом всю артель посадили за троцкизм, а бабушка с маленьким ребёнком, моей будущей матерью, переехала на Стремянный.
В Москву мой дед так и не вернулся, обосновался в Каменск-Шахтинском, был там директором швейной фабрики, нашёл себе другую женщину, с которой моя бабушка, как ни странно, дружила; у меня хранится ворох поздравительных телеграмм, подписанных «бабушка Юля». Дед не очень долго прожил, умер в 1957 году.
Моя бабушка тоже нашла себе другого мужчину, русского по фамилии Дмитриев. Он погиб на фронте, где-то под Ленинградом, но успел стать отцом моей тётки Маргариты.
Моя мама, Галина Исааковна (сама она произносила своё отчество как Исаевна, так звучало чуть более по-русски), после войны окончила пединститут, несколько лет преподавала русский язык в Бузулуке, в целинном краю, потом вернулась в Москву, где работала сначала в спецшколе с изучением хинди и урду, а потом – и до конца жизни – во вспомогательном интернате номер 108; думаю, она перешла туда, потому что там больше платили: с умственно-отсталыми работать тяжело.
Теперь мне кажется моим и то время, когда я вот-вот должен был появиться, и то время, когда я уже был, но не мог ничего понять, и то время, о котором я уже что-то помню. 1961 год, когда полетел Гагарин – это ещё не моё время. А вот 1964-й – уже моё.
Это, наверное, из-за Люси. Моя сестра Люся умерла от лейкемии в 1964 году. Она вряд ли успела что-то понять на этом свете, ей было года четыре. У меня больше её младенческих фото, чем моих собственных. Если судить по ним, то Люся была туповатым ребёнком. Если бы она осталась жить, то не появился бы я. Вряд ли мама решилась бы на второго; по меркам того времени и Люся была поздним ребёнком: когда она родилась, маме было 32. Это уже была вторая её попытка, первый ребёнок сразу родился мёртвым и никакого имени не получил.
Вторая подряд неудача разрушила брак матери, от неё ушёл тот самый Караулов, фамилию которого я ношу. Он был мелколицый и востроносый, не тот типаж, в который я хотел бы пойти. Но исчезновение мужа не заставило мою мать отказаться от идеи вырастить ребёнка. И появился замысел меня. Оставалось ждать, пока в игру вступит хоть какой-нибудь отец.
Мой отец лежит на Донском. Он умер, его сожгли. Я никогда не видел его могилу. Но я и живым его ни разу не видел. Такой возможности он мне не предоставил, а искать его… я был слишком застенчив для этого. Я думал: у него своя семья, благополучная, порядочная, дом – полная чаша, и тут заявляюсь я. Бастард, о котором принято молчать.
Если бы я знал, что на момент рождения он не был женат и никому не мог изменять, зачиная меня с моей матерью. Он уже был к тому времени в разводе, а потом женился ещё раз, и его вторую жену Инну я однажды видел, мы с мамой шли на какой-то концерт, и она там тоже была. А потом отец женился в третий раз и лет через шесть лет умер, не дожив до 54.
То есть его законные дети были по отношению к нему примерно в том же положении, что и я. Он сбежал от первой жены, когда моей старшей сестре было два года, а когда моей младшей сестре было пять, он и вовсе ушёл из жизни, ушёл от всех женщин, детей, коллег. Но даже если бы я всё это знал, я бы поленился его искать, я как-то привык жить без него. Да и времени у меня было немного: мне было шестнадцать, когда его не стало.
Личность моего отца не имеет прямого отношения к моей биографии, поскольку не оказала на меня никакого влияния. Подробности о нём разузнала моя старшая дочь, когда мне было уже за пятьдесят. Она и познакомила меня с моими сёстрами, Ириной и Ядвигой. Моего отца звали Александр Александрович Норейко, на момент моего зачатия он был директором интерната, в котором работала моя мама.
Он прожил жизнь под фамилией своей матери, польско-литовской красавицы, она была врачом и не дожила до шестидесяти. А отцом его был Александр Давидович Сабельфельд, родом из Екатериненштадта, ныне город Маркс. Он был офицером НКВД, служил в охране Кремля, его посадили в конце тридцатых, потом выпустили и с началом войны сослали как поволжского немца в окрестности Томска. Там он, как и другой мой дед, завёл в ссылке новую семью, да так и остался в Сибири.
Мой отец хотел стать военным, поэтому и взял фамилию матери, надеясь сойти за украинца. Поступил в военное училище, но сомнительное происхождение со временем раскрылось. Из училища его выгнали, поэтому ему пришлось поступить в педагогический и стать дефектологом. Вот в процессе такого исторического бильярда и столкнулись на какое-то время мои мама и папа.
Мои сёстры думают, что я обижаюсь на отца, и надеются, что я со временем его прощу. Но у меня никогда не было обиды, я не могу сказать, что мне его не хватало. Я вырос не в аномальной, а в довольно типичной семье: бабушка, мама и я. Многие из моих сверстников жили в таких же семьях: мальчикам в них было попроще, как мне кажется, а девочкам посложнее. Если бы у меня в детстве перед глазами был пример семьи, в которой был отец и которая по этой причине была счастливее, веселее, свободнее, то я бы, пожалуй, на своего отца обиделся. Конечно, такие семьи были, но только не вокруг меня. У моих кузин был отец, и что с того? Это был пролетарий по фамилии Морозов, он их бил и бил их мать, мою тётку Маргариту, и все они были счастливы, когда он от них свалил. У моей троюродной сестры Светланы был отец, я его помню, они тоже снимали дачу в Малаховке, и он кормил нас щучьей икрой во дворе, в тени садовых деревьев. Не знаю, был ли он хорошим отцом; со временем Светлана выросла в мужиковатую девушку, которая всем своим видом показывала, что в жизни ей не на кого надеяться, кроме самой себя.
Проблема моя была не в том, что в моей жизни не присутствовал этот конкретный отец, а в том, что не нашлось ни одного взрослого мужчины, которому было бы интересно моё воспитание. Кстати, почему отец-то решил не иметь ко мне никакого отношения? Сёстры говорят так: он посмотрел на меня и подумал, что перед ним ребёнок с особенностями развития. А он понимал в этом толк, он был на тот момент директором вспомогательной школы-интерната. То есть у меня тут нет оснований ему не доверять. Теперь, сопоставляя какие-то вещи, я понимаю, что особенности развития у меня были. Наверное, они до конца так и не исчезли, просто развитие давно закончилось.
Думаю, отца не волновало, что вот этот конкретный ребёнок будет расти безотцовщиной. Он всю жизнь работал с детьми, у которых не было родителей, ведь именно от таких детей отказывались и таких детей прежде всего зачисляли в дебилы. Им он был нужнее. А у меня всё же была семья.
Я не думаю, что моя мама любила моего отца. Мне кажется, она просто выбрала самого умного мужчину в своём окружении. Он сделал своё дело и больше этим проектом не занимался. Тут он был в своём праве.
Я не помню, чтобы у моей мамы бывали другие мужчины. Было время, когда за ней ухаживал грузин по имени Карло. Там, конечно, ничего серьёзного не получилось; могу вообразить, насколько нелепой казалась моей матери идея выйти замуж за грузина. Я этого Карло не застал, знаю о нём понаслышке, но с его подачи к нам стали ездить его тбилисские приятели, которым надо было где-то остановиться в Москве. Мы, конечно, жили втроём на двадцати метрах, но московского гостеприимства это не отменяло. Когда приезжали гости, бабушка ложилась на раскладушку, а гостя или даже двух можно было положить на бабушкин диван, за сорок лет службы насквозь проеденный клопами, над которым висел один из самых характерных элементов бытовой культуры того времени – гобелен с оленем.
Чаще всего к нам наведывался дядя Валико. Его дары были всегда просты: грузинский чай, пахнущий какой-то прелью, и ворох лавровых листьев. Ни варенья, ни аджики, ни чурчхелы. Это был бедный и честный грузин, стройный, с густыми седеющими усами, пропахшими табаком. Он работал машинистом поезда «Тбилиси – Москва». И вот что интересно: лет в шесть-семь, когда все дети вокруг мечтали стать космонавтами, я бредил железной дорогой. Причём не игрушечной, производства ГДР, на которую у нас просто не было денег, а настоящей. Придя на собеседование в школу перед тем, как меня зачислили в первый класс, я с жаром рассказывал учительнице о том, что пройдёт ещё два, от силы три года, и я проложу прямо к воротам школы железнодорожную ветку. Может быть, это было влияние дяди Валико, но вот что странно: он ведь совсем не рассказывал мне о своей работе, я просто знал, кем он работает. Неужели я ухватился за первого попавшегося мужчину, инстинктивно признав его авторитет? Хотя совсем недавно я узнал, что мой двоюродный дедушка Сигизмунд Сильвестрович был в Ленинграде великим учёным в области путей сообщения. Так что, может быть, это была странная игра генов.
Я был несадовский ребёнок. Правда, одно время бабушка пыталась водить меня в детский сад куда-то на Строченовский переулок. Говорят, этот этап необходимо пройти ради социализации, дескать, несадовским детям потом сложнее в школе. Но там мне были совсем неинтересны дети, не помню, чтобы я с ними общался, зато там были целые ящики игрушек. Особенно мне была интересна одна машинка, но всякий раз, когда мне приходило в голову поиграть с ней, она была занята каким-то другим ребёнком, а стоять в очереди у меня терпения не хватало. Однажды я уговорил бабушку отправиться туда пораньше, к самому открытию садика, и мы шли в темноте, по хрусткому снегу, над перекрёстком одиноко мигал светофор. Я пришёл самым первым, вцепился в вожделенную машинку, но минут через двадцать она мне надоела, и я отдал её какой-то девочке. К счастью, вскоре детский сад в моей жизни кончился.
А вот школа – это совсем другое дело. Свою первую школу я если не любил, то по крайней мере переносил безболезненно. Вообще-то меня сначала хотели отдать в престижную английскую школу в районе Добрынинской площади, но там строго спросили: а ваш ребёнок часто болеет? Болел я очень часто. Во время последней школьной диспансеризации я посчитал по медицинской карте, что за все чудесные годы с первого по десятый класс мне вызывали врача на дом 74 раза. А до школы всё было ещё хуже. Поэтому от идеи изучать с малых лет иностранный язык пришлось отказаться. Так я попал в школу с запоминающимся номером 555. Она была совсем близко от дома, за сквериком, обсаженным жёсткими кустарниками и уставленным тяжёлыми чугунными скамейками и урнами.
Школа со страшной судьбой. Уже когда я уехал из этого района, ей на какое-то время повезло, она стала школой при Плехановском институте. А потом, уже в новом веке, что-то случилось, и она была брошена в одно мгновение, с мебелью, учебниками и стендами, где хранились спортивные кубки. Стала притоном бездомных и наркоманов. В конце концов её пожалели и снесли, сейчас на её месте стоит огромный белоснежный корпус РЭУ им. Плеханова.
Мою первую учительницу звали Лидия Александровна. В школе я сразу стал одним из двух лучших учеников; наравне со мной шёл мелкий чёрненький Дима Дмитриади. Но дружил я больше всего с мальчиком, который учился хуже всего. Мы были похожи. Его звали Андрей, но ведь и меня мама сначала хотела назвать Андреем. Он тоже носил очки и тоже жил в коммуналке с еврейской бабушкой. Но только он был умственно-отсталый. Эсфирь Соломоновна стала одним из первых читателей моих стихов. Гораздо позже, когда нам было по 18, Андрея приняли за меня на похоронах моей матери.
Я ходил к ним в гости, на праздники и просто так. Они жили в конструктивистском доме с пристроенным лифтом, во дворе за гастрономом, который называли «Ильичёвским». (А напротив «Ильичёвского» был магазин по прозвищу «Арсеньевский», в честь переулка, который незадолго до моего рождения переименовали в улицу Павла Андреева.) На праздниках у них собирались еврейские родственники и знакомые, которые ели фаршированную рыбу, обсуждали, кто из звёзд кино и эстрады «наш», и переходили на шёпот, произнося слово «раввин».
В этом доме жил ещё один мой одноклассник, Миша Нечипорук. Он был румяный и добродушный и любил бороться, но без злости. Ещё одного нашего мальчика все звали почтительно: Алексей Николаевич Косыгин, и каким-то образом он в свои девять-десять лет был похож на тогдашнего престарелого главу правительства. Он жил в домике с деревянным вторым этажом у трамвайных путей и, в отличие от меня, собирал марки всерьёз. У него были и английские марки с королевой, и нацистские. Как-то я у него выменял марку британского владения Антигуа с солдатиком в красном мундире.
В третьем классе, весной, моим любимым предметом в первый и последний раз стала физкультура: нас отправили учиться плавать в бассейн «Москва». А это означало – поездки каждую неделю на метро в компании одноклассников, без взрослых. Кроме двух пятачков на проезд, мне ещё выдавали 20 копеек на эскимо. И, между прочим, тогда я выучился плавать довольно неплохо.
Однажды мы вышли из бассейна, поднялись на Волхонку и услышали траурную музыку. По улице на лафете везли тело маршала Гречко, покойного министра обороны. Вскоре из магазинов исчезла гречневая крупа, и в народе появилась поговорка: «Был Гречко – была гречка. Умер Гречко – пропала гречка».
Я не очень расстраивался, когда мы уехали из Замоскворечья в Тёплый Стан. Отдельная квартира, в которой у меня появилась своя комната. Новый дом, ещё пахнущий свежей краской и штукатуркой, не заселённый до конца. Почти год жизни без телефона. Свалка бетонных плит во дворе вместо детской площадки. И – лес, начинающийся прямо за домом.
Вместо Малаховки меня стали отправлять в пионерлагерь. Я туда ездил вместе с мамиными учениками-олигофренами и не могу сказать о них ничего плохого, дети как дети.
Я обязан вспомнить пионервожатую Надю. Она узнала о том, что я пишу стихи, и попросила написать стихотворение в честь фестиваля молодёжи и студентов, который вот-вот должен был открыться на Кубе (это был 1978 год). Я это стихотворение придумал, и мы его послали в «Пионерскую правду». И в день открытия фестиваля газета вышла с моим стихотворением. В 12 лет – публикация в центральной прессе!
После этого меня ещё раз опубликовали в «Пионерке», а на третий раз забраковали – сказали, недостаточно искренне написано.
Школа на новом месте мне нравилась меньше, я там ни с кем не подружился, кроме троечника Кости Шулепова, который жил в нашем доме. Впрочем, главные радости ждали меня за пределами школы.
Когда мне было 13, мама решила, что мне не хватает физического развития, и отвела записываться в секцию лёгкой атлетики Дворца пионеров на Ленинских горах. Выполнив эту формальность, чтобы ни разу уже в этой секции не появиться, я попутно записался в кружок юных поэтов. Таких кружков во дворце было два. Одним руководила и по сей день известная Зинаида Николаевна Новлянская, там вдохновенно читали Лорку, пели, взявшись за руки, Окуджаву, оттуда вышли такие видные иноагенты, как Дмитрий Быков и Александр Архангельский. Но я был в другом кружке, его вела поэтесса Татьяна Андреевна Никологорская. Мне до сих пор трудно поверить, что было ей тогда всего 26. Внешне скорее не строгая, но серьёзная, из вологодских староверов. Вот с ней мы изучали совсем другой репертуар. Нет, она не оставила нас без Пастернака и Мандельштама, читала нам наизусть стихи Набокова про теннис, но главными у неё были Сергей Есенин, Ксения Некрасова, Михаил Пришвин, Николай Рубцов, Василий Шукшин. Из живых на тот момент поэтов – Давид Самойлов, Юрий Кузнецов, Владимир Соколов, Василий Казанцев. А о Володе Полетаеве, погибшем в 19 лет, в то время я и не мог бы узнать ни от кого, кроме Т. А., которая с ним дружила в юности. Что же касается Евтушенко, Вознесенского и Рождественского, то мы сразу условились, что таких поэтов не существует. Я и не спорил, мне они с самого начала не понравились.
Мои надежды на немедленный успех в этом кружке были преждевременны: на первом же обсуждении Т. А. меня разгромила, высмеяла и посоветовала больше стихов не писать. Я, тем не менее, упорствовал, через некоторое время начал писать что-то более интересное и приобрёл уважение кружковцев, которое ещё больше укрепилось, когда я победил конкурсе с огромным трактатом о Сократе и Христе.
Моим главным приятелем в кружке был Серёжа Илюшенко, мальчик из очень хорошей семьи. После занятий я стал часто заглядывать к нему домой, благо жил он на полпути между дворцом и метро. Их квартира была непохожа на нашу: множество книг, в том числе антикварных, а ещё иконы, альбомы по искусству. Его отец был одним из видных прихожан о. Александра Меня и сыграл свою роль в моей жизни: от него я впервые получил Евангелие. Отец был хорошо знаком с Солженицыным, Галичем. Мы слушали записи Галича, сделанные в этой самой квартире. Ещё мы с Серёжей много хулиганили – например, во время советских предвыборных кампаний очищали от наглядной агитации целые кварталы, били стеклянные стенды, срывали красные флаги. Слава богу, нас ни разу не поймали.
Помимо поэзии, второй стороной моей жизни стала география. В конце седьмого класса я поступил в Школу юных географов при МГУ. Зачем мне это было нужно?
Во-первых, я хотел учиться в МГУ, причём желательно на самом верху главного здания, где и находился географический факультет. Во-вторых, мне захотелось себя изменить, уж слишком я был домашним мальчиком. А здесь всё-таки была жизнь, больше похожая на настоящую. Здесь нужно копать почвенные разрезы; целый день ходить по полям на лыжах, беря пробы снега; делать наброски в полевой книжке, отбиваясь от комаров. И, разумеется, ставить палатки, разводить костёр, варить кашу с тушёнкой…
В общем, в 1983 году я поступил на геофак, учился на кафедре геохимии ландшафтов и географии почв и ни секунды не жалею о полученном образовании, хотя, по сути, так и не работал по специальности. Это было образование неглубокое, но очень широкое, и в моих стихах до сих пор встречаются обрывки тех знаний и того опыта.
В 1986 году я попал в поэтическую студию Ольги Чугай. Мне кажется, важно помнить об этом человеке. Для «взрослых» поэтов она вела «Лабораторию первой книги» в ЦДЛ, где блистал ярче всех Иван Жданов и где бывали, к примеру, угрюмый верлибрист Арво Метс и жизнерадостный верлибрист Ян Шанли, который в годы реформ стал торговать мясом, а как поэт куда-то потерялся. А с двадцатилетними она занималась в разных местах, например, в библиотеке имени Светлова на Садовом кольце. В центре внимания там был Филипп Николаев – первый юный гений, открытый Ольгой Олеговной; с него-то и началась студия. Был Денис Новиков, который уже к 19 годам написал нечто стоящее, включая стихотворение «Чукоккала». Заходили Виталий Пуханов и Константин Кравцов, известные ныне поэты. Была Анастасия Харитонова, талантливая девушка, которая впоследствии покончила с собой. И была Юлия Доленко, которая в стихах, по мнению самой Ольги Чугай, запросто уделывала их всех. Очень скоро она стала моей женой.
После получения диплома (этот момент почти совпал с рождением моей первой дочери Галины) я три с лишним года работал советским «инженером 1-й категории», то есть околачивал груши на рабочем месте и периодически ездил в библиотеку читать перестроечную прессу. Сначала я делал это в отделе радиационной безопасности НИКИЭТ (этот институт разработал реакторы чернобыльского типа), а потом в совсем уж неказистой конторе «Востокмебель», в особняке, где позже разместилось грузинское посольство. Перед самым концом этого трудового разврата я от нечего делать поступил на заочное отделение Литинститута, на семинар Евгения Винокурова, но проучился там всего один семестр.
Должен сказать спасибо банде Гайдара – Чубайса. Благодаря их радикальным реформам я вынужден был искать настоящую работу, на которой надо пахать. И в первый же месяц 1992 года я стал обозревателем экологической газеты «Спасение». Платили там тоже немного, но впахивать приходилось. На эту работу меня взял бывший муж хорошей подруги моей наставницы Татьяны Андреевны, и я горжусь, что работал с этим человеком – сначала в «Спасении», а потом в «Народной газете». Это был Михаил Бекетов, который позже боролся за Химкинский лес и отдал жизнь за правду.
Все 90-е годы я стихов не писал, не до этого было. Убегал от нищеты, потом стал заниматься переводами и научился зарабатывать, растил одну дочь, затем, в 1998 году, родилась вторая дочь, Софья. А стихи вернулись, когда в жизни появился интернет. Сначала я его страшно боялся и использовал только для работы, но в один прекрасный момент обнаружил, что в Сети есть литературные сообщества, где можно просто взять и вывесить свои тексты. Так я понял, что у меня в принципе может быть аудитория, а значит, надо попробовать что-то написать. В 2000 году меня впервые опубликовали в Сети (был такой сайт «Салон», которым командовала Галина Анни), затем я стал заглядывать в сетевой поэтический клуб «Лимб», в ЛИТО имени Стерна (это был ресурс Александра Житинского), и, наконец, меня заметил Дмитрий Быков, с которым мы подружились на 14 лет.
Дальше потянулась литературная жизнь, которая оказалась довольно рутинной: выступления в клубах, библиотеках и т. п., поездки на фестивали, регулярные публикации в толстых журналах, издание книг раз в три года. В 2008 году две недели провёл в Америке, в 2009 году участвовал в Венецианской биеннале. В 2011 году занял одно из призовых мест в Григорьевской премии, которой руководил Виктор Топоров; в последующие годы я был в этой премии и номинатором, и членом жюри, и координатором. С подачи Топорова я с конца 2012 года стал писать в «Известия» и вот уже 13 лет занимаюсь публицистикой.
В 2014 году я радовался тому, что Крым наш, всей душой болел за Донбасс, был потрясён трагедией 2 мая в Одессе и по этому поводу получил множество проклятий от коллег по поэтическому цеху. В числе этих коллег был и Быков. Зато на одном из эфиров Первого канала ко мне подошёл человек и протянул руку. Это был Захар Прилепин. Позже (в 2016 году) он включил мои стихи в сборник «Я – израненная земля», и это было предвестием того нового литературного контекста, в котором я нахожусь с февраля 2022 года.
Избранное
Из книги «Упорство маньяка» (1999–2009)
Сараево
- На небе есть царапина —
- Лазурная дыра.
- Мне в той дыре Сараево
- Привиделось вчера.
- Я слышал песенку одну
- В дорожном кабаке
- На непонятном, но родном,
- Славянском языке.
- Кто затащил меня туда,
- В каком похмельном сне?
- Махорка, жирная еда —
- Все это не по мне.
- Метались девки вверх и вниз
- В истерзанном белье,
- А на эстраде пел на бис
- Безумный шансонье.
- Он был не стар, но лысоват,
- С губами в пол-лица.
- Он каблуками рисовал,
- Манжетами бряцал.
- Он извивался, как гюрза,
- Как дикий зверь, хрипел.
- Внезапно скатывался за
- Глотком вина – и пел
- На простенький, на пошленький,
- На шустренький мотив:
- «Сараево, Сараево,
- Сараево – прости!»
- Он преломлял и отражал
- Фасетками зрачка
- Победный гогот горожан
- И горечь шашлыка,
- Чесночный дух, табачный чад,
- Щеки продажной пыл —
- И я запомнил все подряд,
- А музыку – забыл.
- Она везде со мной была,
- Ревнуя к портмоне.
- Она вино со мной пила,
- И морщилась на дне.
- Она взвивалась до высот,
- Как камень из пращи,
- Но дзынь – и кончилась, и вот
- Ищи её – свищи.
- И оттого-то сердце мне
- Опутала печаль.
- Не жалко мне эрцгерцога
- И принципов не жаль.
- Не жаль ни принцев, ни солдат —
- Их нарожает свет,
- А жалко только музыку,
- Которой с нами нет.
- Теперь, последнее звено
- Из рода неумех,
- Я – тень её. Мне суждено
- И велено за всех
- Тех, кто пригубил на пятак
- И кто свалился с ног,
- Тех, кто за деньги и за так
- В сырую землю лёг,
- Твердить с улыбкой фраера
- Глухой речитатив:
- «Сараево, Сараево,
- Сараево – прости!»
- Зачем, какую манну мне
- Вымаливать у птах
- Губами деревянными
- На майских холодах?
- Перебинтован марлей туч
- Лазоревый порез.
- И это – только первое,
- Чего нам ждать с небес.
«Жизнь просто пройдёт по Остоженке…»
- Жизнь просто пройдёт по Остоженке,
- До Обыденского угла,
- И цветочница в тёртой кожанке
- Не подскажет, где та прошла.
- Эта жизнь пройдёт незамеченной
- Мимо нищего, и мента,
- И печальной гулящей женщины
- С сигареткой в изломе рта.
- Облекаясь листвой, афишами,
- Повернёт на площадь, тиха,
- И таксиста рожок обиженный
- Троекратно даст петуха.
- Я же, взглядом минуя вывески
- И шатучих лесов настил,
- Подивлюсь, как Илья Обыденский
- Паруса свои распустил,
- Как бушприта его сияние
- Достигает надземных вод,
- Как в зарницах ликуют здания,
- И не жалко, что жизнь пройдёт,
- Что прорежется нотой альтовой
- И до самых Тверских Ворот
- Этот коврик свернёт асфальтовый
- И с собой его унесёт.
Вослед Олейникову
- Ещё рыдает фисгармония
- Лесов, взметённых на попа,
- Но поселилась дисгармония
- В скорлупке серого клопа.
- Он выбирается из трубочки
- Листа, где был его постой,
- Как трезвый Флинт из тесной рубочки
- Перед ревущей широтой.
- За ним – осин кривые вытачки,
- Ночного холода напасть,
- А перед ним на тонкой ниточке —
- Весь мир, который должен пасть.
- Ползёт, ползёт, кольцо бензольное,
- Терцинной желчи торжество,
- И почва нищая, подзольная
- Дрожит под лапками его.
Гамлет
- Мне олово в губы и в ухо свинец,
- Мне сердце свела иглокожесть,
- И я помираю, как Гамлет-отец,
- В саду на скамеечке ёжась.
- Оставьте, цикады, уйми, саранча,
- Свои маникюрные пилки.
- На мне рубероид с чужого плеча
- И в темя втыкаются вилки.
- Механики сцены ещё на пути,
- И ветви звенят номерками,
- И рыбная спинка лежит на кости,
- И трубы не пыжатся в яме.
- А я помираю, как Гамлет-старик,
- Микробом в пустом балахоне.
- Не знаю, явлюсь ли хотя бы на миг
- На вашей дощатой ладони.
- Родные никак не приходят за мной,
- Но гоголем, но Фортинбрасом
- Идёт победивший, идёт заводной,
- Весёлый искусственный разум.
«Летний вечер с лицом китаёза…»
- Летний вечер с лицом китаёза,
- Расставанья медлительный жар.
- Наши встречи – высокая проза,
- Только я не люблю этот жанр.
- Я не жалую Кафку и Пруста —
- Жирный минус мне в эту графу,
- Но до рези, до лобного хруста
- Жадно вчитываюсь в Ду Фу.
- Видишь, осень стоит на пороге,
- Как повстанцы у наших столиц.
- Я – чиновник на голой дороге,
- Одуревший от скрипа ступиц.
- Знаешь, нужно полжизни учиться,
- Голодать, подниматься чуть свет,
- Чтобы взять в собеседники птицу
- И бамбука услышать совет.
- Иероглифов пни и коряги
- Корчевать, утопая в поту,
- Чтоб на рисовой плотной бумаге
- Беглой тушью прорвать немоту.
- Ну, а толку-то? В масляной дымке,
- Вместо глаз, удивлённых навек,
- Ждут налоги, суды, недоимки,
- Анонимки, доносы наверх.
- И нетрудно за всей круговертью,
- Как со сменщиком, в зябкую рань
- Разминуться с любовью и смертью
- По пути из Лишани в Фэнсянь.
- Лишней косточкой бегать по счётам
- И мотаться ольхой на ветру,
- Вспоминая – да ладно, да что там! —
- Домышляя, как сон поутру,
- Этих линий графитовый шорох,
- Полнолунья расслабленный свет,
- Эти блёстки в твоих разговорах —
- Словно плещется рыба в озёрах,
- На которых следов наших нет.
- Что ж, когда-то мы были большими
- И с драконами дружбу вели,
- А теперь – только полое имя,
- Сыпь и перхоть на коже земли.
- Ты наешься интригою праздной,
- Я сбегу от тебя, невредим.
- Императорской жёлтой и красной,
- Гордой осенью – мы победим.
«Поколение дворников и сторожей…»
- Поколение дворников и сторожей
- До отвала наелось своих миражей,
- Отмело, отплясало, отпело.
- А мы – поколенье ежей и ужей,
- Мы любим конкретное дело.
- Изготовить товар, заработать деньжат,
- Одарить леденцами ежат и ужат
- И с женой позабавиться плотью.
- И пальцы с похмелья у нас не дрожат —
- Сжимаются твёрдой щепотью.
- В нас – муштра цеховая и мужество каст.
- Упоительно знать, что никто не подаст,
- И приветствовать небо скупое.
- Меж веком и веком сереющий наст
- Не хрустнет под нашей стопою.
- Что ж, дивись, приживальщик прокуренных нор,
- Как ловка моя вилка и нож мой остёр,
- Как, припомнив былую породу,
- В бокале, и в венах, и в ванне – на спор! —
- Портвейн превращается в воду.
«Под этим небом цвета военной стали…»
- Под этим небом цвета военной стали,
- Вернее сказать – похмелья седого бурша,
- О Господи, зачем ты меня оставил?
- Пожалуйста, не делай этого больше.
- Ты сбежал по лестнице, пахнущей кислой снедью,
- В оглашенный сад, оплетённый дождём по горло,
- Как бутылка рейнского; тронутый мелкой медью
- Райских яблочек – и сияющий ею гордо.
- Ты скользишь за стволами, а я за окнами прею.
- В прятках, в салках – боюсь, наш с тобою талант неравен.
- Припускает ливень, и пресный огонь кипрея
- Выжигает меж нами тропки от самых ставен.
- Любимая совсем меня позабыла,
- Не пришлёт под вечер ни пирогов, ни пышек.
- Любимая, ты и вправду меня любила,
- Или это блики в глазах от небесных вспышек?
- Я возьмусь за ум, перестану сражаться в кости,
- Куплю тебе зонтик с ручкой из кипариса,
- Только ты ко мне не гнушайся хотя бы в гости
- Приходить под прежней маской стыда и каприза.
- Простите меня, члены гильдии, горожане,
- Что я вас не вывел из плена, как мама-утка,
- Не повис на древе, как память о баклажане,
- И не исчез с концами на третье утро.
- Я пойму, исправлюсь, я буду отменных правил,
- Поршнем сырого ветра прочищу сердце.
- Только вот, Господи, зря ты меня оставил —
- Лучше оставь жестянщика по соседству.
«Ах, если бы наши дети однажды стали дружны…»
- Ах, если бы наши дети однажды стали дружны,
- Ловили друг друга в сети и вместе смотрели сны,
- А мы бы, следя за ними небрежно, одним глазком,
- Болтали про жизнь, про книги бесхитростным языком.
- Есть у тебя два сына – в устах молоко и мёд.
- А у меня – две девочки, и кто их тоску поймёт,
- Когда у оконных петель гадают они, куда
- Ведёт реактивный пепел сквозь ветви и провода?
- Но ты проживаешь в Риме, в гудящем медном тазу,
- Куда из своей провинции навряд ли я доползу.
- Твоя высока веранда, в ограду закован сад.
- Вишнёвой смолой джаз-банда тебя обдаёт закат.
- Твой муж так умён, я знаю: Платон перед ним – осёл.
- И я в низовьях Дуная отраду свою нашёл.
- Нет, нам не терять рассудка, не прятать в шкафу скелет —
- Порхающий бог-малютка для нас пожалел стилет.
- Есть что-то сильней любови, и это сближает нас.
- Наверное, птичьей крови озноб в капиллярах глаз.
- Наверное, резкий профиль – излом носовой кости.
- Наверное, ливнем с кровель грохочущее «прости».
- Нам день заполняет очи крылами своих химер,
- А что остаётся к ночи? Вот – детушки, например.
- Пускай они встанут рядом, ладонью крепя ладонь,
- Пока не побило градом, пока не пожрал огонь.
- Но ты провожаешь утро на запад – как на войну,
- Кофейную шлюпку утлую под краном пустив ко дну,
- И светятся между нами – как в луже горит листва —
- Британские, и Азорские, и Бермудские острова.
«Ты будешь у меня плодоносить…»
- Ты будешь у меня плодоносить,
- Ты будешь воду вёдрами носить,
- Печь пироги на свадьбы и крестины.
- Всей наготой вбирая наготу,
- С тобой я в землю бедную врасту,
- Пусть обо мне поплачут де кюстины.
- С тобой я открываю материк
- Евразию. Ещё я не привык
- К твоим местам, то узким, то обширным,
- Но в голове хозяйничает страсть,
- И мне к родным могилам не припасть
- Так, как к твоим халатикам и ширмам.
- Ещё, когда ты выключаешь свет,
- Твой чёрный волос делается сед
- И судорога стягивает ласку.
- Но всё равно – ты девочка моя,
- Отбитая у сил небытия
- Раскосая смешная кареглазка.
Басманный шансон
- С шампанским, с красною икрой,
- Предлистопадною порой
- Я еду к девочке своей,
- К волшебной девочке своей.
- Водила – вечный армянин,
- И путь отчаянно забит,
- И солнца жёлтый георгин
- Над перекрёстками рябит.
- А я Всевышнему пою:
- Что делать мне в твоём раю?
- Оставь мне девочку мою,
- Шальную девочку мою.
- Оставь щербатые полы,
- Чужой, невыметенный дом,
- И глупый смех, и след иглы
- На тонком сгибе локтевом,
- Гречишный мёд её очей
- И в тяжких бёдрах полынью.
- Возьми весь город – он ничей,
- Оставь мне девочку мою.
- Оставь мне смерть мою и жизнь
- В том виде, как я их нашёл:
- Облупленные этажи
- Басманных, мелких произвол
- Соседок, ветра флажолет,
- Палаток хладное гофре,
- Манящий цитрусовый свет
- Ментовских окон во дворе.
- У чёрной ямы на краю
- Молю не «Господи, спаси» —
- Оставь мне девочку мою,
- La Belle Dame sans Merci!..
- Кряхтит и ёрзает таксист,
- Окурком тычется в золу,
- И на лету – последний лист
- Для нас мигает на углу.
Ниневия
- К небу уходят растения,
- Мимо ветвей наугад
- Рыба плывёт нототения,
- Очи-тарелки горят.
- В ней – осенённые шпилями
- Улицы, полные льда.
- В ней черепичными килями
- Кверху – кемарят суда.
- В ней дорогие покойники
- Бритвенной пены свежей
- И берегут подоконники
- Клинопись меж этажей.
- В ней – поцелуев недодано
- И недодарена брошь.
- В ней уживается мода на
- Брюки-бананы и клёш.
- Так уплывает Ниневия —
- Город с неверной душой,
- И остаюся на древе я,
- Выплюнут рыбой большой.
«Я полюбил весёлого суккуба…»
- Я полюбил весёлого суккуба,
- И между нами дружба началась.
- Что мне Гекуба, что ему Гекуба?
- Гекубе – время, а потехе – час.
- В одной из комнат брошенной квартиры,
- Где шпиль вокзала целился в окно,
- Нам подавали яблоки сатиры
- И бассариды – красное вино.
- Но в день, когда под талой стекловатой
- По всей Москве дороги развезло,
- Когда Гекуба, сделавшись Гекатой,
- Искала в нас ответчиков за зло,
- В поту, в бегах, в чужом автомобиле
- Мне молвил демон нежным голоском:
- «Как жмут сапожки! Милый мой, не ты ли
- Мне раздвоил копытца языком?»
Офелия
- Офелия в могильщики ушла.
- Не женское занятие, не спорю.
- Топиться проще: в пруд – и все дела,
- И смерть быстра, как сплетня в Эльсиноре.
- А тут – лопата каторжно тяжка
- И тошно от усталости и боли,
- Но постепенно свыкнется рука,
- Ороговеют рваные мозоли.
- И можно будет челюсти разжать
- И напевать под звук пастушьей дудки:
- «Все сорок тысяч – будете лежать
- Вот тут, рядком – до ангельской побудки!»
- И, череп очищая от комков
- Бесплодной и прилипчивой морены,
- Промолвить: «Гамлет? Вот ты стал каков!
- Не то чтоб бедный – так… обыкновенный».
- Другим – любовь до гробовой доски,
- На праздники – бессмысленные цацки,
- А ей – четыре слова: «Мужики —
- Козлы и пидоры». Как это есть по-датски?
«Тебя оставляла бессонница…»
- Тебя оставляла бессонница
- И ты засыпала, когда
- Моя оловянная конница
- Врывалась в твои города.
- Что делать – с драконами биться ли?
- Пограбить? – не знали вполне
- Мои горбоносые рыцари
- В твоей узкоглазой стране.
«Мне жизни не надо и смерти не надо…»
- Мне жизни не надо и смерти не надо —
- Ни к той, ни к другой не готов.
- Оставьте меня попечителем сада,
- Садовником ваших садов.
- Где тысячью лезвий мерцает ограда,
- Где полчища диких котов,
- Я буду смотрителем вашего сада,
- Хранителем ваших плодов.
- Растут у ограды кизил и крыжовник
- И выше, аллеями – лавр,
- И рыжей дорожкою ездит садовник —
- Машиною ставший кентавр.
- Он ветви стрижёт и срезает ножами
- Древесных грибов пастрому —
- Так вы б меня взяли, когда уезжали,
- В посильную помощь ему?
- Весь день я бродил возле барского дома —
- Подошвы в пудовой грязи —
- И старых зеркал серебристая дрёма
- Сверкала мне сквозь жалюзи.
- Весь день я высматривал в листьях смородин
- Жеманного веера «да»,
- Но нет мне ответа, и сад ваш бесплоден,
- И где вы теперь, господа?
Саламин
- Мне бы силу Солоновых песнопений,
- Ровный голос горше степной полыни,
- Я бы встал на площади на колени
- И промолвил слово о Саламине.
- Ах, Саламин-Саламин, заповедный остров,
- Игристое вино, полумесяц бухты.
- Память о нём – как корабельный остов:
- Мачты вырваны, соль разъедает буквы.
- Ваши пьянки быстрей, чем когда-то танки,
- Пьёте вы – «Чтоб стоял», а стоит едва ли.
- Не обижайтесь, граждане и гражданки —
- Свой Саламин вы начисто про… моргали.
- Ваши дети играют с заморским плюшем,
- Дочери ваши лягут за горстку меди.
- Цезари ваши, приученные к баклушам,
- Изредка в бубны бьют о былой победе.
- Беглым рабам вы отдали побережье,
- Ветер свободы – варварам Иллирика.
- Разве что гимны поёте свои как прежде,
- Только не стоязыко, а безъязыко.
- Славно вы протоптали дорогу к хлеву,
- Сало себе наели и толстый волос.
- Память чужая горше чужого хлеба —
- Разве ей страшен мой дребезжащий голос?
Города
- В Питере питерцы тихо живут,
- Кислые каперсы тихо жуют,
- Нежно жуют артишоки:
- Люди, кто видели – в шоке.
- А москвичи на речонке Москве
- Прочно погрязли в моркве и ботве,
- В репе, редиске и хрене,
- Стоя в реке по колени.
- «Психи!» – кричат им из тьмы города —
- Липецк, Иваново, Караганда, —
- «Лучшая пища – крапива,
- Жить без неё некрасиво!»
- Но не услышат ни звука из тьмы
- Два корабля среди вечной зимы,
- Два ненасытных бедлама,
- Полные света и хлама.
Осеннее
- Она решила – недостоин,
- Другой ей снился наяву,
- Но я спокойный, добрый воин,
- Я как-нибудь переживу.
- Я старый воин, донна Роза,
- Давно погибший на войне.
- Понты, неискренность и поза
- Хреново смотрятся на мне.
- Мне грудь засыпало крестами,
- Как наши площади листвой.
- Последний раз иду мостами
- Я с непокрытой головой.
- Над нами небо проседает,
- Ещё бы – дело к ноябрю.
- А ваши розы – увядают,
- А новых… я не подарю.
Толедо
- Вы стремительно выросли, чёрт побери,
- Разлетелись, упорные, как почтари,
- Не оставив и тонкого следа.
- Возмужав, а местами уже постарев,
- Расселились на ветках нездешних дерев,
- Ну, а я – я остался в Толедо.
- Там, где синее солнце на красной воде,
- Где весь день стрекотали кузнечики, где
- Камни были и хлебом, и брынзой.
- Где ходили платаны в полночный парад
- И росли наши тени сквозь прутья оград,
- Увеличены лунною линзой.
- Вам, удачники, сукины дети, вольно
- На восток и на запад буравить окно,
- Севера чередуя с югами.
- Я – неспешно хожу от дверей до дверей,
- Я в еврейском квартале – последний еврей,
- Утопающий в ангельском гаме.
- Ну, ушли мусульмане – придут ледники…
- Так минуты восторга и годы тоски
- Перетрутся – и дышится ровно.
- Надо мной Ориона горят рамена,
- И товарным составом гремят времена,
- И с бортов обрываются бревна.
- Мёртвый город, где каждый окажется жив,
- Мне не страшно отстукивать мёртвый мотив
- В лабиринтах бесхозного крова.
- А когда вы вернётесь – а будет и так, —
- Вы усталыми крыльями сдержите такт,
- Словно детское честное слово.
«Левантийский кораблик летит по волне…»
- Левантийский кораблик летит по волне,
- Пляшет солнце, как пробка в душистом вине,
- Загорелые смотрятся турки,
- Как из глины гончарной фигурки.
- Мимо Кипра и Крита – вперёд и вперёд,
- Ибо ветер восточный, как женщина, врёт:
- Опахалом махнёт и изменит,
- А купцы своё времечко ценят.
- Но навар не упущен и выдержан срок:
- Вот и берега виден слоёный пирог,
- Чешет кормчий косматое пузо
- И по курсу белеет Рагуза.
- Золотые славянки блестят серебром,
- А хромые телеги спешат за добром:
- Благовония, сабли и ткани,
- И гашиш привезли мусульмане.
- Опустевший кораблик уныл и угрюм,
- Левантийские крысы покинули трюм,
- И беременны чёрной чумою
- Крепостные подвалы у моря.
«Сошедший с ума не заметит, с чего сошёл…»
Much Madness is divinest SenseE. Dickinson
- Сошедший с ума не заметит, с чего сошёл:
- Ступенькой, казалось бы, меньше, ступенькой больше.
- Он только локтями чувствует произвол,
- Когда надевают фрак, надевают пончо.
- Сошедший с ума не узнает своих родных:
- Они ему, верные, кажутся неродными.
- В глазах его масло, а им остаётся жмых;
- Спросили про день, а он называет имя.
- От комнаты к комнате – всё потолок белей,
- На каждый порог помогают ему взобраться
- Живые и тёплые призраки королей,
- Пронзительных теноров, искренних святотатцев.
- Сошедший с ума обретает свой новый ум —
- Фиалковый, розовый, ирисный, ноготковый,
- Блестит им в улыбке, как золотом толстосум,
- И к людям выходит с прибитой ко лбу подковой.
- За ним медицинскую карту несёт жена
- И тащится осень нищенкой городскою.
- Он чертит сады, как хитрые письмена,
- И Брейгель Цветочный играет его рукою.
- Всё это, наверно, лишнее, это зря,
- Но я не могу – меня обложили данью
- Соблазн сумасшествия, сумерки ноября,
- Хмельной Петербург и вокзальных котов рыданья.
«Я жду и жду: Господь меня раскроет…»
- Я жду и жду: Господь меня раскроет,
- как форточку в конторской духоте,
- как заспанную книгу, столько лет
- служившую подставкой для бегоний;
- пробьёт, как брешь
- в задристанном невольниками трюме.
- Спускайтесь вниз, цинготная шпана,
- по сосенке отобранная с бору,
- рябой фасолью сыпьтесь по канатам —
- мою пробоину попробуйте заткнуть
- мешками, досками, друг другом!
- Я так хочу, чтоб Он меня раскрыл
- своим шершавым устричным ножом.
- Одной забавы ради? Пусть – забавы…
«Конечно же, еврей. Куда без них…»
- Конечно же, еврей. Куда без них?
- Делить всю ойкумену на двоих
- Меж греками и римлянами – тщетно.
- Евреи – это модно. Это – этно.
- Еврейская колония мала,
- Зато большие делает дела
- В Александрии и Антиохии.
- Детишек любят, девушек блюдут,
- Волов-ослов соседских не крадут
- И в остальном ребята неплохие.
- Из них Спаситель явится? Как знать.
- У них, видать, особенная стать:
- Воспитанник кумирен и курилен,
- Наш ratio постигнуть их бессилен.
- Есть мощные заклятья на крови,
- На перекрестье смерти и любви
- Кипит вода и вспыхивают флаги.
- Вот и рабы нам тазик принесли.
- Туники прочь, хозяева земли,
- Гниенье тоже требует отваги.
Финское
- Идёт шестая финская война
- Десятый год. Чахоточною кровью
- Закаты харкают, сычом глядит луна
- И набивают брюхо племена
- Своей BDSM-ною любовью.
- Тут немцы, финцы с финками в руках,
- И шведцы – пионеры шведской неги,
- И датцы, мерно чешущие пах,
- И сухостойные норвеги,
- А также море сабель и папах.
- В войну, как датчик, вживлена любовь.
- Толпою валят этносы на блядки
- Туда, где тоньше чувствуется кровь
- И в воздухе, и в каменном порядке,
- И мне мигают – орган свой готовь!
- Я волк-флейтист, я Марсий-полужид,
- Не отличаю курда от китайца,
- Каирских от индейских пирамид.
- Мне прадед мой диктует рифму «яйца»,
- Но есть ловец, а значит, зверь бежит.
- Я серый волк, я отморозил хвост,
- Меня из леса выгнали в окопы.
- Жизнь не прошла, но превратилась в пост —
- Авангардизм, в шагающий погост
- И главку в геологии Европы.
- Мы победим, сомнений в этом нет,
- Как в пятую, четвертую и третью.
- Враги смирятся, будут биты плетью,
- И финский мир под финский гром побед
- Займёт собой ещё десятилетье.
- Вернутся все, но не вернуться мне —
- Пусть ребятня моим играет луком.
- Одни решат – он сгинул на войне,
- Иные же – не пишет, гад, жене,
- Остался там и бегает по сукам.
Новогодние отрывки
- и ещё один год пройдёт – а что изменится?
- перед глазами ещё раз прокрутят кавказскую пленницу
- кнопочка щёлкнет, пеночка вылетит, фьють-фьюить:
- надо меньше пить, надо меньше пить, надо меньше пить.
- коротко говоря,
- тридцать первого декабря
- мы с друзьями, как правило, ходим в баню.
- в баню, огромную, как вокзал,
- огромную, как спортзал,
- как площадь всех расставаний.
- сказано сильно – «с друзьями». с другом одним,
- да и тот – заплечный черт-херувим
- на две ставки
- зырк-зырк из-под лавки.
- когда пиво пьём,
- вроде как вдвоём,
- а как хлеб едим,
- так почти один.
- тридцать первого декабря
- одиночество рыщет по стогнам
- ja-ja
- мигает зубов гирлянда,
- холодом дышат гланды
- и шатучие ангелы медленно тихо поют
- ja-ja
- и по небу ходит большая звезда призовая.
- милый августин едет на мёртвой телеге домой,
- мундгармоника вместе с усталостью ноты забыла.
- оторочено поле еловой густой бахромой.
- милый августин, где тебя носит хромая кобыла?
- в снежном твороге сахар блестит, а в неспящем селе
- так разит мандарином, что близится газовый ахтунг.
- ты приедешь домой, и соседские дочери ахнут
- перед тем, как из черной трубы улететь на метле.
- в телевизоре нет никого,
- только снег, только шип незвериный
- и ворованный свет боковой.
- разбитные пышные мужчины
- галстучным осыпались дождём.
- деловитые принцессы
- туфельки попрятали в мешки
- и сказали: мы тоже уйдём,
- нам-то тут совсем без интереса.
- мы теперь простые электроны,
- от высоких судеб далеки.
- вероятно, к новому сиону
- мы уйдём сквозь ваши проводки.
Стишки о классиках
- Бунин говорил: Набоков —
- неприятный человек,
- а Набоков, мол, что Бунин —
- неприятный человек.
- В общем, так они и жили
- в эмиграции дурной.
- Одному всё снилась жимолость
- и орловский перегной.
- А другому – свиристели,
- чудо-девочка в Крыму
- на гостиничной постели,
- не плывущей в Колыму.
- И Господь с холма высокого
- им раздаривал покой:
- левою рукой Набокову,
- правой Бунину рукой.
Готический блюз
- от замка герцога синяя борода
- к замку графа зелёная борода
- ведёт дорога из снега и льда
- дорога из снега и льда
- вроде куда-то едешь, а вроде и никуда
- дорога идёт сквозь сумрачные леса
- шляпа кучера трётся о небеса
- а у каждой ели – синяя борода
- у сосны – зелёная борода
- вроде куда-то едешь, а вроде и никуда
- мешковинный вырви из неба себе лоскут
- на губной гармошке туда-сюда погоняй тоску
- гаснет у лошади на боку
- палевая звезда
- вроде куда-то едешь, а вроде и никуда
Бразильская мелодия
- я буду зверь лесной, я буду мартин борман
- на мелкие листки, на тряпочки оборван
- в лишайники и мхи запрятан тишиной
- но только не ходи, пожалуйста, за мной
- ты не ходи за мной ни впрямь, ни понарошку
- не посылай за мной ни бабочку, ни кошку
- не повторяй за мной: кунжут, кунжут, кунжут
- пароль уже не тот – тебя ещё не ждут
- а просто заведи лазурную тетрадку
- записывай в неё про снег и лихорадку
- кто нынче вестовой, кто нынче генерал
- и кто кого убил, и кто о чем соврал
- пусть время подлое таращится глазуньей
- летает кодлою над нашею лазурью
- толчётся у двери, маячит у окна
- запомни главное: в бразилии – весна
- у нас в бразилии в ветвях так мало ветра
- у нас в бразилии в лесах так много педро
- хоть ноту высвисти, хоть имя назови
- сто голосов тебе признаются в любви
- не завтра, не сейчас, но где-нибудь в апреле
- суконный небосвод порежут на шинели
- и подойдёт конец привычным словесам
- я научу другим, когда узнаю сам
Фиолетовая юбка
- Город выжмется, как губка,
- весь печалью изойдёт.
- Фиолетовая юбка
- на свиданье не придёт.
- Фиолетовая юбка
- на диване, ноги врозь,
- говорит кому-то в трубку:
- ну, не вышло! не склалось!
- Мне теперь не до свиданий
- среди лавочек и луж.
- Мне доверено заданье
- четырёх секретных служб.
- Я сегодня Мата Хари,
- и в сапожках на клею
- я на Сретенском бульваре
- Борю Иткина убью!
- Долго мы терпели Борю,
- без пардону существо.
- То-то, то-то будет горе
- томным девушкам его!
- Солнце крутится, как бомба,
- в детской, жёлтой с васильком,
- обжигая диски Боба
- Марли, Розанова том.
- Норовя вдоль книжных полок,
- где порядка не найти,
- дождь устроить из заколок
- и из кнопок конфетти.
- А в другом конце истории
- загорается софит.
- Малый зал консерватории
- на три четверти набит.
- Там играет Боря Иткин —
- юный мученик альта,
- и вздыхают ирки, ритки
- (не она, не та, не та).
- Там играет Боря Иткин,
- и кружат в его игре
- жизнь в меланжевой накидке,
- смерть в нейлоновом гофре.
Резиновая Зина strikes back
- Резиновую бабу завернули в целлофан
- и продали матросу за четырнадцать рублей,
- а он её до света ласкал и целовал.
- Резиновую девушку, матросик, пожалей.
- У ней потёрты локти, рубцы на животе,
- засаленные волосы, как флотская лапша.
- И третий раз, и пятый раз ты был на высоте,
- а из её кармашка чуть не выпала душа.
- А как ей было хорошо в резиновой стране!
- Повсюду были гибкие и мягкие – свои.
- Бывало, отражаясь в бензоловом вине,
- виниловое солнце ей пело о любви.
- Ступай себе на камбуз, наешься в три горла,
- пока несёт на скалы корабль сторожевой,
- пока твоя подружка ещё не родила
- резинового пупсика с твоею головой.
Латинамерика
- дон пабло поёт, как птичка, звонче иных монет
- в синем воздухе чеканятся золотые
- и падают на гранит
- это латинамерика, и надо бы на латыни
- клетка из свежих прутьев шатается и трещит
- дон пабло кричит, как взмыленный какаду
- негодница вероника – о, пурпур её тряпиц
- навещает, смеётся, просовывает еду
- дон пабло по клетке мечется, ловок по-обезьяньи
- как будто и хвост отрос на его позор
- мимо ходят крестьяне и прочее человечество
- с базара и на базар, с базара и на базар, с базара и на базар
- дон пабло кричит: я гражданин
- соединённых штатов
- сенатус-популюс, дайте сюда посла
- выпрыгивает из штанов
- боже, как пошло
- вероника ягодка не пришла
- спаси меня, вероника,
- пронзи меня, вероника,
- своими железными каблучками
- тот был камень, а я не камень
- и времени повилика
- меня обвивает ласковыми руками
- латексными руками
- на заднем плане процессия из крестьян
- несёт бесконечный лозунг «вива ла революсьон»
- и солнца немигающий кристалл
- выжигает пампу пам-пам-парам-пам-пам
Мытищинские зори
- вернись в сорренто, вернись в ливорно
- не возвращайся в одинцово
- пойди учиться на птицелова
- двигаться вежливо и проворно
- говорил васе-авангардисту
- брадатый неоромантик вова
- и андромеда своим монисто
- благословляла бухое слово
- люблю мытищинских зорь отраву
- давлюсь и пью и люблю и снова
- летит по воздуху мой корабль
- в восточное дымное бирюлёво
- бьют зенитные струйки пара
- справа, слева, но слава мимо
- черный воздух густее вара
- по краям уже слаще дыма
- пылай, мытищинских зорь цветок
- в стаканах домов и дворов баклагах
- поздно в ливорно, горит восток
- ревёт пожар в пожилых бумагах
- труби, рассвета больная медь
- созвездья в пудру мели, емеля
- по небу зимний идёт медведь
- шатается болеро равеля
- темней, честней арагонских хот
- венгерских чардашей с ними иже
- проспектами человечьих хорд
- летит корабль на железной лыже
- по шахтам ломаным вбок и вниз
- из плоти вырваться – нет, без шанса
- прощенья хочешь? тогда вернись
- совета хочешь? не возвращайся
- не смей, останься, с души стряхни
- своего белкового паразита
- креплёный воздух моей страны
- покупаю дорого, пью сердито
«На небе говорят «дрожанье век»…»
- На небе говорят «дрожанье век»,
- и век дрожит, и глохнет Павелецкий.
- Я кто такой, я снежный человек,
- но я в твоей учился школе детской.
- Наверно, тот суконный постовой
- и даже, если в рельсы углубиться,
- фонарный гном, обходчик путевой
- тебе родней, надёжней носят лица.
- Ты некрасива, я тебя хочу
- не почему, а просто что живая.
- Ни поезда вблизи не различу,
- ни рядом проходящего трамвая.
Мемуарное
- Раньше называлось – проспект Калинина
- а теперь зовётся – Новый Арбат
- улица понтовая, но не длинная.
- Помню её в олимпийский год.
- Шелестели окнами дома высокие
- дядюшка повёл нас в кафе «Валдай».
- Я в тот день узнал, что умер Высоцкий
- но значения этому не придал.
- Я тогда, признаться, любил Окуджаву,
- здесь же и пластинки искал, в «Мелодии».
- Много лет, исцарапанная и ржавая,
- моя «Ригонда» гниёт на лоджии.
- Теперь в глазах пульсирует казино,
- остроносые лыбятся – «слушай, брат».
- «Мелодия» камнем ушла на дно,
- под землёй виниловый Китеж-град.
- Скоро ли, распрямив стеклянные паруса,
- выйдут из этой гавани корабли?
- Я всё хуже слышу их голоса
- и всё отчётливей – голос моей земли.
- Я земля, выкликаю своих засранцев
- из пельменной, рюмочной, из пивной.
- Всё доедено, близится время танцев.
- Потанцуй со мной.
После войны с тараканами
- Тараканы ушли ночью, походным строем,
- забрали раненых, никого не забыли.
- Оказалось, есть у них и фельдмаршал,
- есть у них и штатный агитатор.
- Не испугались ни белой сыпучей смеси,
- ни пшикалки на резиновых колёсах.
- Сами ушли: не чаяли мы дождаться
- и когда вернутся, не знаем часа.
- Где-то то в правом ухе, то в левом ухе
- грохочут их игрушечные повозки.
Гуляние черного кобеля
- Что делает моего пса красивым,
- если не красный красивый поводок?
- От такого бледнеет любой противник
- и любая сука слабеет на передок.
- Озирая победно двор и дома с балконами,
- где едва-едва проросшее солнце жжётся,
- мой кобель похож на старого Шона Коннери
- из фильма про Индиану Джонса.
- Я с годами тоже, кажется, хорошею,
- а то бы пропал, а то бы сгорел дотла,
- когда бы твоя любовь на моей шее
- на четыре дырочки застёгнута не была.
Следствие ведут колобки
- Колобки поймали буратино
- и судили долго, коллективно.
- Признавайся, подлый буратин,
- ты каких делов наворотил?
- В полумраке подпола сырого
- колобки поймали и второго.
- Этот был не менее носат.
- Говорил, что первому не брат.
- На допросах держат их часами,
- сталкивают острыми носами
- в очной ставке. Пишут протокол,
- заменяя носом дырокол.
- Дело шьётся, нить судьбы прядётся.
- Буратин содержат где придётся.
- Завезут, бывало, и в Читу.
- Носопырки видно за версту.
- Разное твердят про буратино:
- что они агенты Палпатина,
- что хотели манием руки
- обратить детишек в чурбаки.
- В голубом ангаре гильотина
- тихо слёзы льёт о буратино.
- Ей в ответ, сквозь сумерки и снег,
- плачет деревянный человек.
Гоголь
- Новый Гоголь явился: гогочет, гудит
- и служанку щипает в сенях.
- Он ведь только родился, он весь перевит
- пеленами, он весь в простынях.
- Он с большой головой, неуклюжий такой.
- Слон! идёт, содрогая фарфор.
- Ах, не надо, не велено в барский покой,
- проводите, ведите во двор.
- Он заходит в конюшню, о притолку шмяк,
- ему лошади ржут: и-го-го!
- Гуттаперчевый нос, багровея, набряк.
- Мужики одобряют: ого!
- Он поленницу походя лихо разнёс,
- из подушек повыпустил пух.
- Среди пуха и перьев горит его нос,
- пламенеет, как красный петух.
- Новый Гоголь явился – и все на ушах,
- все внештатные враз на посту.
- Крепыши с палашами, штыки в камышах
- и шлагбаум стоит за версту.
- Вся морская пехота, милиция вся,
- химзащита, спасательный борт.
- Подошли егеря, рюкзаками тряся.
- Новый Гоголь – принёс его чёрт!
- Новый Гоголь идёт, новый хохот дымит
- до небес, и не видно земли.
- Боже, что это грохнуло? Метеорит?
- Обалдеть, сколько леса пожгли…
С упорством маньяка
- Играет маньяк на волынке,
- в ольховую трубку дудит.
- Как гвоздь в заскорузлом ботинке,
- в маньяке упорство сидит.
- Богатые гонят с порога,
- а бедным неловко за так.
- В маньяке упорство от Бога.
- Таланта не дал Зодиак.
- Проходит маньяк недолеченный
- по вечно осенней стране
- и свой инструмент покалеченный
- несёт на телячьем ремне.
- Я пью за упорство маньяка
- пять капелек – я за рулём.
- За плащ меня тянет собака:
- пойдём за маньяком, пойдём.
Лазарь
- Воскрешая соседского Лазаря,
- толстогубого и пучеглазого;
- по тропинкам занозистым лазая
- за ангаром и овощебазою;
- Воскрешая неумного лодыря,
- тормоша его: где же душа его?
- где жасминовый запах до одури
- с дач заброшенных; где их хозяева?
- Собирая нескладное лего
- безделушек, костей и сосудов,
- лживых писем тревожного лета,
- новостей, комаров-самогудов,
- я хотел бы собрать человека.
- Я хотел бы пойти к нему в гости
- и к себе пригласить его тоже.
- Я нашёл только кожу и кости.
- Препарирую кости и кожу.
Русские
- Цыгане крадут кошельки на перроне,
- британцы играют в гольф,
- а русские вечно кого-то хоронят,
- обычно какую-то голь.
- При этом всегда не хватает на саван,
- веночки, цветочки – и вот
- идут по соседям две бабки гнусавых:
- подайте кто рупь, кто пятьсот.
- Мы давеча дали, и нонеча дали,
- и крышка встаёт на попа.
- Глядит с подоконника в мутные дали
- прозрачных бутылок толпа.
- У смерти всегда здесь отыщется повод,
- но повод не значит почёт.
- Кто голой рукой ухватился за провод,
- кто полк себе выбрал не тот.
- Здесь смерть растекается кровью и гноем,
- а также и жидкостью той,
- которой мы всё это дело обмоем,
- не век же ходить нищетой.
- Поминки – вот их настоящие свадьбы,
- излюбленный русский досуг,
- когда и покойника в рожу узнать бы
- не смог ни начальник, ни друг.
- И если бы мёртвые здесь восставали,
- то только, чтоб заново лечь,
- чтоб снова родимые их горевали
- и Моцартом веяла печь.
- А то ведь когда-нибудь кончатся трупы,
- и что тогда делать живым?
- Куда им пойти – в филармонии, клубы,
- в кружки, в уголки пантомим?
Из детства
- Мальчик толстый, кудрявый, еврейский
- мешковато бежит по росе.
- Папа любит читать юморески
- на шестнадцатой полосе.
- А поднимет глаза от газеты —
- сразу в сердце прорежется плач:
- нужники вместо тёплых клозетов
- и обмылки малаховских дач.
- Просто хочется выть от ублюдочности,
- от пригорков в собачьем говне.
- «Нету будущности, нету будущности
- у Илюшеньки в этой стране».
- Мама рыжики ест в маринаде
- и читает журнал «Новый мир».
- Папа будущность видит в Канаде,
- собирается ехать в ОВИР.
- Я не знаю, уехали, нет ли.
- Кто хотел, уезжали всегда.
- Слово «будущность» – в книжке поэта
- разъяснилось мне через года.
- Оказалось, что будущность – это
- когда ты осторожно войдёшь,
- в непонятное что-то одета,
- как советская вся молодёжь.
Новая этнография
- Я буду жить, как Леви-Стросс,
- медлительно и кротко.
- Я бородою бы оброс,
- да не растёт бородка.
- Я был бы честный этногрáф,
- и в ясеневской сельве
- из хвойных вееров и трав
- мне сделали постель бы.
- Встречайте, пижмы-купыри,
- учёного соседа!
- Я докажу, что дикари —
- совсем не людоеды.
- Я их обряды изучу,
- хоть в приближеньи грубом.
- Отважусь бегать к их врачу
- то с чирьями, то с зубом.
- Я их напитков вкус пойму,
- привыкну к их закускам.
- Дивиться буду их уму
- и тоже стану русским.
- Я буду жить, как Леви-Стросс,
- как можно жить еврею.
- Я буду лучший Дед Мороз,
- я бороду наклею!
- Я и жениться бы не прочь
- на их аборигенке.
- Мне песни пели бы всю ночь
- вованы, витьки, генки.
- Когда же мне поднадоест
- лесная их обитель,
- я лягу в землю этих мест,
- расслабленный, как зритель.
- Как будто бы звонок – пора
- в парижское предсердье,
- где гаснут люстры в Opera
- перед «Аидой» Верди.
Another brick off the wall
- Девочка в школе гранату нашла.
- Пусть и учебную, но взорвала.
- Как этой девочке так удалось? —
- выбила стену и вышла насквозь.
- Странная девочка это была:
- тронула швабру, а та зацвела.
- Кошку погладила – та назубок
- строчки про парус, как он одинок.
- Классная-дура звонила в роно,
- ну а что то роно? рону все равно.
- Им что полтава, что бородино —
- прошлая слава, немое кино.
- Каждую осень – помывка окна.
- Ольга, Онегин, и мир, и война.
- А это окно – словно парус с крестом,
- трепещет и кружится в небе пустом.
Пётр и Павел
- Кто-нибудь скажет, какое сегодня число?
- Кто-нибудь скажет – а времени сколько прошло
- с тех пор, как я встал, надел на себя штаны
- и вышел из дома досматривать чудо-сны.
- Конечно, с собакой. С собакой мы входим в лес,
- состоящий из мокрых игольчатых древес.
- Под ногами и лапами чавкает мёртвый покров
- и сами себе мы похожи на стадо коров.
- В прошлом году та же ветошь была под ногой,
- а собака другая и вместо меня другой.
- Звон от Петра и Павла окатывал с головой,
- осыпал монетами, как зрители и конвой.
- Пётр и Павел, вот уж вовек не поймёшь,
- что в ваших историях правда, а что ложь.
- Когда участковый спросил меня у креста,
- я сказал – вас не знаю, и совесть моя чиста.
- Я читал, что в Риме у вас был чеканный двор.
- Вы чеканили звон и вели бесконечный спор.
- Или нет – познакомились ровно чтобы проститься.
- А два колокола не могут наговориться.
- До Петра и Павла – детсадик и рыжий корт.
- У Петра и Павла – конюшня и конный спорт.
- И иконный бизнес, и жаждущая рука.
- И оптовый рынок, и снова лес, облака.
Из книги «Речфлот» (2013–2016)
I. Замечательный сад
FM
- Не хочу твоих весёлых песен,
- дорогое радио FM.
- Ты поставь мне песню грустную,
- безнадёжную совсем.
- Песня старая турецкая
- вьет верёвку из меня,
- свету белому нерезкому
- несомненная родня.
- Я боюсь, FM, твоих цикад,
- и твоих обнов, и перемен,
- и назад за песней, как солдат,
- иду в турецкий плен.
Пруды
- Я нашарил оранжевый шарик зимы,
- он не жжётся, но светит тепло.
- Он упруго отскакивает от земли,
- на лету выпуская крыло.
- Вот он рыжей лисой развернулся в дугу
- и с собакой мотает круги.
- Вот он медной монетой блестит на снегу,
- подбери его и сбереги.
- Где студенческих пьянок гудит мошкара
- и пожатьем грозит Грибоед,
- одинокий повстанец, не евший с утра,
- в пожилую шинельку одет.
- Пуховая Лолита пятнадцати лет
- к нему тянет язык-леденец,
- и запястье ему замыкает в браслет,
- и вдоль пруда ведёт под венец.
- А на Чистом пруду, на вечернем пруду
- лёд лимонный звенит тетивой,
- и, как детские губы, измазан в меду,
- и расчерчен тюрьмой теневой.
- А седой Грибоед, деревянных теней
- неуклюже ломая узор,
- то крадётся за ним, то крадётся за ней,
- не решаясь начать разговор.
Фуга
- Стоит отлучиться на секунду —
- в магазин, скажем, оплатить мобильный —
- и уже считают, что ты умер,
- а то и чего похуже.
- Прямо на секундочку отлучиться,
- за цветами вот, за сигаретами для дамы,
- за ингредиентами, нужными в хозяйстве.
- Зато какие там цены!
- Копейки медные, стотинки, оболы,
- детские смешные деньги.
- На секунду, мухой,
- бронзовой брошечной мухой,
- вслед за дирижаблями из радужной плёнки,
- между слоновьих корней секвойи,
- вдоль огорода, где растят мороженое,
- чтобы в лиловой автолавке
- купить сахар, крахмал и дрожжи —
- недостающие ингредиенты.
- На секунду, буквально туда и обратно —
- а тебя уже не замечают,
- и чужие люди на твоей кухне
- ворочают сковородками
- и с железной улиткой
- сквозь тебя проходят по коридору.
- Вот я, в трениках,
- в тапках на босу ногу,
- отлучусь на секундочку: сахар, дрожжи.
- Даже дверь на ключ не закрываю.
- Просто прикрываю.
Сад
- Ах, после Освенцима, после Освенцима
- надо зайти в замечательный сад.
- Просто развеяться, просто развеяться,
- о ерунде поболтать.
- Купы, куртины, боскеты и клумбы,
- робкая статуя с голым плечом.
- Разное наврано ради Гекубы,
- всё это ей нипочём.
- Птенчики-нищенки, девочки Машеньки —
- может быть, даже в Таврический сад.
- Может быть, встретимся даже у башенки,
- как миллионы столетий назад.
Балаган
- Этого? Недостаточно изувечен.
- Рано его выпускать на арену цирка.
- Я бы ещё немного его почикал,
- только вот нечем. Нет инструментов. Нечем.
- Тронемся как мы есть. Шапита шапитою:
- «Балаган отправляется в Бологое!»
- Наша повозка гремит как пустая бочка.
- Будет служить не словом, а запятою.
- Будет стоять за плитой. Запятою. Точка.
- Будет метаться в фартухе, кашеваря,
- резать цибулю, плакаться о Граале,
- пока мои искромсанные твари
- крутят под куполом сальто своё мортале.
- Древнее право быть среди нас уродом
- даром не дастся, что там ни говори.
- А у нас ещё и первый билет не продан.
- Мы догрызаем последние сухари.
Небо
- Да и небо тоже – ворованное или ввезённое.
- Хорошо, если хотя бы лицензионное.
- Шведское небо, подсвеченное с углов.
- Вон облако, как сгорбленный рыболов,
- несёт за спиною сеть,
- а в сети полыхает сельдь.
- Нам прислали такое небо в обмен на нефть
- и оставили до вечера повисеть.
Биргартен
- Здесь садитесь, здесь поговорите,
- первая учительница и мой последний гибельный учитель.
- Длинный стол, дубовые скамьи —
- выгорожен маленький биргартен.
- Малолюдно; вечно все свои.
- Сложенные руки, как на парте.
- Носят неполезную еду,
- пенятся торжественные кварты.
- Я вон там, у входа подожду.
Ахамот
- Износилось пальто на вате,
- прохудился небесный свод,
- и в заброшенном автомате
- плачет девочка Ахамот.
- Дождь стучит в пожилой посуде,
- жизнь – отлучница от груди
- гонит в дом, где чужие люди
- и нелепые бигуди.
- За стеной замолчит пластинка
- и возьмётся визжать кровать.
- У сиротки в кармане финка,
- очень хочется убивать.
- Может, завтра уронит вазу,
- пустит пепельницу на слом,
- и наутро, никак не сразу,
- будет выставлена с узлом.
- Но не век обниматься с горем:
- время парусу и веслу,
- и учитель за южным морем
- славно выучит ремеслу.
- Там, где стены стоят, как горы,
- и подбородки острей скалы,
- и в вышине, заглушив моторы,
- словно грифы, кружат орлы.
Земля
- Мы новую землю добыли в бою,
- я старую землю в тебе узнаю,
- забытую прежнюю землю сырую.
- Украдкой её отсыпаю, ворую.
- Когда барабанщик молотит зарю,
- на старую землю я тайно смотрю
- глазами студентов-самоубийц
- и траурниц, падающих ниц.
- На мыльные плёнки фонарных садов,
- промозглой Мясницкой и Чистых прудов.
- Стучат молоточки восточного кофе
- про дружбу, зарытую в братском окопе.
- Я здесь обживаю стеклянный ангар,
- я звёздного хора теперь кочегар.
- Две тысячи солнц я отправил в утиль,
- чтоб свет надо мною турбину крутил.
- Но жжётся в кармане и в сердце болит
- земля фараонов, земля пирамид.
- Я землю с тебя отираю рукой.
- «Какую-такую? Не помню такой».
E LA NAVE VA
- А корабль летит, а море идёт ко дну,
- аргонавты дуются на жену,
- на всех одну —
- проклинала, махала скалкой.
- Упадает в пропасть и дом, и священный лес,
- и мой зябкий Ёлк, и твой, брат, Пелопоннес.
- А скажи, Оганес,
- никого, ничего не жалко?
- Были мы пиратами на морях,
- были мы солдатами в лагерях
- и на всех пирах неряхами из нерях —
- ели-пили-срали.
- А теперь летим на Вояджере Один,
- разрывая носом чёрные пасти льдин,
- и в шестом отсеке сломан гетеродин,
- и конец морали.
- И нам тоже конец, недалёко, за той чертой,
- но корабль летит, отчаяньем налитой,
- будто шарик из песни той,
- вдоль кометной тучи
- туда, где тусклой овчинкой горит руно,
- и на нем грузины – чистое мимино —
- возлежа, из кратеров жаркое пьют вино,
- но армяне лучше.
Аннет
- Где помнили ту девочку босой,
- с игрушечной, под Палех, поварёшкой,
- там нынче ходит женщина с косой.
- Как звать её? Что стало с нашей крошкой?
- Давно не видно пухленькой Аннет,
- похожей на кулёчек с мармеладом.
- Не слышно деревянных кастаньет,
- и юбки не шуршат вишнёвым садом.
- А незнакомка – если где взмахнёт
- своим корявым, варварским орудьем,
- там исчезают дом и огород,
- и рыночек с соседским многолюдьем.
- Исчезла школа, как и не была,
- библиотека имени Неруды,
- а вместо них – не кучи и не груды,
- а лаковая чёрная смола.
- Я выжила, я просто подросла,
- я вырвалась из куколки-Аннеты.
- Меня не отражают зеркала,
- но в вещмешке я прячу кастаньеты.
- Я ухожу в межзвёздные войска
- и прошлое стираю для порядка.
- Пусть остаётся чистая доска,
- пером не осквернённая тетрадка.
- Когда же первый вересень придёт
- и в пустоте появится учитель,
- я всё верну, вы только постучите.
- Тук-тук. Пора начать учебный год.
Сумерки
- У нас будут целые сумерки, целые вечера:
- жужжание жука и жалоба комара.
- Сиреневые кусты, лиловые небеса,
- до станции полчаса, в варенье плывёт оса.
- Оклеенные газетами, стены сквозят дождём,
- взлетающими ракетами, боями за Сайгон.
- А я ничего не помню, ни музыку, ни слова.
- А ты накрой сачком меня, я мёртвая голова.
- Я буду твоя дивизия, разбитая в пух и прах.
- Закрученная провизия на полках и в сундуках.
- Вот мой пластмассовый ножик, на нем кровь стрекоз.
- Вот кладбище косиножек, здесь всё всерьёз.
- А утром ахнем от синевы, пойдём в кинотеатр «Союз».
- Сегодня «Всадник без головы», я снова его боюсь.
- Там висит белое зеркало, от гардины к гардине,
- и никакой лазейки нет, чтобы сбежать посредине.
II. Сватовство майора
Ассорти «Гуниб»
- В частном доме, где-то в Дагестане,
- по углам сидят боевики.
- Обложили гады-христиане.
- В этот раз, похоже, не уйти.
- А хотя – какие христиане?
- «Отче наш» не знают назубок.
- Что им делать в этом Дагестане,
- где из камня слышится пророк?
- Не прорвутся братья на подмогу.
- Саданёт в окно гранатомёт.
- Магомед оторванную ногу
- на крылах к Аллаху понесёт.
- И комроты лермонтовским слогом
- проорёт в нахлынувшую тьму:
- «Выходите, суки, на дорогу,
- ты, и ты, и ты, по одному».
- И комроты мне укажет строго,
- безбородый юноша Аллах:
- «Что ты блеешь лермонтовским слогом,
- если не был в этаких горах?»
- Я скажу: «Есть грех, и есть привычка,
- только как я в этом виноват,
- если я – придуманная птичка,
- не фотограф и не аппарат?»
- «Врёшь ты всё, вон кучер твой и бричка,
- и твоя столичная родня.
- Я один – сверкающая птичка.
- Смертный воздух целится в меня».
Москва гламурная
- Раньше были мы фашисты,
- ать чеканили и два.
- Нынче стали мы вещисты,
- вот что делает Москва.
- Помню, мчались мы сквозь тучи:
- полюбуйся, русский швайн!
- А теперь надели гуччи,
- праду, кельвин кляйн.
- Для чего нам было, братцы,
- брать её, Москву?
- Ради модных рестораций,
- ради сладких рандеву?
- Лучше б гнили мы в землянках,
- жрали сапоги.
- Лучше б мы горели в танках,
- жарких, словно утюги.
- Барбароссы не провален,
- точно в срок исполнен план.
- Отчего ж смеётся Сталин
- с огненных реклам?
- Русский Сталин, бог гламура,
- с чёрной трубкой набивной.
- Русский парк, а в нем культура,
- как перед войной.
- Вот и маемся в квартире,
- ходим в клуб «Рамзес».
- Ждём, когда отряд валькирий
- спустится с небес.
- И тогда на штурм Америк
- сквозь жестокий океан
- поведёт нас Герман Геринг,
- Хайнц Гудериан.
Сватовство майора
- Майор не помнит ничего,
- он сделался дурак.
- Майору светит сватовство,
- грозит неравный брак.
- Рисует Пукирев ему
- гвоздику на челе.
- Его в больничную тюрьму
- свезли на «шевроле».
- Четыре женщины его
- отмыли от крови.
- Грозит майору сватовство
- и свадьба без любви.
- Ему больничный капеллан
- под лампой в тыщу ватт
- две пули вытащил из ран
- и улыбался, рад.
- Спелёнут, словно фараон,
- майор ни бе, ни ме.
- Но полночь близится, и он
- встаёт в своей тюрьме.
- Майор откатывает дверь,
- тугую, как валун.
- В руке он чует револьвер,
- тяжёлый, как колун.
- Майор шагает тяжело,
- стреляет на ходу.
- Тела, упавшие в стекло —
- как устрицы во льду.
- Майор кричит «Аллах акбар»,
- проходит коридор.
- За коридором – Кандагар,
- ты знаешь ли, майор?
- Там солнце светит прямо в глаз,
- как лазерный прицел.
- Там пять раз в день творят намаз
- кто умер и кто цел.
- Там пять раз в день приносят морс,
- ядрёный, как бульон.
- Там возлегают рядом Щорс,
- Колчак, Наполеон.
- Грозит майору сватовство,
- и девственницы в ряд
- стоят и думают – кого
- возьмёт он в свой обряд?
- Как выбирать такой товар,
- майор не знает сам.
- Он верил – это Кандагар,
- а здесь – универсам.
- Майор хватает пистолет
- и пробует стрелять
- за завтрак, ужин и обед
- и за старушку-мать.
- И люди падают у касс
- и падают промеж
- рядов, где студень многомяс
- и творог уж несвеж.
- Он вспоминает про жену.
- Вот карточка жены.
- Жена размером со страну,
- и карта всей страны.
- Он погружается во мрак,
- завёрнутый до пят
- в своей державы гордый флаг —
- огромный белый плат.
- В своей державы душный снег,
- похожий на стекло,
- и доктор, тоже человек,
- вздыхает тяжело.
Вояка
- Не ты воевал, а тобой воевали,
- давали медали тебе поносить,
- топырили пугалом на перевале,
- вгоняли в стволы молодёжную прыть.
- Друг друга мудохали духи и бесы,
- и вот тебя заново двинули в бой,
- но поле сраженья теперь – поэтессы:
- без устали бесы их любят тобой.
- Теперь ты лопочешь своё трали-вали,
- мол, я воевал, расступись, мелкота.
- А это ведь бесы тобой воевали
- и в гиблые вновь тебя гонят места.
Грушницкий
- Один какой-то сплошной Грушницкий
- в серой шинели своей солдатской.
- Нет чтобы коротко извиниться —
- хочет навязчиво оправдаться.
- В нем насекомые бродят пули,
- он сам имеет вид автомата:
- ноги шатаются, как ходули,
- а руки ходят вкруг циферблата.
- Мы скажем бодро: о Бэла, чао.
- Назавтра утром уходим в горы,
- легкомоторные за плечами
- неся причастия и глаголы.
- А он картонный, почти чугунный,
- стоит практически безголовый,
- а голова его плошкой лунной
- над офицерской плывёт столовой.
Каховский
- Родное северное общество
- мне велело убить царя.
- Это лекарство от одиночества
- не должно расточаться зря.
- Нужно осмыслиться, подготовиться,
- пройтись по городу налегке.
- Света фонарного крестословицы
- льдистыми лезвиями в зрачке.
- Вспыхнули ягодные смарагды,
- и мосты как крыжовенные кусты.
- Это глазищи русской правды
- показались из темноты.
- Помню, шептали мы: воли, воли!
- Вольной зимой и без шуб тепло.
- А тут, прислушаться, волки воют:
- вот так наше эхо до нас дошло.
- Куда трусит этот волчий выводок?
- Ещё вчера пировал наш круг.
- Нет, не съедят, но до шерсти вывернут,
- и будем снова мы – другу друг.
- По аллеям уже раздетым
- бежим с товарищем юных лет.
- Нос в табаке, хвост пистолетом
- и в зубах второй пистолет.
Чаадаев
- Был дом на песке – стала яма в песке,
- землёй привозной закидали героя
- и вывели надпись на белой доске:
- Чаадаев – герой геморроя.
- Сидел да насиживал шишку в дупле —
- не пиния Рима, сибирская пихта.
- Козлиные голени прятал под плед,
- а мысли – упрячешь ли их-то?
- Как дерево, вырыл себя из ума,
- корням родовым повелел пресекаться.
- Россия – темница? А что не тюрьма?
- Вселенная – квантовый карцер.
- Вселенная малых басманных малей,
- стучись – не стучись в её узкие ставни.
- Эй, барин, не дашь ли немного рублей
- домчаться туда, где цыгане?
- Где пляшет Европа в тщете круговой,
- вдыхают отменный метан европейцы
- и думают узкой пустой головой,
- растущей из самого сердца.
Поле
- Где тут русское поле?
- Спросил – не показывают.
- Тут одни только станции, склады, пакгаузы,
- переходы, бетонные доты, бараки,
- гаражи, осторожные злые собаки.
- Где же русское поле, ещё не открытое?
- Не ещё одно поле электромагнитное
- и не шахматной досочки новое поле,
- а такое… да знаете сами, какое.
- Это русское поле, где нас закопают,
- непролазного снега сезонная память,
- сквозь которую мы прорастём и растаем
- между старым Китаем и градом Китаем.
Средмаш
- Заложил свою душу Средмашу,
- подрядился ловить светляков.
- За свободу ни нашу, ни вашу
- оказался полечь не готов.
- Дескать, тошно мне слушать пластинку,
- как в лугах отпевают лягух
- и царапает осень по цинку
- в протяжении месяца-двух.
- Лучше сразу уж в черную глину,
- где мерцает вороний алмаз.
- По-хорошему надо бы сына,
- не напасся я кукол на вас.
- Вон шеренгой стоят эти куклы,
- из печёнки у каждой игла.
- Не от этих ли идолов купли
- выгорает наш город дотла?
- Столько лет пересказывал кряду,
- как тянуло той гарью с аллей.
- Колыбельную полураспада
- было слышать куда веселей:
- кляли ливень, ворчали о снеге ли
- возле лампы не ярче свечи,
- и трещали приборчики Гейгера,
- как еловые сучья в печи.
Сортировочная
- На Москве товарной, сортировочной,
- где не видно вечером ни зги,
- заплутал мужик командировочный,
- бестолково топчет сапоги.
- То идёт неровно вдоль пакгауза,
- то путями, как ещё храним.
- Ни малявы не пришлёт, ни кляузы
- небо низкорослое над ним.
- Это небо, так обидно близкое,
- что, глядишь, и снега зачерпнёт.
- Раненое небо австерлицкое,
- летний-зимний стрелок проворот.
- Выпить, что ли, под забор забиться ли,
- «Ой, мороз» заблеять, «ой, мороз».
- Не видать милиции-полиции,
- ветер свищет, ржёт электровоз.
- Где ему гостиница? Где станция?
- Здесь заснёт, под мышкою зажав
- дипломат, в котором марсианские
- расцветают розы в чертежах.
III. Гадай по ветчине
Лилии
- Снятся ли тебе мальчики, погибшие за Вьетнам,
- в битве за урожай, что собирать не нам.
- За королевские лилии, лилии на лопатках,
- синие, будто стрелки на штабных картах.
- Мушкетная пуля дура, а мёртвый хорош в седле.
- Лошадиной улыбке Дувра отвечает оскал Кале.
- Снятся тебе ватрушки, яблочное желе.
- Розовые вертушки грузятся в Ханкале.
- Наспех перебинтованы сны прошлого лета,
- многие с оторванными конечностями сюжета.
- Сны о любви и славе, о моднице Бонасье,
- тарахтя, улетают на север, домой, к семье.
Холестерин
- В Москве жирует жирная Москва,
- колоколов гудят окорока,
- но рыбий жир забыт наверняка,
- зато нам пальма масло принесла.
- Нам пальма матерь, авокадо кум
- и маракуйя верная сноха.
- Бездумный мозг, пробитый на ха-ха
- удвоенною пулею дум-дум.
- А мрамора в прожилках каварма!
- А облаков циррозных фуагра!
- Папайя, белорусская сестра,
- выносит блюдо с печенью сома.
- Скажи мне, пальма, ветка палестин,
- ягнячьих снов халяльным языком,
- куда несётся наш холестерин
- серебряным севрюжьим косяком?
Пристань
- Название кафе должно быть ненавязчиво —
- «Ромашка» или «Иволга», а может быть, «Фиалка».
- И не должно быть жалко настоящего
- и прошлого тем более не жалко.
- И станция должна быть – Дубки или Фабричная,
- или не станция, а вовсе даже пристань,
- где шарят по вагонке колючие, коричные,
- пытливые глаза авантюристов.
- И никакого Гоголя, тем паче Достоевского,
- чтобы воскликнуть «Боже, как же грустно!»
- И никакого Бога, ни родного, ни еврейского,
- чтоб оценить высокое искусство.
- Мы были бронтозаврами да игуанодонами,
- мы прятались в болотах за хвощами.
- Теперь сидим за столиком, и пиво пьём бидонами,
- и поедаем шницель с овощами.
- А завтра, проходя сквозь пояс астероидов,
- не вспомним подавальщицу Татьяну,
- друг друга принимая за киборгов, за роботов,
- друг в друге ошибаясь постоянно.
Гаруспиции
- Даже думать в этом направлении
- позабудь; гадай по ветчине.
- Что тебе высокое стремление
- и тоска по горней стороне?
- Ветчина, прожилками богатая,
- скажет всё, что карты недоврут,
- восславляя плуг и труд оратая,
- пруд рыборазводчика и трут.
- Почки, зельц, желудочки в сметане
- голосят по первое число.
- Только сердце прорицать не станет,
- крови в рот свой рыбий набрало.
- Только сердце, жаворонок с жабрами,
- улетает в высь, где не дыши,
- оставляя с дансами макабрами
- род людской, самсу и беляши.
Тюрьма
- Всем хорошим, что есть во мне,
- я обязан моей тюрьме.
- Холоду стали, теплу кирпичей,
- хрустальному перезвону ключей.
- Моя тюрьма – водяной колокол,
- с ней опускаюсь в бездонный низ.
- Здесь я могу одной хлебной коркой
- накормить миллионы крыс.
- Эта тюрьма – моих слов и чисел
- неразрушаемая скрижаль.
- Я прямо в ней летать научился,
- будто каменный дирижабль.
- Стены её стали мне кожей,
- мои зарешёченные зрачки
- провожают вечернюю лодку дожа
- по Большому каналу твоей руки.
- Не соблазняй же меня подкопом,
- побегом вёсельным над волной.
- Эти камни сойдут потопом,
- лавиной преданной вслед за мной.
Побег
- Держатели суровых черных ксив
- забрали малахольного героя,
- ни имени, ни даты не спросив.
- По счастию, их было только трое,
- и во дворе, где водят хоровод
- разрозненные члены чьих-то кукол,
- он выскользнул сквозь тонкий тайный ход.
- Всесильный комитет его профукал.
- «Врёшь, не уйдёшь», – кричал один из них.
- «Уйди-уйди», – пел хор нетопыриный.
- Но вскоре тот и этот голос стих,
- а тесный лаз расширился в равнину.
- Как хищно свет впивается в зрачки
- некормлеными стайками пираний!
- Найдя себя у берега реки,
- он лёг среди манжеток и гераней.
- Река уносит мёд и молоко
- промеж холмов из сливочной помадки.
- Хрустален свод и видно далеко,
- но не видать ни хлева и ни хатки.
- Ни с плугом не идут, ни нежных трав
- стремительными косами не косят.
- Здесь нет людей, и человечьих прав
- никто не нарушает и не просит.
- Тогда-то вспомнил он про свод иной,
- где эти трое в непонятном ранге,
- и мёртвый свет по прозвищу «дневной»,
- и пресс-папье, крушащие фаланги.
- Он бросился назад, но где тот лаз?
- Одни лишь земляничные куртины.
- В бочаге ром, на ёлке ананас
- и облаков презрительные спины.
Фитнес
- Отрезанные головы атлетов,
- англоязычных офисных парней
- летят на Марс, на красную планету,
- рассчитывая как-нибудь на ней
- устроиться. Наверно, тоже фитнес —
- блины, дорожка, а потом на вынос
- дешёвая китайская еда
- и кока-кола с кубиками льда.
- К тому же это ведь не навсегда:
- командировка. Вы бывали в Гане?
- А в Сингапуре? Сказочные дни!
- Когда ещё с руками и ногами…
- А кстати, как теперь они?
Привидение
- Голос горлицы слышится в нашей стране,
- и светает по-летнему рано.
- Лопастями жужжит и мелькает в окне
- привидение из Вазастана.
- Привидение под, привидение над.
- Обернёшься – оно за спиною.
- То оно в холодильнике пьёт маринад,
- то скрипит половицей ночною.
- То из крана оно кока-колой течёт,
- то в вино превращает варенье,
- и бессильно молчит полицейский отчёт —
- что за птица оно, привиденье?
- Или это цветочная фея блажит,
- или гоблин играет лукаво,
- или это потрёпанный потный мужик —
- голос горлицы, руки Исава?
- Режет веки, в окошко смотреть не могу,
- в эту зелень кипящего мая.
- Будто жизнь говорит: я отдамся врагу,
- я давно уж тебе изменяю.
- Оставляю кастрюли тебе и тазы,
- все твои бестолковые книги,
- и заношенный свитер из чистой козы,
- и постылого тела вериги.
- Голос горлицы, розовый след над трубой,
- будто в воздухе рваная рана.
- Жизнь уходит – а кто остаётся с тобой?
- Привидение из Вазастана.
- Улыбнётся оно от стены до стены
- кривозубым своим улыбоном,
- и вдвоём полетаем, легки и вольны,
- мы на зависть котам и влюблённым.
- То-то будет веселье, черничный пирог,
- тарталеточки с яблочным грогом,
- когда дверь затворится, и щёлкнет замок,
- и затихнут шаги за порогом.
IV. Последние маглы
Эпизод
- Что нам пророчат звёздные мойры,
- кычат, камлают с высот?
- Скоро выходят «Звёздные войны»,
- новый, седьмой эпизод.
- В кассе, в кино, на экране, в прокате
- валом пройдут по земле,
- где застывает Европа в закате
- в клюквенное желе.
- Все для премьерного часа готово,
- вечер рекламу зажёг.
- Ждём теперь ангела, тоже седьмого,
- ждём его тихий рожок.
- Он дочитал семитомного Канта,
- выключил автопилот,
- и над хрустальной корой Корусанта
- замер его звездолёт.
- Боженьки, звёздное небо над нами,
- в рюмочках жидкий азот.
- Только пригрелись в афише, в программе,
- а уж другой эпизод.
Городок
- Городу нужен большой секс,
- а сам городок невелик.
- Наколка «Слава КПСС»
- на груди ДК «Пищевик».
- А Христос воскрес?
- И Христос воскрес.
- Одинок.
- Не пьёт.
- На мели.
- Городу нужен Босфор,
- восемь лиловых лун,
- белые корабли
- вроде снежных гор.
Маглы
- Мы с тобою последние жалкие маглы
- со смешными книжками из бумаги,
- со своими улыбками глупыми
- и зелёными мокроступами.
- Всё сидишь и смотришь в окно, нахохлясь:
- больше нету Лондона, только Хогвартс,
- растут учебные корпуса.
- Фланируют коридорами длинными
- юноши с палочками бузинными,
- рвут из жопы волшебные волоса.
- Наши дети тоже играют в магов,
- наклепали себе разноцветных флагов
- и идут факультетом на факультет.
- А ты завари лучше серого графа
- в тяжёлом чайнике прежних лет
- и будь любезна, достань из шкафа
- варенье из земляничных ягод.
- Оно где-то там, среди зелий, ядов.
- То есть как это «нет»? Неужели нет?
Профессионал
- Когда я не был профессионал
- и жизнь была легка,
- какой хороший музыка звучал
- из каждого ларька.
- И как горчил напитков тех миндаль,
- синильное бордо.
- И было жаль и всё-таки не жаль
- красавца Бельмондо.
- Я научился многому на ять:
- терпеть и догонять,
- злить дураков, крутить баранку, ждать,
- протёкший кран менять.
- Я жизнь свою пустил на шаурму,
- как дохлого кота.
- Откуда эта тяжесть, не пойму,
- и музыка не та.
- Профессия погибшего зерна —
- борьба за урожай.
- Немного жаль наивного кина,
- и всё-таки не жаль.
V. По техническим причинам
«Легче стишок написать, чем составить подборку…»
- Легче стишок написать, чем составить подборку.
- Только и видишь, как жизнь покатилась под горку
- и где-то в долине густеет отечества дым.
- Надо дорогу дать молодым,
- тыгыдым-тыгыдым.
- Пусть съезжают на задницах, на ледянках,
- участвуют в пен-центровских мудянках,
- тортики таскают редактрисам
- и с коньячком шатаются по тризнам.
- Дело молодых – печататься, тискаться:
- каждая фрикция высечет божью искрицу.
- А мои опавшие листья не лезут в короб;
- к этому барахлу ударную коду б.
- Эти строки не искренни, не безумны.
- Эти строки не писаны кровью; суммы
- прописью – кровью, анкеты на визы – кровью.
- Смерть моя гуляет по Подмосковью.
- Дело молодых – пировать на щитах,
- из-под которых сочится бурое что-то.
- Циферки исправлять в счетах,
- крючья вострить вопросительных знаков,
- копья вострить восклицательных знаков —
- моя работа.
Обрыв
- Там жили поэты, и каждый встречал.
- А тут уж никто не встречает.
- От этого в сердце такая пичал,
- что волком оно завывает.
- То были поэты – пьянчуги, вруны,
- людские весёлые лица.
- А нынче – шакалы, кроты, грызуны,
- клопы, тараканы, мокрицы.
- Там было болото и почва была:
- свобода, отечество, вера.
- А здешняя почва – до края стола,
- а дальше обрыв, блогосфера.
Что?
- Старики из толстого журнала
- пишут в стиле «ямб» или «хорей»,
- как в былые дни у них стояло…
- Только что? Припомнить бы скорей!
- То ли предосенние погоды,
- то ли рюмка водки на столе,
- то ли они сами за свободу
- и за мир стояли на земле.
- Буквы три, ну максимум четыре.
- Бор? Душ? Слон? Ну знаете ж небось.
- Не читали, что ли, в «Новом мире»,
- на просторах знаменских полос?
- Нет, никак не вспомнится простое,
- сколько ни аукай наугад,
- и проходят строем сухостоя
- мимо них юнцы за пятьдесят.
Не она
- вы не ахматова
- вы не ахматова
- ваш сын не будет срока отматывать
- ваш муж не будет поставлен к стенке
- во дни любовничьей пересменки
- а так пожалуй что и ахматова
- орлиный профиль и кожа матова
- посадка гордая головы
- а всё же что-то не то
- увы
Юбилейное
- Как на празднике в Константинове
- задержали Сергея Есенина
- в рыжей курточке дерматиновой,
- в модной кепке, тут же посеянной.
- Был он пьян и ругал по матери
- власть, народ, Изадору-дуру;
- нос и брови в дамской помаде – и как же тут не попасть
- в ментуру?
- Собрались союзы писателей,
- лауряты такой-то премии.
- «Где Серега? Не видели?» «В зад его,
- у нас жёсткий лимит по времени.
- Надо слово дать этому и тому,
- той любовнице, этой тёще.
- А Сергей… занёсся не по уму.
- Мы его издадим… попозже».
- Слышите? Это Серёгу бьют,
- а он лыбится через силу.
- Дайте Родину, говорит, мою,
- и верните, козлы, мобилу.
В библиотеку
- Горят огни библиотеки,
- паласа розовый бекон,
- как будто бы не в прошлом веке,
- а в самом прошлом из веков.
- И два седеющих обмылка
- заносят ногу на порог.
- У одного в кармане вилка,
- другой до нежности продрог.
- А где сегодня наливают?
- А где по залу в парике
- плывёт Евгения Иванна,
- как поздний катер по реке?
- А здесь сегодня наливают
- и строки вечные звучат.
- Об этом всех, кто здесь бывает,
- оповестил небесный чат.
- И будь ты Эдик или Вадик,
- благословит тебя тропа,
- когда из свёрнутых тетрадок
- заблещет костная крупа.
«Когда-то я что-то такое писал…»
- Когда-то я что-то такое писал,
- фантазии чаще, чем были.
- Ценители ржали, безмолвствовал зал,
- иные ж меня полюбили.
- Теперь я и сам-то себя не люблю
- тогдашнего, глупого, злого.
- Тверёзого труса, шута во хмелю.
- А вы – полюбили такого.
- Ни словом, ни знаком уже не солгу,
- мне вымысел больше не нужен.
- А ваша любовь достаётся врагу,
- как поздний неправильный ужин.
«Ах, было мне пятнадцать лет…»
- Ах, было мне пятнадцать лет,
- я был не мамин и не папин,
- зато уж знал, что я поэт,
- почти как Дмитрий Веденяпин.
- Теперь стою одной ногой
- на ленте горе-транспортёра —
- не Веденяпин, не другой,
- но стану мамин-папин скоро.
По техническим причинам
- Переносится вечер поэта такого-то
- без особой причины, без явного повода,
- ну а я-то как раз собирался прийти —
- посидеть, пообщаться, свалить к десяти.
- Две недели проходит – опять переносится.
- Неуверенно держит очки переносица.
- Может, что-то стряслось? Может, надо помочь?
- Но порывы смиряет московская ночь.
- Переносится снова, и снова, и снова
- распиаренный вечер поэта такого.
- Неужели не слышать уж нам никогда
- эти строки, душистые, как резеда?
- Просмолённого голоса фиоритуры,
- отголоски судьбы и обломки культуры,
- эти рифмы, что некогда шли на ура,
- вдохновив нас на первые пробы пера?
- А представьте – однажды возьмёт и объявится,
- будет в правой сигара, а в левой красавица,
- и четырнадцать верных, лениво пришед,
- позабудут о том, что пришли на фуршет.
VI. Певчий Кащей
Докинз
- Дураки читают по утрам.
- К ним не прилетает Мэри Поппинс.
- К ним невозмутимый, как сто грамм,
- вваливается профессор Докинз.
- «Я объехал тот и этот свет», —
- говорит дедуля в коверкоте, —
- «и нигде, представьте, Бога нет.
- Так я написал в своём отчёте.
- И с тех пор на завтрак и обед,
- перед сном и всякую минуту
- радуюсь тому, что Бога нет;
- радоваться надо ж хоть чему-то.
- «Бога нет!» – ликуют воробьи
- и любая прочая пичуга.
- «Бога нет!» – фракийские рабы,
- в бой идя, приветствуют друг друга.
- «Бога нет!» – устало и светло
- говорю, и пустоту лелею,
- и кому без Бога тяжело,
- всех благословляю и жалею».
- И в обнимку с новым дураком,
- дерево для верности потрогав,
- он уходит лунным молоком
- из окна – в страну единорогов.
За Иисуса
- Там он был еврей за Иисуса,
- года три убил на ерунду.
- Трапезу из рыбы и кускуса
- сочинял, как шутку, на ходу.
- Десять пар сносил за Иисусом
- башмаков на горе всей родни,
- словно бык, слепнями перекусан,
- но хвалимы были и они.
- Вёл учёт доходов и расходов,
- твёрдо урезонивал братву,
- а потом очнулся от походов
- и увидел снежную Москву.
- В офисе продаж бесцельно маясь,
- каждый день имеет бледный вид.
- Скорбный путь из Кунцева в Эммаус
- в навигатор накрепко забит.
- Блюз поёт комариком в отеле,
- огоньки горят на Рождество,
- ловкий шеф готовит папарделли,
- только это всё не для него.
- Для него – расстриженный Джордано,
- утонув в бумагах, как тапир,
- пишет из бетонного зиндана
- свой трактат о множестве шапир.
Кащей
- Много хороших и мудрых вещей
- нам сообщает профессор Кащей.
- Делай зарядку, не пей, не кури,
- бди, обходи гаражи, пустыри.
- На ночь не жри, по утрам голодай,
- даже на свадьбах и то не рыдай.
- Чист будь и светел, как ласковый май.
- Трупик заметил – в лесу закопай.
- Певчий Кащей, на ветвях соловей,
- дай мне побыть во френдзоне твоей.
- В зоне комфорта укроюсь под куст,
- сизым дымком исходящий из уст.
Памяти Мирослава Немирова
- Провожу последние морозы,
- розовое в кружечку налью.
- Забываю облик донны Розы,
- имя донны Розы узнаю.
- Будто бы ракетные ступени,
- отпадают, падают на степь
- донны Розы локти и колени,
- губы, трубы внутренних систем.
- Донны Розы сиськи накладные
- или настоящие – плевать.
- И слова – как тошно жить в России,
- и слова – как сладко жить в России,
- как смешно в России умирать.
- Мы ведь и не умерли, мы с вами,
- только поменяли камуфляж
- и идём фонарными столбами,
- и за ними скачем воробьями
- в сад Эдем и в город Эрмитаж.
- Поезд дальше не идёт,
- он не хочет без пилота,
- а у всех семья, работа,
- век расписан наперёд.
- Поезд дальше не идёт
- и не крутятся колёсики.
- Поршни, вентили, насосики
- не работают, и вот:
- Кто-то сходит в «Детский мир»,
- поменяет этот поезд.
- Кто-то сходит в «Новый мир»,
- отнесёт рассказ и повесть.
- Кто-то скажет «холода»
- и поправится: «покамест».
- Кто-то все сотрёт как память
- и оставит слово «да».
Марш
- Похоже, со сцены уходим и мы
- на цыпочках, мерно, под звуки
- едва рукотворного марша любви,
- ещё раз любви и разлуки.
- Ещё раз по кумполу, жизнь, получай
- при всем православном народе
- от Баха бабах, от Шопена на чай
- и от Мендельсона-Бартольди.
- Пусть с нами на равных весёлая смерть
- пирует под сводом подвала.
- Когда мы уходим, включается свет,
- как будто и тьмы не бывало.
Прощание
- Это последние дни для синицы,
- это последние дни.
- Слева болит и никак не сболится,
- справа горит городская больница,
- ртуть выкипает в тени.
- Это пернатых последние перья
- море зажгли под окном.
- Шёпотом, перетекающим в пенье,
- тени знакомятся с новою тенью,
- с телом прощается дом.
- Плач занавесок, полёт занавесок,
- пение в каждом окне.
- Быстро съедается жизни довесок,
- ворохи писем, любовей, поездок
- дружно сгорают в огне.
На пиле
- Никакущий человек из никаковья
- переехал, поселился в Подмосковье
- и по пятницам играет на пиле
- попурри из лучших песен на земле.
- Мыши пляшут, насекомые народы
- на линолеуме водят хороводы
- и вращается панельное жильё
- и вокруг него соседское бельё.
- Все тут пилят, но один теперь играет,
- и никто, само собой, не умирает,
- лишь порой себе отпилит невзначай
- гнев, гордыню, сладострастие, печаль.
- Хорошо явиться в город ниоткуда,
- не страшиться ни суда, ни пересуда
- и смотреть, как путеводная звезда
- звать зовёт, но не уводит никуда.
«Куда носили, где похоронили…»
- Куда носили, где похоронили —
- не ваше дело, наше барахло.
- Кто говорит, что тело уронили?
- Оно под почву странствовать ушло.
- Скажите, не выбалтывая лишку,
- когда припрут хозяева земли:
- «Здесь нет его – откидывайте крышку,
- и вообще – туда ли вы пришли?»
- Здесь осень поминают аква-витой,
- небесный саркофаг свинцов
- и по тропинке зябкой, непобритой
- спецы ведут спецов.
VII. Королева ужей
Вполголоса
- где пиво пенится
- течёт вода
- где люди женятся
- как города
- где солнце брезжится
- идя на дно
- где в сику режутся
- в двадцать одно
- где вены рубятся
- как снасти в шторм
- где души губятся
- чертям на корм
- где слив побоище
- где флот речной
- и я с тобой ещё
- и ты со мной
Ласточкино гнездо
- Говорил печальный Людвиг —
- Людвиг, прозванный вторым:
- я так люблю мадам Баварию,
- мадам Бавария – это я. Есть у меня теперь семья,
- и мы с семьёй поедем в Крым:
- пусть строят замки сыновья
- и в мяч играют сыновья.
- И слушал серенький мышонок,
- слушал розовый котей,
- как говорил печальный Людвиг,
- запахнув полу халата:
- я буду баловать себя
- и делать сам себе детей —
- сладчайших деток из халвы,
- из пастилы, из мармелада.
- Я им дарую имена,
- потом раздам их по своим:
- пусть одного возьмёт любовь
- и одного возьмёт война.
- А младшего себе оставлю
- в память, как летали в Крым.
- Ее крыло – моё крыло.
- Моя слеза – моя страна.
Лодки
- Лодки улетают, убегают,
- лодки улепётывают на
- маленьких ногах недоуменья и печали
- витражами воздуха и дна.
- Только лодки никуда не уплывают,
- не скрипят уключинами, нет.
- Лодки, словно луны, убывают,
- улетая мошками на свет.
- И прицельней в воздухе, и пристальней
- муравьиных лодок лёт.
- Оглянись – там нет уже и пристани,
- лодочник, усталый старый Лот.
Ямщик
- Ямщик, не гони, не гони.
- Рассказывать будешь ментам.
- Мелодию первой любви
- не так подбираешь, не там.
- Зевают кареты, возки.
- Спит остров под мёрзлой водой.
- В мелодии поздней тоски
- куражится гном с бородой.
- Мы едем, как будто на слом
- куранты везут упыри.
- А прошлое кажется слон:
- на ощупь поди разбери.
- Что было, чего ни фига
- не помню, что мимо прошло.
- Где хобот его, где нога,
- а здесь почему-то крыло.
Королева ужей
- «Мало времени», думает, «времени нет,
- остаются тоска и привычка».
- Но из горла карабкается на свет
- безголосая дева-певичка.
- А прислушаться – в голосе все-таки есть
- что-то тонкое, колкое: перья
- вместо ватмана бегло царапают жесть
- и судьба ошибается дверью.
- Это раненый голос кукушкина льна
- озарил шелковистые склоны
- и сквозь ветви на убыль несётся луна,
- за себя оставляя дракона.
- Что же делать? Бежать на вокзал, брать билет,
- или так, без билета, прокатит?
- Только мы уж решили, что времени нет
- и на новые главы не хватит.
- Этот голос – дорога: темна, далека,
- и нет веры тому кривотолку,
- как под утро четыре вальта-жениха
- подступили к лесному поселку.
- Пусть их дождик с околицы гонит взашей,
- распекая морзянкою доски
- и гуляет одна королева ужей
- и из подданных вяжет авоськи.
Про кота
- Кот неопрятен, бомжеват,
- но хитрый глаз его горит,
- как свежесобранный мускат
- у молдаванских карменсит,
- как вольный огонёк такси,
- но ты не скажешь ведь коту:
- «туда-сюда меня вези».
- Коты увозят в пустоту,
- в подвалы, в топь, за гаражи
- и там бросают седока,
- хоть ты кис-кис ему скажи,
- хоть капни на нос молока.
- А если уж впряжётся кот
- в повозку с розой на боку,
- то лишь как возчик Аштарот
- к возлюбленному пастушку.
- И тут уж сам он кликнет «брысь,
- раздайся, бестолковый люд,
- бессмысленная мышекрысь».
- И глаз горит как изумруд.
Речфлот
- Поговори чуть-чуть со мной,
- мне холодно весной.
- Возьми меня в свой флот речной,
- в свой дивный флот речной.
- Хотя бы юнгой в экипаж,
- пусть я уже не юн.
- Работу мне любую дашь,
- хоть вычищать гальюн.
- Я век стоял на берегу,
- терял часы и дни.
- Уже я видеть не могу
- плавучие огни.
- Какой оклад, какой расход —
- расскажешь мне потом.
- Возьми меня на теплоход,
- идущий под мостом.
- Где чардаш бьётся о фальшборт
- и палуба в дыму.
- Где кровь шампанская течёт
- сквозь Тверь и Кострому.
- Не отходи, побудь со мной,
- мне сердце успокой.
- Возьми меня в свой флот речной,
- не нужен мне морской.
- Хоть крысой в трюм меня впиши,
- хоть судовым червём.
- Последней браги для души
- из Волги зачерпнём.
- Потом глумись и веселись
- весь бесконечный век.
- Но хоть до Астрахани, плиз,
- не списывай на брег.
Из книги «Ау-Ау»
Элэй
- Коньяку на два пальца, дружок, мне налей,
- протяни мне лимонную дольку.
- До чего же мне нравится слово ЭлЭй,
- больше Видного или Подольска.
- Между прочим, я в Видном когда-то живал,
- было мне тогда года четыре.
- А на тему Подольска какой-то провал,
- помню, девок мы там подцепили.
- Две блондинки в годах, малоросских кровей,
- то ли гэкали, то ли рыгали,
- и одна все твердила, что хочет в ЭлЭй,
- а другая нудела: ну, Галя.
- Пили водку «Еврейскую» ради понтов
- и срубились в момент, а наутро
- просыпаемся – глядь, ни бабла, ни котлов,
- и на брюках дешёвая пудра.
- Я смотрю, ты так бодро хомячишь икру
- и на телок косишься без цели.
- Я все вижу: ты, братец, агент ЦРУ,
- но не буду стучать метрдотелю.
- Ничего ты не выловишь тут, дуралей,
- только выложишь деньги на бочку.
- Лучше вот что: ты мне расскажи про ЭлЭй,
- толку нет тосковать в одиночку.
- Мне приснился ЭлЭй будто город в степи,
- небоскрёбы среди терриконов,
- там где розы цветут, там где пишут стихи
- сыновья работяг-лепреконов.
- Мне приснился ЭлЭй как хрустальная твердь,
- лунный путь, золотые ворота.
- А на самом-то деле какой он, ответь?
- Два часа ещё до самолёта.
- Я готов – если скажешь про ветер морской
- или скажешь про холод подземный.
- Я хожу по ночам и питаюсь тоской —
- слаще крови из вены яремной.
- Если мёртвое брюхо тоскою согреть,
- ночь тепла, что твоя чернобурка
- и шпион за шпионом уходит на рейс
- под мелодию Криса де Бурга.
- Он встает из-за столика, гасит свечу
- и на галстуке правит булавку,
- оставляя свой карий бокал москвичу,
- помянуть подольчанина Славку.
- А потом в бизнес-классе – простор для колен —
- по сто раз выверяет по смете,
- чтоб стрекозы судьбы прибывали в ЭлЭй
- чуть быстрее, чем бабочки смерти.
Зима
- На Васильевский остров
- не пришёл умирать.
- В Переделкине, Постум,
- попросил закопать.
- Где писатели млели
- и делили корма.
- В СНТ «Сан-Микеле»
- на платформе Зима.
- Где над рощей летает
- Леонидыч Борис.
- Где лежит Эзра Паунд,
- итальянский фашист.
- Полюбил бы я зиму,
- в ней живут без числа
- те, кто сраму не имут,
- не срубают бабла.
- Не бывать больше сраму,
- облетел интерес.
- Чао, нейтронная мама
- и небратская ГЭС.
- Идут снеги по леске,
- будто стадо медуз,
- и Онегина Ленский
- принимает в Союз.
- И летят пионеры,
- и гогочут «ура»,
- как гагары-галеры
- вдоль теченья Днепра.
«скончался владимир маканин…»
- скончался владимир маканин
- за это позор ноябрю
- но живы ещё мураками
- харуки такаши и рю
- мы булку в подливу макаем
- на хлеб навлекаем икру
- аукает в небе маканин
- харуки такаши и рю
- маканин теперь как гагарин
- сигналит с небес морякам
- ну располагайся не барин
- тут нет никаких муракам
- тут холод как белка и стрелка
- собачий родной шерстяной
- тут звука ломается целка
- и дробью летит над страной
- нам многое будет по силам
- когда мы икру доедим
- и милую землю годзиллам
- без боя уже не сдадим
Бологое
- Бологое – это мёрзлые менты,
- неусыпные как волки на перроне,
- а Москва – это дешёвые понты,
- ригатони, понимаешь, с пеперони.
- – В Бологом бывали или нет? —
- я хотел спросить соседа почему-то.
- Повернулся, а его простыл и след.
- Мы стоим не более минуты.
- Был момент, я вышел в Бологом,
- посмотрел на красоту родного края.
- А обратно думал о другом,
- а теперь о чем уж думать и не знаю.
- Над путями шаткие мостки,
- половинки сердца трутся словно льдины.
- Что в Москву, в Москву, что из Москвы,
- из Москвы – не все ли здесь едино?
Сироты Анны
- Знаменитая петербургская четвёрка,
- ставшая символом этого города,
- росла на окраине рабочего посёлка,
- где бедность не бывает опрятной и гордой.
- Юджин протирал стекла партийным ЗИЛам,
- Джо разносил булочки на вокзале,
- Тимми и Толли ходили по могилам,
- собирали цветы и продавали их заново.
- Потом они ограбили дом культуры,
- унесли две гитары и барабан,
- пели бомжам за глоток спиртовой микстуры.
- Там-то их и нашёл продюсер Гарри Алиханян.
- Он сказал: я не могу обеспечить признание
- группе, назвавшей себя «Черные тараканы».
- Для начала надо сменить название.
- А давайте вы будете зваться «Сироты Анны»?
- Анна – это была тихая старушка,
- к которой они сбегали от гнева отцов-пропойц.
- У неё на полке стоял пятитомник Пушкина
- и ещё годовая подшивка The Village Voice.
- На тот момент она ничего так держалась,
- душилась шанелью, носила расшитые тапки,
- но Гарри сказал: будем давить на жалость,
- так нам быстрее пойдут реальные бабки.
- На модном лэйбле «Роуз Люксембург»
- они записали свои первые синглы,
- и вскоре о них узнал весь Петербург,
- в клубах их рвали на части, охрана была бессильна.
- Комсомолки становились в очередя,
- чтобы с ними попробовать пьяного секса нежного,
- а на столетие вечно живого вождя
- они всю ночь зажигали на даче Брежнева.
- Они колесили по миру из года в год,
- Лондон, Нью-Йорк, Боливия, Филиппины,
- а когда они пели на Земле Королевы Мод,
- их огромной толпой пришли послушать пингвины.
- А потом Джо подцепил болезнь звёздную,
- Тимми до самых почек разъела зависть,
- Юджин заделался профсоюзным боссом,
- а Толли стал просто старик с пустыми глазами.
- Разумеется, группа распалась. На смерть таких групп
- нервно реагирует земная магнитосфера,
- и однажды утром один посиневший труп
- в гардеробе заметила уборщица Вера.
- Оказалось, что это Гарри. Его язык
- был призывно раскатан, будто дорожка в Каннах.
- Попрощаться с ним не приехал никто из них —
- тех, кого он за ручку привёл в страну великанов.
Из Эмили Дикинсон
- Иван погиб за красоту,
- за правду лёг Саид.
- Они лежат с землёй во рту,
- один другому говорит:
- – Ну ладно мы, понятно – мы,
- наш путь был прям и сжат,
- но эти, скорбные умы,
- какого шута здесь лежат?
- Другой неспешно отвечал:
- – Вот этот, у стены,
- права грошовые качал,
- и не стерпели пацаны.
- Вон тот делиться не хотел,
- а эту рак увёл.
- А трое рядышком, вон те,
- всю ночь глушили метанол.
- Одних убил Афганистан,
- других взяла Чечня.
- Моли же, чтоб я перестал,
- ведь это, в общем-то, фигня.
- – Но что ж примером не-фигни
- послужит, милый побратим?
- – А то, что мы с тобой одни
- на этих грядках говорим.
- Они безгласны, каждый нем,
- был шумен, но утих.
- И мы легли сюда затем,
- чтоб тут беседовать за них.
- Но с ними вместе в полный рост,
- разъяв свои гроба,
- мы прорастём во весь погост,
- едва послышится труба.
Шакунтала
- Шакунтала
- завела себе
- правильного любовника.
- Не олигарха,
- не гитариста:
- часовщика.
- А до того помыкалась по Москве,
- по квартирам со стремными девками
- из Тюмени, Бишкека.
- А она – угловатая, смуглая
- из индийской глубинки.
- Мать – бухгалтер на швейной фабрике,
- отец – заезжий факир.
- Часовщик
- чинит чужие часы.
- Предпочитает пожившие,
- старые.
- Чистит колёсики,
- выковыривает крупицы времени,
- застрявшие семена времени,
- складывает их в шёлковые мешочки.
- По весне высаживает их на балконе,
- растит черные травы времени.
- Отгоняет от них котов,
- чтобы не жрали.
- Осенью время даёт плоды.
- Шакунтала
- кормит котов минтаем,
- готовит карри,
- метёт рыжий паркет.
- Часовщик говорит: когда-нибудь
- у нас будет много времени,
- мы будем его повелители.
- Мы отправимся в большое путешествие:
- отведём руку убийце Леннона,
- дадим пару ценных советов
- Бонапарту при Ватерлоо,
- пообедаем с Периклом и Аспазией,
- поохотимся на шерстяных носорогов.
- Мы будем бессмертны, мой уголёк,
- будем бессмертны.
- Так и будет, мой яшмовый тигр —
- отвечает Шакунтала
- и нежно чешет любимого за ухом.
- У неё есть свой мешочек.
- Немало крупинок
- незаметно падает на пол.
- Когда он засыпает,
- она перемещается на десять лет назад,
- входит в двери больницы,
- протискивается по коридору
- сквозь гниющие, червивые тела
- представителей низших каст
- и находит ослепительно-белую койку,
- где лежит её старший брат.
- Среди этих трубочек, проводков
- он похож на прекрасного паука,
- пленённого собственной сетью.
- Он не видит её.
- Она кормит его с руки
- семенами времени.
- Просовывает их
- через его нежующие зубы.
- Потом спрашивает лечащего врача:
- сколько ещё нужно времени
- прежде чем вы придумаете
- своё обещанное лекарство?
- Я принесу, я украду, выгрызу!
- Врач растекается ртутной улыбкой
- и превращается
- в пузатый будильник.
Елабуга
- Такова душа москвича:
- влюбчива в города
- где угодно осталась бы навсегда
- Приезжаешь в Саратов – хочется жить в Саратове
- Приезжаешь в Казань – хочется жить в Казани
- Приезжаешь в Елабугу – хочется жить в Елабуге
- Гулять по улицам
- жонглируя разноцветными домиками
- Летать на крыльях кованых дверей
- На высоком берегу Камы
- рассматривать чёткий чертёж долины
- и думать: до чего же хочется жить
- И не только в Елабуге
- Хочется жить и в Сарапуле
- и в Сызрани
- и в Кинешме
- в каждой из купеческих столиц
- убитых на взлёте
- Да много где хочется жить:
- и на платформе 47 км
- и на платформе 113 км
- и на станции Вековка
- где покупали паршивый коньяк
- за дикие деньги
- Дай мне
- мой господин
- 10 000 жизней —
- разве жалко тебе? —
- чтобы жить их одну за одной
- в разных местах
- на глухих полустанках
- в трещинах сосновой коры
- под половицами
- между стеной и обоями —
- и пусть себе крошатся
- края литосферных плит
- и меняются образы континентов
- Ещё говорят
- на одном из спутников Сатурна
- под толщей льда
- возможна какая-то жизнь
- Вот пожить бы и там:
- пусть безглазой точкой
- недобактерией
- только бы жить
- только бы не исчезать
- И потом снова в Елабуге:
- спать за печкой
- слышать стук молотка
- крик петуха











