Читать онлайн Беженцы
- Автор: Френк Кастекер, Боб Мур
- Жанр: Зарубежная публицистика, Популярно об истории
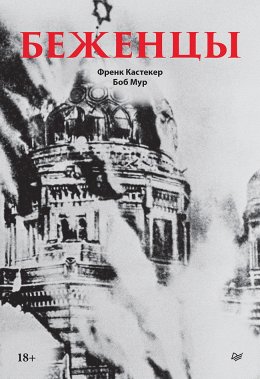
Серия «Современная история массового насилия»
Refugees from Nazi Germany and the Liberal European States
Edited by
Frank Caestecker and Bob Moore
© ООО Издательство «Питер», 2025
© Berghahn Books, New York/Oxford. Originally published as: Refugees from Nazi Germany and the Liberal European States by Frank Caestecker.
ISBN 978-5-4461-4318-4 © Перевод на русский язык ООО «Прогресс книга», 2025
© Издание на русском языке, оформление ООО «Прогресс книга», 2025
© Серия «Современная история массового насилия», 2025
© Фото на 1 с. обложки, РИА Новости, 2025
© Фото на 4 с. обложки, Б. Фишман, РИА Новости, 2025
Благодарности
Идея этой книги возникла в ходе двух семинаров, организованных Френком Кастекером в Центре изучения и документирования войны и современного общества (Studie en Documentatiecentrum Oorlog en Hedendaagse Maatschappij (CegeSoma)) в Брюсселе 15–17 января 2004 года и 20 января 2005 года. Оба мероприятия стали возможны благодаря щедрым финансовым взносам Института Гёте, Брюссельского столичного региона, Фонда развития науки и искусства – Влаандерен, Национального фонда научных исследований, Федеральной программы по науке и искусству ((POD) Wetenschapsbeleid / Service Public Fédéral de Programmation Politique Scientifique) и Королевской фламандской академии наук и искусств Бельгии. Семинары проходили при поддержке и содействии Хосе Готовича, в то время директора CegeSoma, а также его сотрудников и научного комитета. В частности, мы хотели бы поблагодарить Анну Бернар и Лут ван Дале, двух членов административного персонала CegeSoma, которые оказывали проекту неустанную и неоценимую помощь. Мы также рады отметить помощь профессора Германа Бальтазара (Университет Гента), профессора Элса Витте (Врийский университет Брюсселя) и Маргареты Хаушильд из Института Гёте в Брюсселе, а также гостеприимство профессора Питера Лагру (Университет Либр де Брюссель) и доктора Руди ван Дорслаера (CegeSoma), которые предоставили нам время и место для редактирования этого тома.
Окончательный вариант книги был подготовлен после того, как Френк Кастекер покинул CegeSoma и в 2005 году занял должность на кафедре современной и новейшей истории в Гентском университете. Успех подобного сборника во многом зависит от готовности авторов сотрудничать, и нам посчастливилось собрать прекрасную группу академических коллег, которые отвечали на запросы и вопросы быстро и с неизменным добрым юмором. Материалы книги дают представление о политике в отношении беженцев в определенное время и в определенном месте. В этой книге политика в отношении беженцев рассматривается с разных точек зрения и с учетом различного исторического опыта беженцев, сотрудников иммиграционной службы, политиков, защитников беженцев и общественного мнения. Хотя они не внесли непосредственного вклада в эту книгу, мы в значительной степени обязаны ряду экспертов в этой области, которые поделились с нами своими соображениями, в первую очередь Луизе Лондон, Штефану Махлеру, Хансу Уве Петерсену и Клаусу Фойгту.
Наконец, мы хотели бы поблагодарить д-ра Марион Бергхан из Berghahn Books за то, что она взяла этот проект на себя и довела его до конца, а также читателей издательства за их бесценные предложения.
Введение
Френк Кастекер и Боб Мур
В XX веке Европа пережила ряд массовых миграций: евреи, спасавшиеся от преследований царских режимов; потрясения двух мировых войн; недавние беженцы – жертвы конфликтов в Африке и на Балканах; попытки массовой миграции в Европейский союз и перемещение внутри его расширенных границ. У всех этих процессов были свои комментаторы и аналитики, но именно беженцы из нацистской Германии 1930-х годов удостоились наибольшего внимания историков, социологов и демографов. Причины этого легко объяснимы. Идея о том, что большое количество людей может быть перемещено из государства с высоким уровнем культуры и развития, такого каким была Германия, противоречит современным представлениям о цивилизации и прогрессе. Но, возможно, есть не менее важный момент. Да, в историографии Европы и Второй мировой войны Холокосту было уделено достаточное внимание. При этом проблемы, связанные с бегством людей из нацистской Германии до 1939 года, воспринимаются лишь как важная предыстория, а это является причиной того, что западноевропейским демократиям и США отведена роль сторонних наблюдателей грядущей катастрофы и только.
Первые публикации о беженцах 1930-х годов появились в конце того же десятилетия с выходом в 1939 году книги сэра Джона Хоупа Симпсона The Refugee Problem. Хотя, несомненно, поводом для ее написания послужили проблемы беженцев из нацистской Германии, она охватывала все движения беженцев после Первой мировой войны, включая бегство армян и русских (после революции 1917 г. – Примеч. ред.) – это первые национальности, ставшие объектом международного внимания в рамках Лиги Наций. Симпсон рассказал о том, как создавалась Нансеновская международная организация по делам беженцев для решения проблемы лиц без гражданства и как эта система была отвергнута в качестве решения проблемы беженцев из Германии после 1933 года. Исследователи часто очень подробно объясняли, как та или иная государственная политика применялась на практике, но могли дать лишь ограниченное представление о том, почему такая политика была сформулирована. Книга Симпсона – единственное академическое исследование, появившееся в период до 1939 года, хотя важную информацию добавили другие публикации того времени, в частности специальный выпуск журнала Annals of the American Association for Political and Social Sciences Американской ассоциации политических и социальных наук за май 1939 года, содержавший серию статей, посвященных отдельным аспектам проблемы беженцев. Во время Второй мировой войны предпринимались попытки проанализировать проблемы беженцев, хотя и без доступа к современным европейским источникам. После 1945 года трагедия Холокоста и угроза третьей мировой войны отодвинули на второй план независимый анализ государственной политики в отношении беженцев в 1930-е годы, и основные публикации по этой проблеме в 1950–1960-е годы исходили от тех, кто непосредственно занимался частной работой по оказанию помощи беженцам. Их анализ зачастую сводился к объяснению того, что было и что не было сделано для жертв нацизма до начала войны. Эти немногочисленные публикации редко содержали критику усилий по оказанию помощи, и большинство из них были направлены на укрепление идеи о том, что и государство, и общество «сделали все возможное».
Первые общие истории Холокоста были посвящены трагической судьбе евреев во время немецкой оккупации и почти не затрагивали период до 1940 года, то же самое можно сказать и о появившихся национальных исследованиях. Академический интерес также был невысоким, за исключением Швейцарии, где в 1953 году опубликовали немецкие документы, подтвердившие факт сговора с этой страной о введении Швейцарией штампа «J» в паспортах прибывающих из Германии. Это разоблачение вызвало общественный резонанс и привело к подготовке официального доклада по заказу швейцарского парламента. Историк Карл Людвиг получил полный доступ к швейцарским дипломатическим архивам, и его исследование заложило основу для исторического анализа швейцарской политики в отношении беженцев 1930-х годов. Несмотря на то что в докладе четко указывалось, что Генрих Ротмунд, глава федеральной полиции, все-таки выступал за введение виз для немцев-евреев и считал, что штамп «J» противоречит интересам Швейцарии, его выбрали в качестве козла отпущения и вынудили уйти в отставку. В результате швейцарская политическая элита избежала излишней критики, и дальнейшего расследования политики в отношении беженцев пришлось ждать два десятка лет.
В 1970-х годах беженцы стали объектом немецких исторических исследований. Германская Демократическая Республика заказала исследования о беженцах-коммунистах, которые впоследствии стали активными основателями восточногерманского государства, а назначение канцлером Западной Германии бывшего политического изгнанника Вилли Брандта также помогло вызвать интерес к изучению беженцев у влиятельного Немецкого научно-исследовательского общества (Deutsche Forschungsgemeinschaft). Первым крупным достижением стал Международный биографический словарь центральноевропейских эмигрантов 1933–1945 годов – масштабный труд по сбору научных данных о политической, культурной и научной элите беженцев. К концу 1970-х годов немецкие исследования беженцев потеряли бóльшую часть поддержки, но остались в руках нескольких увлеченных историков, таких как Патрик фон цур Мюлен, Ханс-Уве Петерсен, Урсула Лангкау-Алекс и Клаус Фойгт, которые продолжили работу по выявлению тех, кто продолжал сопротивляться нацистскому режиму в изгнании. В последнее время эти так называемые Exil-Studien («исследования в изгнании») сместились в сторону изучения культурного и литературного наследия изгнанников и их влияния на послевоенный мир. Интерес к «истории простых людей» в 1980-х годах также прослеживается в Exil-Studien. После первоначальной фокусировки на бегстве политических активистов, интеллектуалов и художников они медленно двигались в сторону большего внимания к массам. Эрнст Лёви, Вольфганг Бенц и Эрнст Лоренц начали изучать тех, кого они называли «простыми людьми» среди иммигрантов, и благодаря этому новому интересу сосредоточились не только на рядовых членах политических организаций в эмиграции, но и на еврейских беженцах. Тем не менее их внимание оставалось сосредоточено на Германии, а страны убежища представляли лишь второстепенный интерес.
Анализ бегства эмигрантов и беженцев из нацистской Германии и политики, проводимой по отношению к ним в странах убежища, находился почти исключительно в руках историков, занимающихся национальной историей стран, принимавших переселенцев. Первый пример тому – Нидерланды, где в 1969 году был опубликован первый том The Kingdom of the Netherlands During World War II. Здесь автор Луи де Йонг, имея беспрецедентно высокий уровень доступа к государственным и частным документам, рассмотрел вопрос о беженцах в более широком контексте голландско-германских отношений, но затем подробно изучил различные еврейские и нееврейские усилия по оказанию помощи. Его цель была ясна и четко сформулирована: открытие и представление широкой общественности действующих лиц, которые определяли политику преследования евреев в нацистскую эпоху. Книга заложила прекрасную основу для будущих дискуссий. Изначально она была оформлена в виде двух докторских диссертаций: в то время как Дэн Мичман размышлял о голландской еврейской общине и проблеме еврейских беженцев 1930-х годов, Боб Мур объединил это с анализом факторов, повлиявших на политику в отношении еврейских и политических беженцев. Будучи англо-голландским историком, он был полностью осведомлен о британской историографии миграции и применил эти знания к голландскому кейсу.
С начала 1970-х годов такие вопросы, как иммиграция и антисемитизм, стали широко обсуждаться в британских исторических и социальных науках, а также возрос интерес к опыту и социальной истории иммигрантов. В это десятилетие появились первые публикации о долгосрочных тенденциях иммиграции в Великобританию и о политике, проводимой сменявшими друг друга британскими правительствами. Многие из них были посвящены перемещению неевропейских народов после Второй мировой войны, но неизбежно опирались на развитие иммиграционной политики в конце XIX – начале XX века, которая была направлена в первую очередь против притока евреев из Восточной Европы. Эта комбинация антииностранных и антисемитских тенденций, которая определила британскую иммиграционную политику в 1930-х годах, хорошо описана, в частности, Колином Холмсом, а новаторская работа Гизелы Лебзельтер об антисемитизме в Соединенном Королевстве дополнена другими, более поздними исследованиями. Первым исследованием, специально посвященным британской политике в отношении беженцев, стала работа Арье Шерман Island Refuge: Britain and Refugees from the Third Reich 1933–1939, в которой анализируется развитие британской политики в отношении беженцев в 1930-е годы, хотя автор и не получил доступ ко многим правительственным источникам. Остин Стивенс в работе Dispossessed: German Refugees in Britain больше сосредоточился на опыте самих беженцев, прибывших в Великобританию в 1930-е годы, но и он сделал те же выводы о характере британской политики в отношении иммигрантов, что в более поздних работах подтвердили такие ученые, как Марион Бергхан и Герхард Хиршфельд. Начиная с книги Бернарда Вассерштейна Britain and the Jews of Europe 1939–1945, проблема беженцев стала подаваться в контексте более широкого анализа Британии и Холокоста. Еще одним заметным дополнением к каноническому подходу стала публикация важной работы Тони Кушнера The Holocaust and the Liberal Imagination: A Social and Cultural History. Несмотря на анализ отношения к Холокосту в целом, в ней также представлен анализ политики британского правительства в отношении беженцев в 1930-е годы и их бедственного положения.
Смещение исследовательского интереса в сторону бегства евреев стало очевидным после публикации книги Френка Кастекера Unwanted Guests: Jewish Refugees and Migrants in the Thirties. Несмотря на подзаголовок («Нежелательные гости». – Примеч. ред.), в этой книге речь шла как о еврейских, так и о политических беженцах из нацистской Германии, но еврейские беженцы заняли центральное место. Более того, говоря о евреях как о мигрантах, исследование было основано на отношении к миграции как части исторического опыта континентальной Европы, отраженного в работах Жерара Нуарьеля во Франции, а также Яна Лукассена в Нидерландах и Джеральда и Сильвии Арлеттаз в Швейцарии. Эти историки проанализировали историю миграции в различных западноевропейских странах, а также исследовали сопротивление коренного населения все более мультиэтническим и мультикультурным обществам в результате колониальной и экономической миграции.
«Кризис убежища» в западном мире в 1990-е годы также послужил толчком к исследованиям истоков национальных политик в отношении беженцев и иммигрантов. В центре внимания таких исследований были евреи – беженцы из нацистской Германии. В первую очередь их рассматривали как беженцев, это был идеальный пример того, как различные интересы, включая гуманитарную заботу о людях, нуждающихся в защите, должны формировать иммиграционную политику и политику в отношении беженцев. В Великобритании анализ политики в отношении беженцев, проведенный Ариэлем Шерманом, был дополнен книгой Луизы Лондон Whitehall and the Jews. 1933–1948: British Immigration Policy, Jewish Refugees and the Holocaust. Луизе Лондон удалось в полной мере использовать рассекреченные к тому времени архивные документы британского правительства для глубокого анализа развития политики. Государственно ориентированный подход Лондон дополнила Эми Готлиб, которая сосредоточилась на усилиях англо-еврейской общины по оказанию помощи беженцам-евреям. Также Лоне Рюниц в своем анализе датской политики в отношении еврейских беженцев внесла неизмеримый вклад в датскую историографию, которая до этого времени занималась исключительно политическими беженцами.
До недавнего времени французские исследования, посвященные политике в отношении беженцев, оставались скудными, и лишь несколько публикаций были сосредоточены в основном на политической деятельности беженцев. Ситуация изменилась с появлением публикаций Вики Карон о политике французского правительства, общественном мнении и действиях местных евреев. Ее исследование показывает, как народные настроения влияли на политику и как политика влияла на настроения общества. Она показывает не только отношение французско-еврейской общины к беженцам, прибывшим из нацистской Германии и Восточной Европы, но и отношение всего французского общества. Исторические исследования Карон в том числе направлены на изучение истоков вишистского антисемитизма в межвоенный период, она также указывает на напряженность внутри французской еврейской общины, которая впоследствии повлияет на реакцию евреев на Виши. В рамках миграционных исследований сильная традиция французской социальной истории с ее акцентом на длительный период имела тенденцию игнорировать политическую историю. Французские историки иммиграции в целом и Жерар Нуарьель в частности сосредоточили свой анализ политических аспектов миграции главным образом на том, как административные круги преобразовывали социальную реальность на долгую перспективу. Это привело к тому, что политическая история, анализирующая конкретные политические решения и их административную реализацию, осталась без внимания. В отличие от этого, в нескольких швейцарских исследованиях политика в отношении беженцев в 1930-е годы рассматривалась очень подробно. Если в 1950-х годах исследования Карла Людвига, посвященные политике в отношении беженцев и иммигрантов, были сосредоточены почти исключительно на федеральном уровне, то историки 1990-х годов обратили внимание на повседневную работу с иностранцами. Глубоко изучалась не только иммиграционная политика государственных структур, включая кантональные и местные власти, но и действия общественных организаций, таких как комитеты помощи беженцам, в частности те, чье сопровождение назначалось еврейским беженцам.
В связи с недавним ростом интереса к Холокосту государственные учреждения играют все более важную роль в стимулировании исторических исследований политики в отношении беженцев в 1930-е годы. В Нидерландах Министерство внутренних дел спонсировало публикацию Joodse Vluchtelingen in Nederland, 1938–1940. Documenten betreffende toelating, uitleiding en kampopname, в которой были опубликованы ранее засекреченные документы, имеющие жизненно важное значение для изучения политики центрального правительства Нидерландов в отношении беженцев в течение двух лет до мая 1940 года. Моральный облик Швейцарии во время Второй мировой войны постепенно разрушался из-за того, что швейцарские историки начали представлять более детальный и объективный анализ этого периода. Ученые наглядно продемонстрировали, что швейцарцы больше не могут считать себя ни героическими спасителями в трагедии Холокоста, ни даже невинными свидетелями; этот вывод сильно поколебал швейцарскую национальную идентичность. Ситуация усугубилась в середине 1990-х годов скандалом со «спящими» счетами в швейцарских банках, который запятнал международную репутацию страны и послужил толчком к серьезному историческому анализу политики Швейцарии в отношении нацистской Германии и преследования евреев. В 1996 году швейцарский парламент проголосовал за проведение исторического расследования по проблеме «спящих» счетов и активов без наследников. Использование новых архивных материалов, недоступных ранее, и комплексный подход позволили углубить наши знания о швейцарской политике в отношении беженцев и иммигрантов. В Дании аналогичная, но менее масштабная исследовательская программа была инициирована правительством. Газетная статья Вильхьялмура Орна Вильхьялмссона, посвященная выдаче датскими властями во время оккупации 21 еврея без гражданства, уничтожила мнение датчан о своей стране как о спасительнице евреев. Аналогичным образом исследование Лоне Рюниц вызвало потребность в переоценке давно сложившегося у датчан представления о своем прошлом. Это привело к тому, что правительство Дании заказало исследование о датской политике в отношении беженцев после 1933 года и позволило Рюниц проанализировать 8000 полицейских досье на беженцев, которые въехали или пытались въехать в Данию после 1933 года. На основе этих отдельных примеров в ее последней книге очень подробно показано, как решения законодательных и исполнительных органов власти ежедневно претворялись в жизнь местными властями на границе и в самой стране. Так исследователи-историки неизмеримо расширили наши представления о реальном отношении европейских государств к политическим активистам и евреям, бежавшим из нацистской Германии.
К новому тысячелетию во всей Европе исторические исследования, посвященные политике в отношении иммигрантов, определенно переключили внимание с политических вопросов на еврейских беженцев. Признание Холокоста важнейшим явлением XX века в Европе следует поставить в заслугу этому сдвигу парадигмы. Также движущей силой этого изменения можно считать общий сдвиг в историографии Холокоста и переоценку его значения для нацизма. Большинство европейских обществ были вынуждены задуматься о том, что они отвели себе роль сторонних наблюдателей в преследовании и спасении евреев в эпоху нацизма.
Необходимость международной и транснациональной перспективы
Историография, посвященная беженцам 1930-х годов и политике западных государств в отношении них, по-прежнему в значительной степени основана на национальной перспективе, причем каждая страна создает свои собственные нарративы и анализирует происходящее. Такие национальные исследования почти всегда предваряются кратким обзором обширной литературы о нацистской Германии, в которой подробно рассматриваются характер и масштабы преследований. Однако в исследованиях по нацистской Германии мало внимания уделяется тому, как преследуемые в конечном итоге покидали страну. Более того, влиянию политики эмиграции и высылки, проводимой различными ведомствами гитлеровской Германии, на их бегство уделялось лишь незначительное внимание. Лишь недавно было признано, что неудачи этой эмиграционной политики могут стать ключом к пониманию извилистой дороги в Освенцим.
Некоторые авторы публикаций использовали ключевую информацию о нацистских преследованиях как основу для периодизации, что дало возможность провести анализ того, как расселялись еврейские беженцы. Авторы выделяют национальную иммиграционную политику в качестве одного из факторов, объясняющих случившееся, но лишь приводят примеры из истории той или иной страны, не приступая к сравнительному анализу сходств и различий между национальными политиками. Историография политики в отношении беженцев из нацистской Германии редко дает обзор, выходящий за рамки национального кейса. Международное изменение политики в отношении беженцев также игнорируется. Если международный режим в отношении беженцев и обсуждался, то лишь для того, чтобы проиллюстрировать, как национальная политика в отношении беженцев отражалась в позициях национальных представителей на международных форумах. Исключением является Клаудена Скран, которая подошла к международному режиму беженцев в межвоенный период с ненациональной точки зрения, но ее очень оптимистичный анализ сосредоточился в основном на правовом изменении этого режима. В ее анализе международный режим в отношении беженцев межвоенного периода рассматривается как предшественник Женевской конвенции 1951 года, которая ввела идею особого режима для беженцев в рамках иммиграционной политики страны. Рассматривая правовые изменения, Скран концентрируется почти исключительно на международной арене и уделяет мало внимания внутренним факторам в различных странах, предоставивших убежище. Таким образом, ей нечего сказать о том, как этот международный режим повлиял на суровую реальность большинства беженцев в 1930-е годы. До сих пор практически не исследовалось, как международный режим беженцев влиял на национальную политику, как политика отдельных государств зависела от политики их соседей и подвергалась постоянному сравнению на протяжении всего периода, когда все правительства стремились сделать свою политику одинаково или, в идеале, чуть менее гостеприимной, чем другие. Такое сравнение неизбежно осложнялось тем, что ни в одной стране не существовало единой политики, а был целый комплекс мер, связанных с гражданством, проживанием, въездом и трудоустройством, которые в совокупности и составляли иммиграционную политику. Более того, как будет показано в данном анализе, ни одна из стран не выступила в 1930-е годы с политикой, основанной на одном и том же наборе принципов, предписаний или законодательной истории, не говоря уже об общей практике обращения с иностранцами.
Цель данного исследования – провести сравнительное изучение политики в отношении беженцев в 1930-е годы среди либеральных государств Европы: Бельгии, Дании, Франции, Люксембурга, Нидерландов, Швейцарии и Великобритании. Таким образом, фокусирование на европейских либеральных демократиях намеренно исключает информацию о приеме беженцев из нацистской Германии в фашистской Италии, Испании и Португалии. В качестве страны убежища с либеральным режимом до 1938 года можно было бы считать и Чехословакию, но сведения о ее политике в отношении беженцев в настоящее время настолько ограниченны, что существенные сравнения невозможны. Акцент на странах с либеральным режимом основан на современной теории социальных наук о том, что либеральные нормы влияют на политику в отношении иностранцев и что эти нормы являются ключом к пониманию ограничений в миграционном контроле. Однако очевидно, что эти самые современные нормы и либеральные ценности имеют гораздо более длительный срок существования, чем это можно предположить с точки зрения социологов. Либерализм XIX века вызвал нормативную революцию, которая оказала длительное влияние на способы функционирования государства и не в последнюю очередь на весь вопрос иммиграционной политики. Таким образом, период, когда эти либеральные ценности подверглись серьезной атаке – 1930-е годы, – является хорошим периодом для проверки прочности этих норм.
Все рассматриваемые здесь страны, за исключением Соединенного Королевства, имели общую сухопутную границу с Германией. Континентальные европейские страны столкнулись с общими проблемами в своей иммиграционной политике, поскольку их «зеленые» границы было сложнее контролировать, чем британские морские границы. Однако Великобритания также была включена в список, поскольку она являлась самой важной европейской державой в то время и поскольку ее решения имели далекоидущее влияние: создание в рамках Мюнхенских соглашений условий для появления такого явления, как беженцы, и контроль над доступом к обширной Британской заморской империи и, в частности, к Палестинскому мандату. Великобритания также стала важной страной убежища в последние годы мира, но она могла проводить иную, более избирательную политику в отношении иммигрантов и беженцев, чем ее континентальные соседи. Скандинавские государства Норвегия, Финляндия и Швеция, окруженные Атлантическим океаном и Балтийским морем, в 1930-е годы не были странами, которые в первую очередь рассматривались для предоставления убежища, поэтому они не были включены в данное сравнительное исследование, за исключением случаев, когда их политика влияла на развитие событий в Дании, единственной скандинавской стране, имеющей общую границу с Германией.
Период, охватываемый данным исследованием, был намеренно выбран таким образом, чтобы он заканчивался началом всеобщей европейской войны в сентябре 1939 года. Такая периодизация обусловлена стремлением исключить любое телеологическое обсуждение (когда отвечают на вопросы «зачем?», «с какой целью?». – Примеч. ред.) политики 1930-х годов в связи с последующим коллективным изгнанием и уничтожением евреев нацистами. Хотя в 1930-е годы обсуждался так называемый Мадагаскарский план, он не имел под собой никакой реальной основы до краха Франции в 1940 году, а люблинская схема «переселения» была сформулирована только после успеха польской кампании. Политику в отношении жертв довоенного нацистского режима необходимо анализировать в соответствующем историческом контексте. Разработчики политики в 1930-х годах еще не могли знать, какие ужасы обрушатся на евреев в оккупированной нацистами Европе после 1940 года.
В центре внимания этой книги – сравнительный обзор основных изменений в политике в отношении беженцев, реализованные либеральными западноевропейскими государствами в 1930-е годы. В части I основное внимание уделяется национальным тематическим исследованиям признанных экспертов в соответствующих областях. Книга начинается с главы Сюзанны Хайм, в которой дается обзор международного режима беженцев в 1930-е годы. Она анализирует половинчатые усилия либеральных демократий по выработке согласованного ответа на кризис беженцев. Ее статья выходит за рамки формального режима в отношении беженцев, описывая также то, что она называет «неформальный международный режим в отношении беженцев», который повлиял на исход евреев из нацистской Германии. Хайм объясняет, как евреи в Германии взаимодействовали с обширной неформальной сетью институтов, желающих ускорить, облегчить, замедлить или остановить их эмиграцию.
Три следующие статьи представляют собой национальные тематические исследования, каждое из которых имеет свой подход. Лоне Рюниц рассматривает отдельные случаи беженцев, просивших убежища в Дании. Эти беженцы либо бежали из нацистской Германии из-за преследований в связи с Rassenschande («осквернение расы» – термин, использовавшийся в нацистской расовой теории и закрепленный в дискриминационных Нюрнбергских законах о запрете браков и внебрачных отношений между евреями и неевреями. – Примеч. ред.), либо рассчитывали обосноваться в Дании, поскольку вступили в брак с датскими гражданами (или собирались это сделать). На основе анализа отдельных случаев она приходит к выводу, что датские власти не считали этих беженцев достойными, и показывает, как Копенгагену удалось отказать большинству из них в убежище. Рюниц также дает представление об административной иммиграционной практике. Рутинный контроль над иммиграцией трудно анализировать, поскольку развивающаяся административная юриспруденция в основном осуществляется несколькими высокопоставленными чиновниками и редко фиксируется на бумаге. Таким образом, разделительную линию между мигрантами и беженцами, а также между различными группами беженцев трудно провести как тогда, так и сейчас, и остается множество серых зон, которые могут быть выявлены только в результате кропотливого детального исследования.
Вики Карон дает широкий обзор приема еврейских беженцев во Франции в период с января 1933-го по сентябрь 1939 года. Используя большое число источников, включая газеты, государственные документы и архивы еврейских благотворительных организаций, она анализирует иммиграционную политику Франции и то, в какой степени беженцы из нацистской Германии получали более благоприятный прием по сравнению с другими иммигрантами. Она отмечает колебания во французской политике в отношении беженцев и фокусируется на том, как эта политика осуществлялась на местах. Она рассматривает многочисленные институты, вовлеченные во французскую политику в отношении беженцев, будь то законодательные, исполнительные или судебные органы, и обнаруживает сложную картину, показывающую, как трудно было французскому государству разработать политику, чтобы справиться с давлением на своих границах. Хотя порой французские власти были полны решимости не пускать иммигрантов, не имеющих приглашения, им пришлось смириться с постоянным проникновением беженцев и с либеральным или просто прагматичным противодействием политике, полностью исключающей въезд.
Третий национальный пример – швейцарский. Регула Луди дает очень широкую картину политики в отношении беженцев, анализируя ее без отрыва от многолетнего беспокойства швейцарской элиты по поводу меняющегося мира. Их одержимость национальной идентичностью, выражавшаяся в антисемитизме и антибольшевизме, служит фоном для понимания политики в отношении беженцев из нацистской Германии – политики, которая на протяжении 1930-х годов развивалась в сторону все более жесткого режима и в конечном итоге закрытия границы для еврейских беженцев в 1938 году.
Эти четыре главы под различными углами зрения демонстрируют, что парадигма миграционного контроля, ориентированная на государство и составляющая основной фокус данного сборника, должна быть контекстуализирована с учетом действий и отношения также и других действующих лиц: политических партий, гуманитарных организаций и гражданского общества в целом. Эта более широкая картина политической системы необходима для понимания изменений в иммиграционной политике и политике в отношении беженцев. Сами беженцы также должны рассматриваться как участники этого процесса, поскольку они реагировали как на нацистские преследования, так и на меры, принятые для предотвращения их въезда в страны убежища, используя любые доступные каналы, как законные, так и незаконные, чтобы обойти механизмы контроля.
Следующие четыре главы дают представление о политике в отношении беженцев и иммигрантов за пределами Европы. Здесь книга отходит от фокусировки на либеральных режимах, чтобы подчеркнуть, насколько ограниченными были возможности беженцев за пределами Европы. Патрик фон цур Мюлен вкратце описывает, как беженцы из Германии находили приют в Латинской Америке. Беженцам редко предлагали убежище, их принимали как обычных иммигрантов, которые должны были приносить пользу принимающей стране. Однако к концу 1930-х годов политики в Латинской Америке стали выделять беженцев как нежелательных иммигрантов, поскольку они были евреями, политически ненадежными или не соответствовали желаемому экономическому профилю. Однако неэффективность или коррумпированность латиноамериканской бюрократии означала, что большое количество беженцев все же могло эмигрировать в эти страны.
Авива Халамиш описывает британскую иммиграционную политику в отношении Палестины и (ограниченный) вклад сионистов в эту политику. Хотя сионисты выступали за «репатриацию» всех евреев в Палестину по идеологическим соображениям, на практике они проводили гораздо более прагматичную политику с учетом экономических и политических ограничений, продолжая настаивать на Палестине как долгосрочном решении для евреев Центральной Европы. Этот идеологически обоснованный ответ на кризис с беженцами, хотя и заведомо нереалистичный, был задуман как рычаг для создания еврейского государства в Палестине. К сентябрю 1939 года 60 000 беженцев из Великой Германии нашли убежище в Палестине. Это было больше, чем разрешали британские власти, но в основном являлось результатом нелегальной иммиграции, организованной сионистами (иногда в сотрудничестве с нацистами). Готовность немецких евреев бежать на самодельных лодках и нелегально въезжать в Палестину свидетельствует об отчаянии беженцев в конце 1930-х годов. Это в еще большей степени относится к тем, кто уезжал в Шанхай, – эпизод, особенно показательный с точки зрения отсутствия (легальных) альтернатив для евреев, желающих покинуть Германию. Стив Хохштадт описывает иммиграционную политику Шанхая и указывает на причины, по которым это международное поселение до начала Второй мировой войны оставалось единственным местом в мире, куда немецких евреев пускали без визы.
Бат-Ами Цукер анализирует иммиграционную и политику Соединенных Штатов в отношении беженцев. Здесь также беглецы из нацистской Германии не считались привилегированной категорией в иммиграционной политике. Очень жесткие критерии приема означали, что беженцев принимали относительно мало. Только в 1938 году президент Рузвельт взял на себя инициативу использовать свои административные полномочия, чтобы немного приоткрыть дверь. Это оказалось незначительной уступкой лобби, выступающему за беженцев.
В заключительной главе первого раздела книги Клаудия Курио наиболее ярко иллюстрирует отчаяние евреев, рассматривая случаи с детьми, которых родители отправили за границу, чтобы их спасли незнакомцы. Она рассматривает прием несопровождаемых детей-беженцев в четырех странах, чтобы сделать сравнительные выводы. Ее исследование подчеркивает возможности, открывающиеся перед политиками, и демонстрирует особенности каждой отдельной страны, делая акцент на контрастах между ними.
Часть II книги написана Френком Кастекером и Бобом Муром и представляет собой попытку сравнительного подхода к политике в отношении беженцев в 1930-е годы в целом. Чтобы сделать это эффективно, первая глава посвящена подробной предыстории политики в отношении иностранцев и беженцев, разработанной с середины XIX века и далее. Они сформировали основные прецеденты и обычаи, на которых основывалась политика 1933 года. Следующие главы разделены в хронологическом порядке. В каждой главе показаны как схожие черты, так и контрасты в реакции различных государств на нацистскую политику преследования и на факт давления количества беженцев на их границы. Все европейские страны столкнулись со схожим вызовом со стороны нацистской Германии, но способы решения этих проблем часто различались. Сравнение каждого из национальных примеров проливает свет и обогащает их. Еще анализ показывает взаимодействие между различными национальными иммиграционными политиками, а также между эмиграционной политикой Германии и иммиграционной политикой стран убежища.
Часть I
Национальный и международный анализ политики в отношении беженцев из нацистской Германии
Глава I.1
Международная политика в отношении беженцев и еврейская иммиграция под сенью национал-социализма
Я благодарна Френку Кастекеру, Альриху Мейеру и Бобу Муру за советы и комментарии к рукописи этой статьи.
Сюзанна Хайм
Большинство из примерно 500 000 евреев, проживавших в Германии на момент захвата власти нацистами в 1933 году, поначалу не рассматривали возможность эмиграции, поскольку не ожидали, что режим продержится долго. Однако уже через несколько лет это отношение изменилось. Хотя в численном выражении эмиграция из нацистской Германии не была столь масштабной по сравнению с другими потоками беженцев, она вызвала серьезные изменения в правовых системах и государственной политике основных стран убежища. Это не только повлияло на их политику управления миграцией, но и отразилось на доступе жителей к рынку труда, а также на правилах социального обеспечения.
Исключив евреев из так называемой Volksgemeinschaft («Народной общности», то есть сплоченной общими целями нации. – Примеч. ред.) и определив их как неполноценных и имеющих меньше прав, гитлеровский режим инициировал радикальное изменение международного порядка и поставил под угрозу хрупкое равновесие политической системы в межвоенной Европе. Немцы вернули себе право не просто исключать «иностранцев», желающих въехать на территорию Германии, но пошли гораздо дальше и заявили, что часть их «собственного» национального населения «не немецкой крови» и, следовательно, не является частью этнической общности, что считалось необходимым условием для полноценного гражданства. Эта политика запустила серьезный кризис, вынудив другие государства разгребать последствия пересмотра немецкой концепции гражданства и решать проблемы тех, кто был вытеснен из Германии. Сложившаяся ситуация в конечном итоге повлекла за собой разрушение такого инструмента предотвращения международных конфликтов, как система защиты меньшинств, и привела к распространению авторитарных методов в демократических странах.
До тех пор пока соседние с Германией страны признавали национальные интересы и определение гражданства как основы суверенитета национальных государств и не хотели вступать в открытую конфронтацию с нацистским государством, они могли только пытаться справиться с последствиями этого германского переосмысления.
Исходя из национального понимания гражданства и предположения, что проблема беженцев носит временный характер, они рассматривали беженцев без гражданства, то есть лиц без гражданства и евреев, вынужденных покинуть Германию, как главную проблему, поскольку этих людей нельзя было никуда репатриировать. Страны, наиболее пострадавшие от наплыва беженцев, отреагировали на кризис усилением пограничного контроля, изобретением различных ограничений для беженцев, живущих в стране, и, наконец, созданием лагерей для содержания «нежелательных» приезжих.
Основной тенденцией миграционной политики была и остается защита национальной территории от нежелательной иммиграции, независимо от того, что это означало бы для беженцев или для международного климата. В сомнительных случаях национальные интересы и общая установка на уступчивость и потакание Германии (даже до Мюнхенского соглашения 1938 года) превалировали над гуманитарными соображениями и хорошими отношениями с менее могущественными соседями. Такого рода национальный «эгоизм» также был отчасти реакцией на неспособность международных институтов справиться с кризисом. Старые инструменты управления международной миграцией, которые были достаточно эффективны в борьбе с потоками беженцев в предыдущие годы, больше не работали. Причиной тому был не только мировой экономический кризис, который изменил всю систему и значительно усложнил процесс превращения беженцев в рабочую силу. Система защиты меньшинств хотя бы наполовину соблюдалась лишь до тех пор, пока великие державы навязывали ее новым государствам, возникшим на руинах великих империй, в качестве предварительного условия их независимости. Однако германские евреи не рассматривались как национальное меньшинство (у евреев не было своих национальных автономий, они просто имели гражданство или подданство различных стран мира. – Примеч. ред.), и великие державы даже не пытались оказать на Германию такое же давление, какое они оказывали на более мелкие государства Центральной Европы. Именно этот факт впоследствии подтолкнул такие государства, как Польша и Румыния, последовать примеру Германии и попытаться вытеснить свое еврейское население, превратив таким образом проблему немецких беженцев в общеевропейскую. Другой традиционный инструмент международной политики в отношении беженцев, Нансеновская международная организация по делам беженцев, никогда не участвовала в оказании помощи немецким беженцам по причинам, которые станут очевидными из позднейшего изложения.
Сегодня новые формы миграционного и пограничного контроля инициируются согласованными действиями министров внутренних дел (или государственных секретарей) либо международными встречами специальных полицейских сил. Однако в 1930-е годы создание инструментов миграционного контроля едва ли было скоординированным процессом принятия решений. Правительства, как правило, разрабатывали (миграционную) политику независимо друг от друга, а зачастую и вопреки друг другу. Однако иногда миграционная политика корректировалась на региональном уровне, и обычно национальные интересы не определялись враждебно по отношению к другим государствам. Было предпринято несколько попыток решить кризис беженцев с помощью международных соглашений. Основными шагами на пути к скоординированному на международном уровне решению кризиса беженцев, о которых пойдет речь в этой главе, были:
• учреждение поста Верховного комиссара Лиги Наций по делам беженцев (еврейских и других), прибывших из Германии в октябре 1933 года;
• Временное соглашение о статусе беженцев, прибывающих из Германии, подписанное в 1936 году;
• официальная конвенция, определяющая некоторые основные права беженцев, – была утверждена два года спустя, в феврале 1938 года;
• Эвианская конференция в июле 1938 года – последняя попытка найти международное решение кризиса беженцев до начала войны.
В то время как некоторые историки рассматривают эти соглашения как свидетельство существенного прогресса в достижении международного консенсуса, большинство авторов отвергают Лигу Наций как слабый институт, неспособный предложить беженцам какую-либо существенную защиту. Рассмотрение исключительно этих попыток найти новый консенсус по миграционным правилам, однако, ограничило бы анализ классическим набором аспектов международной политики, таких как международные институты, соглашения и дипломатические усилия, другими словами, официальным режимом беженцев. Различные косвенные средства, используемые для ограничения и контроля миграции, а также сами беженцы, их институты и их реакция на миграционные ограничения были бы проигнорированы. Тем не менее, международный режим для беженцев сформировался скорее в результате сочетания многих формально не связанных между собой действий по защите предполагаемых национальных интересов (Германии или других стран), чем действий международных институтов.
Помимо официальных структур, существовало то, что я бы назвала неформальным международным регулированием в отношении беженцев. На различных уровнях и в различных учреждениях – от еврейских общин до гестапо – политика в отношении беженцев формировалась субъектами, которые формально не были ни взаимосвязаны, ни скоординированы. Тем не менее их действия часто были взаимозависимы и оказывали влияние на то, что происходило на международном уровне. Приведу лишь несколько примеров: барьеры, установленные в странах убежища для защиты национального рынка труда или интересов определенных профессиональных групп, изменили миграционные потоки и часто вынуждали беженцев, недавно прибывших в одну страну, к дальнейшей эмиграции. Путем создания лагерей содержания под стражей и милитаризации контроля над морскими путями администрация Британской подмандатной территории приняла ответные меры против попыток сионистов нелегально вывезти евреев из Германии в Палестину. Гестапо с помощью создания специального управления валютного контроля (Центральное имперское управление по расследованию валютных операций (Devisenfahndungsamt) было создано Германом Герингом в 1936 году. Оно подчинялось гестапо – Тайной государственной полиции и имело главной целью предотвращение вывоза эмигрантами и евреями из Германии валюты. Должность главного валютного инспектора занял лично Рейнхард Гейдрих, который в мае 1941 года, в силу того что эмиграция из Германии прекратилась, распустил управление. – Примеч. ред.) и других инструментов пыталось контролировать передвижения, контакты и действия беженцев и вынуждало евреев, которые хотели покинуть страну и вывезти свои активы, обходить ограничительные законы и положения.
В этой главе кризис беженцев 1930-х годов будет проанализирован как история развития национальных и межнациональных инструментов контроля над миграцией. Этот процесс необходимо рассматривать как с формальной, или институциональной, так и с неформальной точки зрения. Такое разграничение двух уровней делает ранее невидимых участников, таких как отдельные беженцы и организации по оказанию помощи, узнаваемыми в качестве субъектов международной политики; оно также основано на комплексном понимании миграционной политики, выходящей далеко за рамки прямых средств контроля миграции.
Верховный комиссар – новый институт на хрупком фундаменте
Когда в 1933 году началась принудительная миграция из Германии, не существовало международной организации, «по определению» отвечающей за беженцев. Традиционная структура Лиги Наций по делам беженцев, Нансеновская международная организация по делам беженцев, не была уполномочена заниматься какой-либо новой группой. Ее миссия ограничивалась русскими беженцами (после революции, Гражданской войны и последующего голода). Распространение ее мандата на новые группы беженцев потребовало бы внесения поправок в соглашение о создании организации, как это пришлось делать, в частности, в отношении армянских беженцев в 1920-х годах. Такую поправку было бы трудно получить, и она в любом случае не устроила бы советское правительство, которое отвергло бы Нансеновскую организацию за ее якобы антисоветскую политику поддержки русских беженцев. Однако Лига Наций не только надеялась вовлечь Советский Союз в процесс по разрешению нового кризиса с беженцами, но и хотела, чтобы он присоединился к ней, – что и произошло в 1934 году. Усиление значения Нансеновской организации угрожали бы этим надеждам. Как бы то ни было, в начале 1930-х годов Лига Наций в значительной степени утратила свой авторитет. В то же время Европа все еще боролась с экономическим кризисом, и беженцы рассматривались в основном как нежелательное бремя, а не как преимущество для внутренних рынков труда.
Другим международным институтом, традиционно занимавшимся миграционной политикой, была Международная организация труда (МОТ, International Labour Organization, ILO), которая рассматривала проблему беженцев на одной из своих международных конференций летом 1933 года, но только в той мере, в какой она затрагивала национальные рынки труда. Глава МОТ Альберт Томас рассматривал проблему беженцев в целом как вопрос расселения «избыточного населения», а контроль над миграцией – как основу «рациональной демографической политики». МОТ заказала исследование по этой проблеме. Однако, согласно немецким источникам, Генеральный секретарь Лиги Наций даже не счел резолюцию МОТ по беженцам из Германии достойной доведения до сведения стран – членов Лиги.
Дискуссии о необходимости создания нового учреждения для беженцев из Германии начались весной 1933 года, но ни одна страна не настаивала на этом, поскольку такой шаг мог оскорбить немецкое правительство. Немцы обычно утверждали, что евреи, покидающие Германию, не были лицами без гражданства (обычными подопечными Нансеновской организации) или вообще беженцами, поскольку, по данным Министерства иностранных дел Германии, они уехали из Германии в страхе потерять свои привилегии. Германия все еще была членом Лиги Наций и могла наложить вето на любые действия Лиги в отношении беженцев, такие как учреждение должности Верховного комиссара. Осенью 1933 года Германия вышла из Лиги, но любое аннулирование членства вступало в силу только через два года. Обеспокоенные снижением авторитета Лиги, Генеральный секретарь, а также многие члены Лиги надеялись, что немцы отменят свое решение, если намеченные реформы международной организации будут соответствовать их требованиям. Таким образом, среди членов Лиги существовал консенсус в отношении того, что инициатива по созданию нового учреждения, занимающегося беженцами, прибывающими из Германии, не имеет шансов, если правительство Германии не даст на это согласия, по крайней мере молчаливого. Спустя долгое время и с большой неохотой голландское правительство наконец выступило с инициативой создания института Верховного комиссара по делам беженцев из Германии, при этом неоднократно подчеркивая для немцев, что это следует рассматривать не как критику Германии, а исключительно как меру самообороны.
Тот факт, что никто не хотел идти на конфронтацию с немцами, привел к компромиссу, который с самого начала ослабил Управление Верховного комиссара. Во время предварительных обсуждений немецкий представитель в Лиге дал понять, что Германия воздержится от своего права вето только в том случае, если новый орган по делам беженцев не будет официальным учреждением Лиги. Таким образом, антиеврейская политика Германии не могла стать темой для обсуждения на Генеральной ассамблее Лиги. Эта просьба имела далекоидущие последствия: вновь созданная Верховная комиссия оставалась учреждением, не подотчетным самой Лиге, а комиссар не имел права отчитываться о своей деятельности перед Генеральной ассамблеей Лиги. Таким образом, Верховная комиссия оставалась несколько маргинальным институтом в кругах Лиги. Это «дистанцирование» даже приобрело конкретную форму с предложением Генерального секретаря Лиги Жозефа Авеноля, чтобы комиссар проживал в Лозанне, на известном удалении от штаб-квартиры Лиги в Женеве. Из-за нежелания стран – членов Лиги финансировать новое учреждение оно поддерживалось почти исключительно за счет частных средств, в основном еврейских организаций. Верховный комиссар получил из фонда Лиги 25 000 швейцарских франков на организационные цели, но это был всего лишь займ, который должен был быть погашен в течение года. Такими ограничениями Авеноль надеялся успокоить немцев, которые собирались покинуть Лигу.
В итоге первым Верховным комиссаром был назначен Джеймс Г. Макдональд, гражданин США. Его выбрали в основном потому, что эта кандидатура могла бы быть принята немцами. Макдональд имел тесные контакты с Германией и выражал свои симпатии к этой стране, защищая ее от обвинений в военных зверствах в ходе Первой мировой войны. На самом деле правительство США выступало против назначения гражданина США на пост Верховного комиссара, опасаясь, что это может подорвать иммиграционную политику Соединенных Штатов. Инициаторы создания нового института в рамках Лиги надеялись, что этот выбор позволит привлечь Государственный департамент США к усилиям по решению проблемы беженцев, даже несмотря на то, что США не являются членом Лиги. При поддержке Американской ассоциации внешней политики, председателем которой он был в течение многих лет, Макдональд в течение нескольких месяцев лоббировал создание Высшей комиссии. Однако в основном на него оказывали давление еврейские организации, и в определенном смысле создание отдельного учреждения, занимающегося вопросами беженцев, было их достижением.
Хотя Верховный комиссар не был подотчетен Генеральной ассамблее Лиги, он должен был отчитываться перед руководящим органом. В состав Комиссии входили представители 12 государств: Бельгии, Великобритании, Дании, США, Франции, Италии, Нидерландов, Польши, Швеции, Швейцарии, Чехословакии и Уругвая. Большинство правительств ожидали без огромных заявлений, что их представители сделают все возможное, чтобы направить беженцев в другие страны. Реальный интерес к деятельности Верховной комиссии проявили только страны, принявшие значительное количество беженцев, но они лишь хотели использовать ее как инструмент для избавления от «своих» беженцев. Франция, например, была убеждена, что единственная задача Верховного комиссара – расселение: быстрая эвакуация беженцев из принимающих стран. Французский делегат Анри Беранже выразился прямо: «Франция – это “коридор”, а не “пристанище”» («La France c’est un passage, pas un garage»).
Помимо руководящего органа, для оказания влияния на политику Верховного комиссара был создан Консультативный совет, состоящий из представителей организаций, занимающихся оказанием помощи беженцам. Несмотря на конкуренцию между различными организациями, Совет играл важную роль в оказании поддержки беженцам в практических вопросах. Более того, наиболее влиятельные организации в Совете, такие как Американский еврейский объединенный распределительный комитет (American Jewish Joint Distribution Committee, AJDC, «Джойнт» – организация, оказывающая помощь евреям, живущим за пределами США, которые находятся в опасности или испытывают нужду), Палестинское еврейское колонизационное общество (Palestine Jewish Colonization Association, PICA, или ICA), сыграли важную роль в финансировании Верховного комиссара, в то время как государства, представленные в руководящем органе, отказались нести какое-либо финансовое бремя. Одной из главных проблем, которую должен был решить Макдональд, был перевод еврейской собственности из Германии, что позволило бы еврейским эмигрантам начать новую жизнь за границей. Главным препятствием, мешавшим деятельности Верховного комиссара, был тот факт, что ему не хватало поддержки со стороны государств – членов Лиги, а немцы отказались даже принять его. Они утверждали, что их антиеврейская политика была внутренним делом не только из принципа, но и потому, что они не желали идти на какие-либо компромиссы в вопросе экспорта еврейских активов, поскольку, согласно их антисемитской пропаганде, евреи достигли своего богатства только за счет эксплуатации и обмана германских неевреев. В результате Макдональд практически ничего не мог сделать для ускорения решения этой конкретной проблемы и, как следствие, уделял больше внимания другим аспектам проблемы беженцев.
В 1935 году, после двух разочаровывающих лет пребывания на посту, Джеймс Макдональд подал в отставку. Он не смог договориться с немецким правительством и не добился особых успехов в содействии расселению беженцев в зарубежных странах. Макдональд – не единственный, кто был разочарован результатами собственной работы. Некоторые видные еврейские лидеры выразили недовольство его «безынициативностью и слабыми усилиями» и прокомментировали, что Макдональд «поставил себе в заслугу реальную помощь, оказанную еврейскими организациями». Задолго до его отставки, в сентябре 1934 года, организации по оказанию помощи в Великобритании и Франции рассматривали возможность прекращения финансирования бюджета комиссара и хотели, чтобы он ушел в отставку. После отставки Макдональд, тем не менее, продолжал заниматься работой с беженцами; он стал членом Консультативной комиссии по делам беженцев при президенте США, а после Второй мировой войны служил послом США в Израиле.
Ограничение труда и политика лишения собственности
В первые месяцы пребывания Гитлера на посту канцлера соседние страны принимали беженцев и пытались разместить их, хотя бы на временной основе. Когда нацистское правительство оказалось более стабильным, чем предполагалось вначале, и стало ясно, что беженцы еще долго не вернутся в Германию, отношение общества к ним в принимающих странах стало более враждебным. Из-за экономического кризиса и высокого уровня безработицы беженцы рассматривались прежде всего как угроза национальным рынкам труда. Поэтому одними из первых мер по ограничению притока беженцев стали ограничения именно на доступ к рынку труда. В ряде стран трудоустройство иностранцев должно было быть одобрено государством, и оно не разрешалось при наличии местных работников. В конце декабря 1934 года один из сотрудников Верховного комиссара сообщил о ксенофобской атмосфере в Нидерландах, основанной на «общем ощущении… что в течение нескольких лет страну заполонили иностранцы, которые нечестно конкурируют на рынке труда». В то время как Министерство иностранных дел Нидерландов выразило сочувствие положению беженцев из Германии, «департаменты экономики и социального обеспечения в настоящее время ведут своего рода экономическую войну с иностранной рабочей силой, что, конечно же, является очень прискорбным разрывом с либеральными традициями страны». В Дании правительство высказало аналогичные опасения по поводу конкуренции, которую немецкие беженцы представляют для датских безработных. В начале 1935 года сотрудник Верховной комиссии сообщил из Австрии, что «только в очень редких случаях выдавались разрешения на трудоустройство беженцев из Германии». По словам представителя Американского еврейского объединенного распределительного комитета осенью 1934 года, в нескольких европейских странах весьма усилилась ненависть к иностранцам и беженцам. Иногда даже некоторые представители еврейских общин в странах убежища занимали позицию против беженцев, опасаясь, что их собственное положение может пострадать с ростом антисемитизма, якобы спровоцированного огромным количеством еврейских беженцев из Германии.
Ужесточение политики ограничений в странах убежища сопровождалось эскалацией нацистской антиеврейской политики, направленной на то, чтобы вытеснить еще больше евреев из рейха. После беспорядочной череды злодеяний в первые месяцы правления режима сотрудники СД и гестапо, стремившиеся найти решение так называемого еврейского вопроса и постепенно взявшие на себя инициативу в руководстве антиеврейской политикой в нацистской Германии, сосредоточились на принуждении молодых евреев к эмиграции. В 1934 году СД изложила свою позицию в следующем заявлении:
Для евреев условия жизни должны быть ограничены – не только в экономическом смысле. Германия для них должна быть страной без будущего, где остатки старых поколений могут умереть, а молодые не могут жить, так что стимул для эмиграции остается жизненно важным.
Таким «стимулом» было прежде всего уничтожение материальной базы существования немецкого еврейства.
Нацистская политика изгнания евреев была противоречивой с самого начала. Некоторые бюрократические меры и преследования, направленные на изгнание евреев из Германии, на самом деле препятствовали их эмиграции. В частности, лишение евреев собственности с помощью налогов, сборов, профессиональных ограничений и запретов, а также ограничительные правила, касающиеся перевода имущества в другие государства, превращали эмигрантов в «нежелательных» людей, которые с точки зрения иммиграционных властей принимающих стран, скорее всего, станут «общественным бременем».
Как и еврейские художники и журналисты, которым не разрешалось вступать во вновь созданные профессиональные организации (имеется в виду Имперская палата культуры (Reichskulturkammer, RKK), организация, объединявшая всех творческих работников рейха, созданная в 1933 году. – Примеч. ред.), открытые только для «арийцев», еврейские рабочие были исключены из Arbeitsfront (Deutsche Arbeitsfront, DAF, Германский трудовой фронт), Объединенный профсоюз работников и работодателей, созданный в мае 1933 года на базе NSBO (Nationalsozialistische Betriebszellenorganisation, Национал-социалистической производственной организации)). DAF заменил все разгромленные нацистами профсоюзы, а еврейских рабочих в него не принимали изначально. – Примеч. ред.), официальной рабочей организации. Страховые и больничные пособия могли получать только члены Arbeitsfront. Вследствие этого, а также после увольнения евреев с государственной службы и запрета работать по ряду профессий уровень безработицы и обнищания среди немецкого еврейства значительно вырос. Как отмечал Герберт Штраус, «если учесть небольшие займы и другие формы социальной помощи в расчете числа лиц, получающих поддержку, то в 1935 году до 33 % немецко-еврейского населения, возможно, получали ту или иную форму социальной помощи – около 52 000 евреев получали помощь от государственной системы социального обеспечения». Так обстояли дела еще за несколько лет до начала так называемой деиудаизации немецкой экономики в 1938 году.
В то время как немецкое правительство лишало все больше евреев возможности зарабатывать на жизнь, оно также не давало им возможности начать новую жизнь за границей. В 1934 году сумма денег, которую эмигранты могли взять с собой за границу, была сокращена до 2000 RM (рейхсмарок. – Примеч. ред.) вместо 10 000 RM. Одним из важнейших инструментов лишения беженцев собственности был налог на побег из рейха (Reichsfluchtsteuer). Этот налог существовал с 1931 года и был призван ограничить эмиграцию состоятельных людей и защитить стоимость германской валюты. Поэтому он распространялся и на тех, кто покидал страну добровольно. Однако с 1933 года этот налог был направлен в первую очередь против еврейских эмигрантов, которые были вынуждены оставлять часть своего имущества в Германии при выезде из страны. Первоначально налог взимался только с тех, кто зарабатывал более 20 000 RM в год или владел имуществом стоимостью более 200 000 RM: они были обязаны платить 25 %-ный налог на побег из рейха. В 1934 году налоговая база изменилась и стала включать тех, кто владел 50 000 RM в любое время с 1931 года. В последующие годы порог налога постепенно снижался, тем самым расширяя круг тех, кто подлежал налогообложению. Тем, кто не мог заплатить налог, отказывали в разрешении на выезд из страны. Эмигрантам было предписано перечислить свои деньги на специальный счет, к которому они не имели доступа. С него они получали только небольшие суммы на повседневные траты. Таким образом, даже относительно состоятельные люди вынуждены были снизить уровень жизни. В 1936 году было создано Управление валютного контроля, которое значительно ужесточило слежку за финансовыми делами эмигрантов.
В то же время СД пыталась влиять на жизнь еврейского населения, препятствуя любым так называемым ассимиляционным тенденциям среди еврейских лидеров и одновременно поощряя сионистов, поскольку они рассматривались как движущая сила эмиграции. Таким образом, эмиграция евреев в Палестину поддерживалась нацистскими властями – по крайней мере до тех пор, пока появление еврейского государства там казалось маловероятной перспективой. Однако после того, как комиссия Пиля (Королевская комиссия по Палестине, которая была создана для расследования жестоких арабских восстаний, пришла к выводу, что британский мандат более не действует. – Примеч. ред.) предложила создать в Палестине еврейское государство рядом с арабским, эта политика изменилась. В ноябре 1937 года сотрудники отдела II 112, отвечавшего за антиеврейскую политику СД, резюмировали, что до этого момента «главной задачей» СД было подавление всех «ассимиляционных тенденций» в немецком еврействе. Однако в будущем, когда Министерство иностранных дел Германии займет позицию против создания еврейского государства, СД больше не должна будет поддерживать сионистов. Это изменение политики должно было держаться в секрете от евреев. Важнейшим моментом было разъяснить евреям, живущим в Германии, что единственным выходом является эмиграция.
Соглашение Хаавара, заключенное в августе 1933 года между министром экономики Германии и представителями сионистов из Германии и Палестины, позволило еврейским эмигрантам вывезти в Палестину хотя бы часть своего имущества и в то же время способствовало экспорту немецких товаров в эту местность. Для германского правительства ожидаемая выгода для внешней торговли была главным мотивом для подписания соглашения. Среди еврейских организаций возникли серьезные разногласия. С одной стороны, утверждалось, что соглашение косвенно поддерживает немецкую экономику и подрывает еврейский бойкот немецких товаров, организованный специальным комитетом, размещавшимся в Нью-Йорке. С другой стороны, сионисты утверждали, что активы немецких евреев, переведенные в Палестину, были крайне необходимы там для организации жизни еврейского населения.
В середине 1930-х годов подобные планы по переводу еврейских денег в другие страны, помимо Палестины, обсуждались еврейскими организациями в Германии и за рубежом. Британский сионист и владелец универмага Саймон Маркс разработал план организации эмиграции от 60 000 до 100 000 молодых немецких евреев. Их поселение в Палестине и других странах должно было финансироваться за счет пожертвований, собранных среди евреев за пределами Германии. Еврейский банкир Макс Варбург, член Имперского представительства немецких евреев (Reichsvertretung der deutschen Juden), имевший сравнительно хорошие отношения с президентом Рейхсбанка (Reichsbank, Центральный банк Третьего рейха) Яльмаром Шахтом, представил другой план. Согласно Варбургу, активы и имущество еврейских эмигрантов в Германии могли быть выделены в качестве обеспечения кредитов, предоставляемых эмигрантам трастовой компанией, которая должна быть создана в Лондоне. Варбург рассчитывал, что учредителями этой компании станут богатые и влиятельные еврейские деятели, такие как Энтони де Ротшильд, лорд Берстед и Саймон Маркс. План Варбурга в определенной степени подвергся той же критике, что и соглашение Хаавара, а именно: он должен был способствовать экспорту немецких товаров. Объединенный вариант плана Маркса и «плана Варбурга» обсуждался между членами Имперского представительства, с одной стороны, и делегатами Рейхсбанка, имперским министром экономики и имперским министром внутренних дел – с другой. Немецкие власти рассчитывали увеличить за счет такого соглашения экспорт. Однако по разным причинам переговоры зашли в тупик. Пока активы эмигрантов на заблокированных счетах уменьшались за счет так называемого налога на выезд (условием выезда было внесение каждым евреем суммы от 1000 до 2000 фунтов стерлингов на банковский счет. На эти средства компания Хаавара закупала немецкие товары для экспорта из Германии в Палестину. После прибытия на место репатриант должен был получить эквивалент внесенной в Германии суммы в палестинских фунтах. При этом германское правительство забирало половину денег от продажи еврейской собственности. Позднее аппетиты нацистов выросли, и к 1938 году «эквивалент», получаемый эмигрантом, не превышал 10 % исходной суммы. – Примеч. ред.), в качестве обеспечения кредитов за рубежом можно было использовать лишь небольшие суммы. Ограниченные результаты, достигнутые в рамках соглашения Хаавара, не оправдывали оптимистичных перспектив перевода крупных сумм, заложенных в «плане Варбурга». Кроме того, после того как эмигранты покидали страну, их оставшееся в Германии имущество считалось бесполезным в качестве залога для получения займа в иностранной валюте. Специальное соглашение действительно облегчало перевод денег, но только в очень ограниченном масштабе. К 1934 году ограничения на перевод денег за границу сделали практически невозможным отправку денег из Германии немецким гражданам в другие страны. Это коснулось, в частности, нескольких тысяч еврейских детей, чье поступление в школы за пределами Германии уже не могло быть поддержано их семьями. Вероятно, в результате переговоров Макдональда с немецким рейхсбанком в конце 1934 года был создан так называемый образовательный клиринг, позволявший евреям переводить деньги своим детям, посещавшим школы или учебные центры за рубежом.
Темпы «ариизации» («деевреизация» (нем. Entjudung) – политика насильственного изгнания евреев из общественной жизни, деловой и научной сфер и жилья в нацистской Германии. – Примеч. ред.) стали ускоряться, поскольку все больше и больше евреев были вынуждены продавать свои предприятия и активы, причем почти всегда по ценам гораздо ниже их реальной рыночной стоимости. Растущее обнищание евреев в Германии делало возможную эмиграцию все более проблематичной. Финансовые ограничения, наложенные на немецких евреев и особенно на потенциальных эмигрантов, в сочетании с ограничениями на рынке труда в принимающих странах – все это осложняло жизнь потенциальным еврейским эмигрантам.
Реорганизация еврейской общины
В то время как значительное число евреев так или иначе готовилось покинуть Германию, немецкие еврейские организации все еще колебались в вопросе поощрения эмиграции. Наиболее влиятельной из них была Центральная ассоциация граждан Германии иудейского вероисповедания (Centralverein deutscher Staatsbürger Jüdischen Glaubens, CV). CV подчеркнула необходимость борьбы с антисемитизмом в Германии и решительного противостояния растущей дискриминации. Первые реакции CV на нацистский режим, как и Имперского союза еврейских ветеранов войны (Reichsbund jüdischer Frontsoldaten), чередовались с протестами против антисемитских нападок, заявлениями о патриотической преданности и попытками преодолеть последствия антиеврейских мер. Обе организации выступали против сионизма и опасались подорвать позиции евреев в Германии, способствуя эмиграции. Уже весной 1935 года CV предупреждала, «что не следует без необходимости усиливать нервозность необдуманными лозунгами об эмиграции». Большинство лидеров CV, по крайней мере на ранней стадии нацистских преследований, считали профессиональную переподготовку правильным способом решения проблемы евреев. С помощью так называемой передислокации (Umschichtung) они хотели компенсировать запрет евреям на определенные профессии, такие как академические должности и торговля, и направить их в те профессии и сферы экономики, где им еще разрешалось работать (чаще всего речь шла о каких-то ремеслах или неквалифицированном труде в сельском хозяйстве. – Примеч. ред.).
Постепенно фокус работы еврейской общины смещался в сторону новых задач. Обучение, передислокация, экономическая поддержка и консультации по вопросам эмиграции стали основными направлениями деятельности как национальных, так и международных еврейских организаций в Германии. Несмотря на все предыдущие конфликты между сионистами и несионистами, перед лицом растущей общей угрозы обе стороны сблизились. На практическом уровне CV, «Рейхсбунд» (Reichsbund jüdischer Frontsoldaten, Имперский союз еврейских солдат-фронтовиков) и Сионистская федерация Германии (Zionistische Vereinigung für Deutschland) сотрудничали в различных новых учреждениях, созданных для облегчения кризиса, с которым столкнулась еврейская община. Хотя многие еврейские лидеры не рассматривали эмиграцию как «решение» для немецкого еврейства в целом, они пытались удовлетворить потребности тех, кто не видел будущего в Германии.
Новая ситуация вызвала масштабную реструктуризацию немецких еврейских организаций. В апреле 1933 года было создано Центральное управление по экономической поддержке евреев (Zentralstelle für jüdische Wirtschaftshilfe), а несколькими днями позже – Центральный комитет помощи и восстановления (Zentralausschuß für Hilfe und Aufbau), объединивший все еврейские организации, занимавшиеся вопросами социального обеспечения, эмиграции и образования. Целью Центрального управления было открыть новые возможности для евреев, вытесненных из экономической жизни, содействуя им в смене профессии или подготавливая их к эмиграции. Хотя в центре внимания должна была находиться консолидация еврейской жизни в Германии, эта задача не решалась догматически.
17 сентября 1933 года было создано Имперское представительство немецких евреев – зонтичная организация, целью которой было удовлетворить потребность в более мощном представительстве еврейских интересов перед нацистскими властями. Сионистское движение, традиционно пользовавшееся лишь незначительной поддержкой немецкого еврейства, после прихода нацистов к власти неуклонно росло и сыграло решающую роль в организации эмиграции, особенно для еврейской молодежи. В течение короткого периода сионисты создали или расширили инфраструктуру для организации и подготовки эмиграции в Палестину: центры сельскохозяйственного обучения для еврейской молодежи, курсы иврита, занятия по еврейской истории и географии Палестины, а также дискуссионные кружки, посвященные политическим перспективам сионизма.
Самопомощь и эмиграция
Несмотря на огромные усилия, еврейские организации смогли помочь лишь ограниченному числу эмигрантов. Они пытались сосредоточить свою работу на тех, у кого было мало шансов самостоятельно организовать (и профинансировать) эмиграцию. Многие другие, у кого были финансовые средства и родственники за границей, которые могли бы им помочь, уехали по собственной инициативе. В 1930-е годы организация собственной эмиграции стала занятием на полный рабочий день, и это помогает объяснить, почему многие евреи переезжали из маленьких городов в большие: как для облегчения процедур, так и для того, чтобы избежать преследования со стороны местных нацистов. Потенциальным эмигрантам приходилось обращаться в огромное количество агентств, чтобы получить все необходимые документы. Нередко заявление отклонялось из-за того, что срок действия подтверждающих документов истек или требовались другие документы, прежде чем оно могло быть рассмотрено. В поисках убежища эмигранты связывались с дальними родственниками, даже если никогда не были знакомы с ними лично, и просили у них финансовых гарантий, денег или другой поддержки. В конечном счете берлинское гестапо ограничило этот отчаянный поиск родственников за границей, запретив евреям писать письма иностранным гражданам с такой же фамилией просто из-за жалоб неевреев, получавших такие письма.
На практике запреты на работу иммигрантов в странах убежища означали незаконную работу (а значит, риск неприятностей с властями) или зависимость от организаций, оказывающих помощь. Поэтому иммигранты развивали своего рода черную или неформальную экономику, в которой женщины играли важную роль – чинили одежду мужчинам-беженцам, чьи жены остались в Германии, производили игрушки, одежду или другие вещи, которые можно было продать без магазина, принимали беженцев в качестве квартирантов или выполняли секретарскую работу в комитете спасения. Они проводили курсы по шитью, вязанию, кулинарии или декоративно-прикладному искусству, например аранжировке цветов. Обычно женщины охотнее, чем мужчины, соглашались на работу, которая не имела ничего общего с их предыдущим опытом.
Эта неформальная экономика иногда также поддерживалась еврейскими иммигрантскими организациями или организациями помощи в принимающих странах. Они пытались убедить коренное население в том, что беженцы не обязательно являются экономическим бременем и что иммигранты могут стать хотя бы частично независимыми от субсидий, продавая товары и услуги в своей среде. В других случаях, однако, еврейские общины принимающих стран также рассматривали иммигрантов из Германии как конкурентов и писали в Hilfsverein (речь о Hilfsverein der Deutschen Juden, Союзе помощи немецких евреев – одной из крупнейших еврейских благотворительных организаций, созданной в 1901 году для помощи евреям Восточной Европы и Азии. – Примеч. ред.), чтобы предотвратить дальнейшую иммиграцию в «свою» страну.
Если смотреть в целом, то в еврейских семьях, в общинах и даже на международном уровне происходил обмен знаниями, деньгами, оказывалась практическая поддержка, что было жизненно важно для эмиграции многих евреев из Германии. Эта сеть имела свои параллели и среди организаций еврейских беженцев. Сразу после прихода нацистов к власти несколько международных организаций сосредоточили свое внимание на оказании помощи немецким евреям. Наряду с большинством немецких еврейских лидеров эти организации разделяли идею о том, что Umschichtung (специфический немецкий термин для данного процесса. Буквально переводится как «перераспределение», «перегруппировка», «перемещение». В контексте описываемых событий означал изменение социально-экономического положения евреев в Германии. – Примеч. ред.) было правильным ответом на бедственное положение немецких евреев и что эмиграция была возможностью для молодых евреев, но не могла рассматриваться как общее решение. Тем не менее «Джойнт» помог деньгами значительному числу немецких евреев, эмигрирующих из Германии, и совместно с HICEM (Hebrew Immigrant Aid Society, Еврейским межправительственным комитетом по европейской миграции), ICA и Еврейским агентством организовывал транзит в другие страны и пытался предоставить возможности немецким евреям за рубежом. Они тесно сотрудничали с немецкими еврейскими организациями, чтобы организовать «упорядоченную эмиграцию» из Германии и создать систему отбора тех евреев, которые, как считалось, больше всего нуждались в финансовой помощи и убежище.
Временное соглашение 1936 года
В феврале 1936 года Лига Наций назначила сэра Нила Малкольма, отставного британского генерала, Верховным комиссаром по делам беженцев из Германии. Малкольм находился в еще более слабом положении и был менее предан этой задаче, чем его предшественник Макдональд. Будучи председателем межсоюзнической военной комиссии в Германии после Первой мировой войны, Малкольм имел хорошие контакты с немецкой аристократией и высокопоставленными военными, хотя и не говорил по-немецки. Тем не менее он был совершенно неопытен в вопросах беженцев, но это была не единственная причина для претензий в его адрес. По словам Майрона Тейлора, представителя США на конференции в Эвиане, Малкольм
выполняет работу Комиссии Лиги в то время, которое он может освободить от своих обязанностей главы Компании Северного Борнео <…> Главное достоинство сэра Нила в том, что он беспрекословно подчиняется приказам британского Министерства иностранных дел и секретариата Лиги и даже не пытается действовать самостоятельно.
Сразу же после вступления в должность Верховного комиссара в феврале 1936 года Малкольм приступил к организации конференции, которая в итоге состоялась в Женеве 2–4 июля 1936 года. По ее итогам было объявлено о «Временном соглашении о статусе беженцев из Германии», которое гарантировало им некоторые основные права, предоставленные русским беженцам за много лет до этого. В документе, вступившем в силу 4 августа 1936 года, под термином «беженец из Германии» понималось «любое лицо, которое было поселено в этой стране, не имеет иного гражданства, кроме немецкого, и в отношении которого установлено, что юридически или фактически оно не пользуется защитой правительства рейха». Таким образом, евреи польской национальности, проживавшие в Германии на протяжении десятилетий, были лишены защиты (речь идет о германоязычных евреях, родившихся на территории Германской империи, которая после 1918 года была включена в состав Польши, и по месту рождения получившие польские паспорта, а также о детях этих евреев. Они не знали польского языка и переселялись вглубь Германии, которую считали своей родиной. – Примеч. ред.). В соответствии с соглашением Хаавара беженцы из Германии должны были получить удостоверение личности, действительное обычно в течение одного года (с возможностью продления еще на шесть месяцев), которое позволяло им выезжать за границу и возвращаться в страну, где было выдано удостоверение личности. Однако такое удостоверение выдавалось только лицам, «законно проживающим» в соответствующей стране на дату вступления в силу Соглашения. В качестве переходной меры удостоверение личности могло быть выдано и беженцам, нелегально проживающим в стране, если они сообщали о себе властям в течение определенного срока, «который будет определен соответствующим правительством». На практике интерпретация Временного соглашения национальными властями лишь облегчила положение тех, кто успел покинуть Германию сравнительно рано, но не отменила механизм, продолжавший способствовать нелегальной иммиграции. Это отвечало требованиям большинства правительств. Они были готовы решать проблемы беженцев, уже находящихся в их странах, но не хотели давать никаких гарантий в отношении будущих прибытий, поскольку конечного предела потенциальной европейской проблемы беженцев не существовало.











