Читать онлайн Конец всему. Как погибали великие империи
- Автор: Виктор Дэвис Хэнсон
- Жанр: Популярно об истории
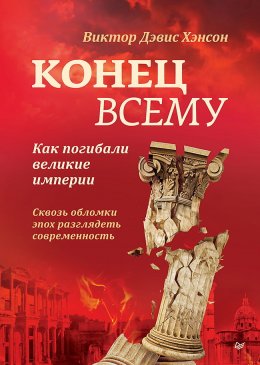
THE END OF EVERYTHING
HOW WARS DESCEND INTO ANNIHILATION
NEW YORK-BESTSELLING AUTHOR OF THE DYING CITIZIN
Издательство не несет ответственности за доступность материалов, ссылки на которые вы можете найти в этой книге. На момент подготовки книги к изданию все ссылки на интернет-ресурсы были действующими.
© ООО Издательство «Питер», 2025
© 2024 by Victor Davis Hanson
© Перевод на русский язык ООО «Прогресс книга», 2025
© Издание на русском языке, оформление ООО «Прогресс книга», 2025
© Серия «New Science», 2025
Предисловие переводчика
Виктор Дэвис Хэнсон – старший научный сотрудник по классической и военной истории в Институте Гувера в Стэнфордском университете, а также почетный профессор классической истории в Калифорнийском государственном университете во Фресно. Автор более двух десятков книг, включая «Резня и культура», «Война, не похожая ни на одну другую», «Вторые мировые войны» и «Умирающий гражданин». Живет в Сельме, Калифорния.
Несмотря на академические регалии, большинство его работ носят неакадемический характер и содержат большое количество отсылок к современности либо же рассматривают современность через призму классической истории. В публицистических книгах, посвященных внутренним проблемам Америки, Виктор Хэнсон выступает как правый консерватор и антиглобалист, в 2020 году он прогремел книгой «Дело в пользу Трампа».
Следует иметь в виду, что для американского взгляда Античность играет очень важную роль: она собирает европейское прошлое (то есть пролог к истории США) воедино, не концентрируясь на национальных особенностях. Классическая история помогает соотнести нынешние события с давно минувшими, обобщить и вывести мораль, пригодную для оценки современных процессов.
При этом Хэнсон, в отличие от многих историков (не только американских), старается отойти от европейской традиции каждый раз делить персонажей исторической сцены на положительных и отрицательных. Он заостряет внимание на мотивах, двигавших каждой из сторон, и расценивает их как объективные, отделяя от пропагандистских заявлений. При этом он может сочувствовать древним Фивам и скорбеть об их падении, но признавать неизбежность происходящего: объединения греческих государств под властью Александра Великого. Это позволяет автору с определенной долей иронии оценивать риторику обеих сторон, демонстрируя ее расхождение с практическими действиями. Напротив, в столкновении Рима и Карфагена он не проявляет особого расположения ни к одной из сторон, рассматривая Пунические войны как образец противостояния двух великих империй: талассократической и теллурократической.
При описании падения Константинополя автор явно и недвусмысленно сочувствует грекам, несмотря на жесткую критику их действий. Падение Царицы Городов под натиском мусульман для него является победой варварства над цивилизацией, шагом назад в мировой истории. Напротив, завоевание Мексики Кортесом – это шаг вперед, разрушение варварской империи и подчинение ее самому передовому на тот момент государству Европы. Нетрудно заметить, что в данном случае трактовка Хэнсона резко отличается от привычных нам описаний, рисующих испанцев как жестоких, жадных и недалеких завоевателей, озабоченных только обогащением, – вспомним «Дочь Монтесумы» Хаггарда или «Одиссею капитана Блада» Сабатини.
Если с оценкой Испании здесь вполне можно согласиться, то в оценке государства ацтеков традиции классической истории оказались гирей на ногах автора. В первую очередь это слепое доверие к «классическим» источникам, то есть мемуарам и хроникам одной из сторон. Между тем как Рим нуждался в «черной легенде», чтобы оправдать полное уничтожение геополитического конкурента, так и Кортесу с его офицерами требовалось найти оправдание своему вероломству и откровенному грабежу. Тем более, что испанские власти, несмотря на результат, действий Кортеса не одобрили, сочтя их излишне жестокими и не соответствующими христианской морали; по итогу победоносный завоеватель вынужден был в пространных письмах оправдываться за свои деяния перед самим королем.
Поэтому участники экспедиции против Мехико не пожалели сил для очернения противника, приписывая ему самые гнусные (с точки зрения христианства) грехи: массовые ритуальные убийства и людоедство. Заметим, что эти описания выглядели сомнительными даже в ту эпоху – например, на неправдоподобность многих деталей указывал еще Бартоломео де Лас Касас. Но прошла пара сотен лет, и версия Кортеса, за неимением альтернативных источников, стала классической, начав «сыпаться» лишь в наше время под воздействием археологических исследований.
При этом в целом Виктору Хэнсону нельзя отказать в стремлении разобраться в событиях и составить их объективную картину, не избегая противоречий и неоднозначности. Он не излагает факты, а скорее размышляет над ними, предоставляя читателю возможность присоединиться к своим размышлениям и оценить выводы. Иногда, правда, эти размышления излишне пространны, а предубежденность автора чересчур заметна. Но это – предубежденность увлеченного историка, а не пересказчика чужих мыслей…
Владислав Гончаров
Предисловие автора
Роджеру и Сьюзен Хертог
Quid dulcius quam habere quicum omnia audeas sic loqui ut tecum?
(Что может быть слаще, чем иметь кого-то, с кем ты осмеливаешься говорить на все темы, как с самим собой?)
Цицерон. «О дружбе» (De Amicitia)
Я благодарю своего редактора в «Бэйсик Букс» Лару Хеймерт за поддержку и ободрение в процессе публикации четырех моих книг под ее кураторством. Роджер Лабри снова оказал большую помощь в тщательном редактировании рукописи. Мои агенты, с которыми я работаю уже более тридцати лет, Глен Хартли и Линн Чу, как всегда, предложили свою поддержку, экспертизу и ободрение. Дэвид Берки, Меган Ринг, Морган Хантер, Кристиан Мартин и Андре Бриллиант из Гуверовского института сыграли важную роль в проверке и редактировании рукописи, предоставив мне исследовательские материалы и советы, а также подготовив иллюстрации и карты. Я благодарен своей жене Дженнифер за ее постоянную помощь, которая высвободила мне время и обеспечила условия для написания этой книги, а также благодарю за поддержку свою дочь Полин и сына Уильяма.
Везде, где не указано иное, переводы классических греческих и латинских текстов из первоисточников принадлежат мне. Все даты в главах 2 и 3 – до нашей эры, а в главах 3 и 4 – от Рождества Христова.
В течение последнего двадцати одного года мне посчастливилось работать в Гуверовском институте Стэнфордского университета, а также пользоваться постоянной поддержкой его директора Кондолизы Райс и нашего бывшего директора Джона Райсиана, уже ушедшего от нас, который первым пригласил меня в институт. Брюс Торнтон, мой коллега из Гуверовского института, прочитал всю рукопись и дал бесценные предложения как по ее содержанию, так и по организации материала. Я благодарю Билла Нельсона за составление карт.
Особенно я признателен за непосредственную помощь кураторам Гуверовского института – Мартину Андерсону, Лью Дэвису, Джиму Джеймсону, Роберту, Ребекке и Дженнифер Мерсер, Роджеру и Марте Мерц, Джереми Милбэнку и Виктору Трионе.
Виктор Дэвис Хэнсон.
Сельма, Калифорния, 31 августа 2023 года
Введение. Как исчезают цивилизации
Перси Биши Шелли. «Озимандия»[1]
- И сохранил слова обломок изваянья:
- «Я – Озимандия, я – мощный царь царей!
- Взгляните на мои великие деянья,
- Владыки всех времен, всех стран и всех морей!»
- Кругом нет ничего… Глубокое молчанье…
- Пустыня мертвая… И небеса над ней…
Государства и целые народы исчезают со страниц истории по разным причинам. Люди могут быть уничтожены и другими людьми, и природой: землетрясениями, цунами, извержениями вулканов, эпидемиями, резким изменением климата. В истории зачастую уничтожению подвергались целые культуры. Иногда это происходило очень быстро, но чаще тянулось многие десятилетия.
Однако эта книга посвящена редким случаям внезапного полного разрушения цивилизации, государства или культуры во время войны, силой оружия. Мы обратимся к падению древних Фив, пунического Карфагена, византийского Константинополя и ацтекского Теночтитлана. И я надеюсь, эта книга станет предупреждением современному миру, включая США, что вряд ли кто-то может быть застрахован от повторения подобных трагедий прошлого.
Военная катастрофа обычно следует за финальной осадой или вторжением врага. Coup de grace («удар милосердия») предсказуемо нацелен на столицу либо культурный, политический, религиозный или социальный центр государства. Такой последний удар обычно приводил к деконструкции всего образа жизни целого народа, а часто и к исчезновению большей части самого населения. Как ни странно, переход от нормальной жизни к последнему дню мог произойти довольно быстро. Рандеву с вечностью зачастую оказывалось совершенно неожиданным. Абсолютное поражение с запозданием выявляло давно возникшие уязвимости, поскольку экономические, политические и социальные трещины явно проявлялись только под давлением чрезвычайных обстоятельств. Угасающие империи редко были готовы принять тот факт, что их некогда обширные владения в итоге оказывались столь малы, что защитники могли окинуть их взглядом с крепостных стен своей столицы.
Наивность, высокомерие, ошибочная оценка сильных и слабых сторон, потеря способности к сопротивлению, новые военные технологии и тактика, тоталитарные идеологии и уход в иллюзии – все это может дать объяснения, почему достаточно редкие катастрофы тем не менее продолжают повторяться в истории – от разрушения империи инков до конца народа чероки либо геноцида многочисленного, яркого и говорящего на идише довоенного еврейского народа в Центральной и Восточной Европе.
Постоянное исчезновение предшествующих культур во времени и пространстве должно предупредить нас, что даже известные государства XXI века могут оказаться такими же хрупкими, как и их древние аналоги, учитывая, что искусство разрушения идет рука об руку с улучшениями обороны. Легковерие и просто некомпетентность современных правительств и политических лидеров относительно намерений, ненависти, жестокости и возможностей их врагов не являются удивительными. Комфортная беспечность и доверчивость часто становятся оборотной стороной богатства и праздности. Это вполне предсказуемо, если помнить о неизменной человеческой природе и не придавать значения претензиям постмодернистской и высокотехнологичной глобальной деревни.
Даже в наш век транснационального богатства, взаимосвязанной глобальной экономики, Давоса, Организации Объединенных Наций, тысяч неправительственных организаций, международного порядка, основанного на правилах, а также силах ядерного сдерживания в руках крупных держав, судьбы Фив, Карфагена, Константинополя и Теночтитлана – это не просто воспоминания из далекого темного прошлого, то есть не имеющие значения в настоящем.
Конечно, ни одно современное государство уже не порабощает все выжившее население побежденных – один из самых эффективных ранее способов стереть цивилизацию, – как Александр Македонский поступил с Фивами или Сципион Эмилиан с Карфагеном. Соединенные Штаты как минимум защищены от подобной угрозы двумя океанами, грозными силами ядерного сдерживания из почти шести с половиной тысяч боеголовок, наконец – самой мощной экономикой и самой могущественной армией в истории. Каким образом какой-либо враг на мировой арене сможет свести все это на нет?
Эрнан Кортес, осаждая Теночтитлан, действовал по тем же принципам, что и Александр Великий за 1788 лет до него. Он полагал, что почти все ацтеки в итоге станут крепостными, рабами или же погибнут. Да, мир сейчас по большей части нетерпим к рабству, каннибализму и человеческим жертвоприношениям. Тем не менее инструменты геноцида – ядерные, химические и биологические – стали намного более совершенны, чем когда-либо прежде. Семьдесят миллионов погибших с 1939-го по 1945-й, всего через два десятилетия после 20 миллионов погибших в «войне, которая положит конец всем войнам» 1914–1918 годов, научили нас, что с материальным и технологическим прогрессом часто приходит моральный регресс – урок, восходящий к предостережениям греческого поэта Гесиода в VII веке до н. э.
Двадцать первый век уже пережил кровавые войны в таких местах, как Афганистан, Дарфур, Эфиопия, Ирак, Ливан, Ливия, Нигер, Нигерия, Осетия, Пакистан, Судан, Сирия, Западный берег реки Иордан, Сектор Газа и Йемен – все они последовали за геноцидом конца прошлого тысячелетия в Камбодже, Руанде и массированных бомбардировок Югославии.
Однако по-настоящему страшно становится, когда в конфликты втягиваются крупные державы, обладающие оружием массового поражения, включая в первую очередь Соединенные Штаты. За последние несколько лет ядерным ударом грозили: Россия Украине, Китай Тайваню, Иран Израилю, Пакистан Индии и Северная Корея Южной Корее, Японии и США. Турция направляла ракеты на Афины и Израиль или грозила решить армянскую «проблему» способом своих предков. И это угрозы бомбами и ракетами, но мы вступаем в эпоху инфекций с программируемыми функциями и боеприпасов, управляемых искусственным интеллектом.
Обратите внимание, что четыре древних рукотворных Армагеддона, которые мы обсуждаем, заметно отличаются от таинственных исчезновений или монументальных внезапных системных крахов «затерянных цивилизаций», таких как микенская (ок. 1200 г. до н. э.) или майанская (ок. 900 г.н. э.) Они явно не похожи на менее масштабные вымирания, такие как таинственные исчезновения жителей на островах Пасхи, Питкэрн или Роанок.[2]
В книге не рассматриваются случаи постепенной внутренней деградации, которая неторопливо истощает нацию или империю, например распад и частичное поглощение Римской империи V века нашей эры пресловутыми варварами и ее медленное превращение в Европу так называемых Темных и Средних веков. Эти главы не являются также исследованием политических кризисов, приведших к исчезновению государств либо правительств или изменению названий наций, например формального исчезновения Пруссии и пруссаков или Югославии и югославов. Даже фактическое уничтожение вражеского государства – с его границами, правительством и уникальной историей и культурой – не всегда равнозначно геноциду целого народа, хотя порой победоносная война может привести к массовой гибели людей, вызванной расовой, этнической или религиозной ненавистью.
Но если государства и культуры могут быть полностью уничтожены во время войны, то когда именно народ можно назвать побежденным или исчезнувшим? Когда государство официально завоевано, оккупировано, а его граждане стали подчиненными другой нации? Или когда правительство государства исчезает, его инфраструктура уничтожается, большинство людей убиты, порабощены или рассеяны, культура фрагментирована и вскоре забыта, а территория заброшена или перешла к совершенно иному народу.
Конечно, ничто никогда не заканчивается полностью. Политические институты разрушаются, культура угасает, язык забывается, а народ рассеивается. Тем не менее часть выживших некоторое время может существовать на эманациях былой славы. Поэтому, как мы увидим, существуют градации «уничтожения». Мы должны тщательно выяснить: были ли Фивы или Карфаген в самом деле разрушены, как записано в хрониках, – и действительно ли с ними случилось то, что наши исторические источники трактуют как: «уничтожен», «снесен» и «сровнен с землей».
От гибели Трои до атомной бомбардировки Хиросимы – разрушение городов и даже целых цивилизаций случалось редко, но все же происходило в истории. Некоторые из этих катастроф оставили след, который ощущался веками. Порой они меняли жизнь народов, даже тех, кто жил далеко от места трагедии. Миллионы людей понимали, что последствия разрушений рано или поздно коснутся и их. Позже, оглядываясь назад, новые поколения осознавали, что такие события означали конец одной эпохи и начало чего-то совершенно нового. Будь то крах государства, исчезновение культуры или уничтожение целого народа – последствия могли быть очевидны сразу или проявиться лишь со временем. Но во всех этих случаях есть общие черты, а значит, мы можем извлечь из них уроки.[3]
Размер и богатство исчезнувшего народа также имели значение. Древний мир мог оплакивать уничтожение Афинами крошечного острова Мелос и его культуры в 415 г. до н. э.[4] Но классические греки не приравнивали мир без мелосцев к катастрофе всего эллинизма – по крайней мере, такой, как более позднее разрушение куда более крупных и влиятельных Фив или Коринфа. Значение имели язык, литература, искусство и наука исчезнувших наций, а также их способность оказывать влияние за пределами собственных границ. После падения византийского Константинополя мир Малой Азии и Средиземноморья изменился гораздо больше, чем после покорения варварами-вандалами Северной Африки, Сицилии или даже Италии.
Приведенные здесь примеры – низвержение Фив Александром Великим, уничтожение Карфагена Сципионом Эмилианом, завоевание и преобразование Константинополя султаном Мехмедом II и уничтожение Теночтитлана Эрнаном Кортесом – ознаменовали конец культур и цивилизаций. Так их воспринимали и современники, и последующие поколения.
Исчезновение Фив и их жителей положило конец классической Греции из сотен независимых городов-государств. Распад крупнейшего из них открыл совершенно иную эпоху – эллинистическую, время больших царств и имперских ценностей.
Уничтожение пунической цивилизации в Африке ликвидировало последнее крупное препятствие на пути к римскому владычеству в Западном Средиземноморье. Исчезновение Карфагена привело Северную Африку на Запад и ускорило трансформацию Рима из республики в империю.
Падение Константинополя подтвердило упадок средиземноморского мира как связующего звена европейской торговли. Потеря города положила конец формальному европейскому присутствию в Азии хотя и помогла, если двигаться в противоположном направлении, открыть новый атлантический мир, в котором стали доминировать Португалия, Испания, Франция, а позднее Голландия и Англия.
Уничтожение Кортесом Империи ацтеков и ее столицы Теночтитлана положило начало сокрушению независимых туземных государств в Америке, одновременно породив там новую испаноязычную цивилизацию, которая не была уже ни испанской, ни полностью туземной.
Зачастую судьба большого города – обычно столицы – определяемая его прежним политическим значением и влиянием или размерами и богатством, становится для последующих поколений наглядным олицетворением краха всей воплощаемой им цивилизации. Но участники событий не всегда могут осознавать свою роль преобразователей. Вряд ли Александр когда-либо думал о разрушении Фив как о чем-то ином, кроме как об уничтожении досадного препятствия, преграды на пути его давно запланированного вторжения и разграбления Персидской империи. Точно так же Сципион Эмилиан, несмотря на все его предполагаемые последующие угрызения совести и философские размышления, скорее всего, был в первую очередь озабочен собственной политической карьерой. Ему требовалось преуспеть в разрушении Карфагена после того, как два его непосредственных предшественника не смогли выполнить эту задачу.
Мехмед II, по-видимому, имел некоторое представление об историческом и культурном значении Константинополя, поскольку объявил себя единственным законным наследником Римской империи. Но даже султан не предвидел, что его выбор подтолкнет Западную Европу к завоеванию мира морским путем, чтобы обойти зону растущего османского контроля – когда турецкий Константинополь нарушил привычную средиземноморскую торговлю между Востоком и Западом. Кортес же рассматривал свои завоевания с точки зрения собственной карьеры и финансовых интересов, а также увеличения власти и прославления имени своей церкви, своего короля и лично себя.
Я начну свое повествование с гибели города Фивы. В 335 году до н. э. фиванцы не просто восстали против македонской оккупации Греции, но бросили дерзкий вызов самому Александру Великому, спровоцировав его захватить легендарный город.
Он сделал это после короткой, но жестокой однодневной битвы. Затем он совершенно неожиданно привлек другие завоеванные греческие города-государства для ратификации своего решения сравнять взбунтовавшийся город с землей, убить большую часть взрослых мужчин, а выживших пленников продать в рабство – позволив соседям захватить территорию Фив. Тем самым Александр навсегда покончил с древней цитаделью Кадма, мифического основателя священного города.
Были низвергнуты не только сами Фивы. Уничтожение Фив ознаменовало финал всей эпохи независимых городов-государств. С момента уничтожения Фив на греческой земле одна центральная власть сменяла другую: сначала Александр и его эллинистические диадохи («преемники»), затем Рим и Византия, потом османы и, наконец, независимая греческая монархия. Однако творческая полисная цивилизация «золотого века» – не только Фив, но и Афин и остальной Греции – исчезла после Александра.
Во второй главе исследуется смертельное соперничество между Римом и Карфагеном, которое достигло кульминации в 146 году до н. э., примерно через 189 лет после падения Фив, когда карфагеняне также исчезли как народ, тем самым ознаменовав конец Третьей Пунической войны. Сама пуническая цивилизация тоже исчезла вместе со своей столицей. Как и фиванская, она погибла в осаде, после того как ее некогда далекие границы сократились до пригородов столицы. Некогда доминировавшие во всем Средиземноморье карфагенский язык, литература и нация в последующие греко-римские века превратились лишь в далекие воспоминания.
Карфаген в своих трех Пунических войнах слишком долго боролся с Римом и сделался слишком уязвимым. Его существование стало восприниматься не столько как экзистенциальная опасность, сколько как постоянный раздражитель для Рима. Для других народов его судьба была не слишком важна. А Рим искал возможность уничтожить экономического конкурента и присвоить его богатство. Падение Карфагена вместе с почти одновременным разрушением Коринфа и созданием римских провинций в Греции традиционно рассматривалось историками как символическое прекращение существования эллинистических царств и начало римско-средиземноморского мира.
Самым печально известным из военных исчезновений стало падение византийского Константинополя 29 мая 1453 года – «Черный вторник», о котором идет речь в третьей главе. После падения Византии греческий язык и православная вера сохранились в разрозненных анклавах Южной Европы и азиатского приграничья, однако тысячелетняя грекоязычная реальность Восточной Римской империи и ее малоазийской культуры канула в лету – даже несмотря на последующие притязания России на роль наследницы, возрождающей христианский «Третий Рим».
Константинополь выжил и более или менее оправился от жестокого разграбления западными рыцарями в ходе Четвертого крестового похода в 1204 году. Но он не пережил гораздо более амбициозных планов султана Мехмеда II, который покончил с византийской цивилизацией, а также присвоил и преобразовал ее знаменитую столицу.
Османы питали ненависть к христианству. Они справедливо полагали, что Константинополь был старой и слабой, давно заброшенной окраиной западного христианского мира. После его захвата Святая София, на протяжении семисот лет являвшаяся крупнейшим христианским собором на Западе, стала величайшей мечетью исламского мира. В Азии больше не осталось византийцев, греческого города Константинополя или даже самой идеи сплоченной христианской, грекоязычной эллинистической культуры. Греческая оболочка разграбленного города уцелела, учитывая его стратегически бесценное местоположение на Босфоре. Но теперь он превратился в Костантиние – новую динамичную столицу восходящей Османской империи – и в наше время был переименован в Стамбул.
С глобальной точки зрения падение Константинополя ознаменовало конец мира, сосредоточенного вокруг Восточного Средиземноморья, перенос эллинской силы и влияния в Европу эпохи Возрождения, а вскоре и начало атлантической эпохи. В 1444 году, почти за десятилетие до падения города, португальские мореплаватели, пытаясь найти морской путь в обход османского контроля над Средиземноморьем и сухопутных дорог в Азию, смогли достичь самой западной точки Африки. К югу от Сахары португальцы начали обходить мусульманский контроль над торговлей с африканским Золотым Берегом. К 1488 году они достигли мыса Доброй Надежды, обеспечив европейцам прямой доступ к торговле с Азией. А в 1492 году, всего через 39 лет после падения Константинополя, европейцы открыли Новый Свет.
Как и слово «вандал», слово «византийский» сегодня сохранилось лишь как эпитет. Оно используется неточно и несправедливо, чтобы указать на предполагаемую неэффективность и интриганство окаменелых, раздутых бюрократий. Идея живой Византии лишь однажды возродилась как эфемерная фантазия. После распада Османской империи в 1918 году эллинская Μεγάλη Ιδέα (Мегали Идеа, или Великая идея) получила новый импульс, прежде чем исчезнуть навсегда. Мегали Идеа XX века грезила о панэллинской Эгеиде, вновь объединившей грекоязычное население Малой Азии, материковой Греции, средиземноморских островов и северного побережья Египта. Она оказалась разгромлена армией турецкого националиста Мустафы Кемаля Ататюрка,[5] завершилась пожаром Смирны (1922) и была добита зарождающимся государством Турция.[6]
Жестокие деяния Эрнана Кортеса по уничтожению империи ацтеков стали темой четвертой главы. Когда в 1521 году осада города завершилась, больше не было ни понятия народа ацтеков, ни его величественной столицы в Теночтитлане, ни похожего на Венецию островного города с каналами. От прежнего ацтекского государства мало что осталось, кроме мифов о потерянной родине ацтланов на юго-западе США и рабов, строящих новую испанскую столицу Мехико, намеренно возводимую на месте старой.
Подобно Карфагену и Константинополю, Теночтитлан был пульсирующим нервом хрупкой державы – блистательной столицей, чья воля простиралась на тысячи миль, связывая далекие провинции воедино. Познакомившись всего за два года с цивилизацией ацтеков, испанцы почти сразу же попытались уничтожить их религию, расу и культуру. По их мнению, имелось более чем достаточно причин именно уничтожить Империю ацтеков, а не просто победить мешика (самоназвание «ацтеков»). Как и в случае с Фивами, разрушение Теночтитлана и мексиканской империи не просто ликвидировало некое государство. Гибель города ознаменовала конец цивилизации альтепетлей (городов-государств) Центральной Америки в целом. В сочетании с более поздним испанским завоеванием Империи инков, косвенно вдохновленным деяниями Кортеса, гибель города ознаменовала крах эпохи независимых цивилизаций Нового Света.
Эпилог выводит трагическую формулу, общую для всех этих разновременных и разноплеменных историй. И дает предупреждение нам сегодняшним. Ибо странный парадокс: чем более единым и сплетенным становится человечество, тем опаснее и ненадежнее оказывается мир. Грань между ошибкой и катастрофой теперь тонка, как никогда – будь то Украина, Тайвань или беспокойный Ближний Восток. Мы должны помнить, что мировые войны прошлого века, вероятно, унесли больше человеческих жизней, чем все вооруженные конфликты с момента зарождения западной цивилизации две с половиной тысячи лет назад. И сделали они это не только с помощью наступательного оружия, ныне уже устаревшего, но также посредством слишком знакомых нам деструктивных методов, которые доныне сохраняются неизменными со времен Античности. Что касается целей агрессии, то старые представления и заблуждения, обрекшие на гибель фиванцев, карфагенян, византийцев и ацтеков, также остаются рядом с нами, как не теряют актуальности последние мысли погибающих: «Не здесь! Не с нами! Не сейчас!»
Глава 1
Надежда, утешительница опасности. Уничтожение классических Фив
Декабрь 335 года до н. э
Мелияне. «Да, но мы знаем, что успех войны не всегда зависит от количественного превосходства одной из воюющих сторон, что иногда военное счастье является общим для той и другой. И для нас тотчас уступить значит потерять всякую надежду, между тем как, если мы будем действовать, у нас есть еще надежда на благополучный исход».
Афиняне. «Надежда, утешительница опасности, может быть, и нравится тем, у кого есть обильные ресурсы: обойтись если не без потерь, то, во всяком случае, без разрушений; но ее природа – расточительность, и те, кто заходит столь далеко, чтобы рискнуть всем, видят дело в его истинном свете лишь только когда полностью разорены».
Фукидид. «История Пелопоннесской войны»
Коллективная наивность может привести к гибели тех, кто не понимает свою уязвимость. Так случилось с Фивами, классическим греческим городом-государством. В 335 году до нашей эры фиванские лидеры ошибочно сделали ставку на то, что восстание против Македонской империи Александра Великого либо увенчается успехом, либо в случае неудачи, по крайней мере, завершится договорной капитуляцией и не затронет основ их цивилизации. Они оказались фатально не правы по обоим пунктам.
В своих расчетах непокорные фиванцы надеялись на свою впечатляющую армию, справедливость своего дела, сочувствие союзников и репутацию своего города как священного воплощения вечной эллинской культуры, не принимая в расчет уже известную безжалостность Александра Великого. Они забыли о превосходстве македонской фаланги. И их лидеры проигнорировали ужас, который македонская оккупация вселила в полторы тысячи уже завоеванных греческих городов-государств.
И поэтому они оказались обречены на массовую гибель.
Гибель цивилизаций в войнах часто сопровождается одной повторяющейся чертой – поразительной наивностью обреченных. В условиях военной истерии люди особенно склонны отрицать реальность. Те, кто фанатично предан своему делу, бессознательно верят, что все вокруг разделяют их идеализм или хотя бы так же самоотверженны. Они объявляют предателями или трусами тех, кто пытается трезво оценить ситуацию. Эти защитники «высших идеалов» глухи к доводам разума: они отвергают аргументы тех, кто ставит семью и дом выше абстрактных коллективных целей, и игнорируют расчеты, где на кону – холодная арифметика жизни и смерти.
Разбитые иллюзии ждали наивных фиванских посланников, которые отправились на юг к Коринфскому перешейку, ожидая встретить спасительные армии союзников, идущие из Южной Греции. Перед лицом опасности фиванцам пришлось признать реальность: Александр уже где-то поблизости, его армии свободно разгуливают по Беотии недалеко от их собственных стен. После этого все прочие потенциальные панэллинские борцы Греции благоразумно выразили сочувствие, но предпочли отказаться от любой войны против страшных македонцев. Они быстро развернулись и отправились домой, с позором – но живыми. В результате непокорные Фивы остались одни, столкнувшись с фатальными последствиями собственного идеализма.
Фивы
Греция в IV веке до нашей эры
Македония в IV веке до нашей эры
Охваченная патриотическим подъемом, тяжелая пехота осажденных Фив уверенно вышла за стены своего окруженного древнего города, чтобы лицом к лицу встретить захватчиков. Это были гоплиты – граждане-солдаты в тяжелых бронзовых доспехах с большими деревянными щитами. Они не стали дожидаться атаки македонцев под защитой стен, несмотря на очевидную разумность такого решения. Они знали, что знаменитые стены легендарных «Семивратных Фив» имели множество уязвимых мест, которые не выдержат осады под натиском таких опытных штурмующих, коими являлись македонцы Александра Великого. Поэтому вместо того чтобы просто занять позиции на стенах, фиванцы выдвинулись из осажденного города, чтобы не дать македонцам подтянуть к стенам свои осадные машины.
Вдобавок фиванцы были весьма обеспокоены тем, что масса македонской пехоты за стенами могла атаковать, чтобы вызволить своих соратников, запертых в городской цитадели – знаменитой Кадмее. В отличие от большинства акрополей (например, афинского), которые располагались в центре окруженных стенами полисов (городов-государств), укрепления Кадмеи с одной стороны непосредственно примыкали к общей городской стене. Таким образом, в отличие от средневековых крепостей, знаменитая цитадель Фив частично находилась прямо на передовой линии осады.
Но почему Александр, еще не прозванный Македонским, оказался перед выдающимся греческим городом-государством, угрожая стереть Фивы с лица земли?
Война началась незадолго до этого, она задумывалась как общегреческое восстание против македонских оккупационных войск, после смерти царя Македонии Филиппа II и восшествия на престол его сына и наследника Александра. Афинский политик-подстрекатель Демосфен ложно утверждал, что Александр был убит в ходе кампании по подавлению восстаний в Иллирии (современная Албания), далеко на севере. Как только эта басня дошла до фиванцев, здесь вспыхнуло восстание. В качестве первого акта сопротивления фиванцы напали на местный македонский оккупационный гарнизон – по-видимому, предполагая, что другие греческие города-государства последуют их примеру. Примечательно, что фиванцы без труда смогли блокировать людей Александра в Кадмее.[7] В условиях якобы прочного македонского контроля над Грецией это выглядело унизительно.
Но внезапно оказалось, что Александр все-таки не умер. Как будто в ответ на слухи о своей кончине он всего за две недели провел свою армию маршрутом в триста миль от Иллирии до Фив в Центральной Греции, продемонстрировав поразительную скорость – более двадцати миль в день. Итак, внезапно здесь появились свежие силы македонцев, в то время как их товарищи из оккупационного гарнизона были заперты внутри цитадели, а фиванцы в собственном городе оказались меж двух огней.
Три года Греция покорно подчинялась Македонии, пока внезапная гибель царя Филиппа II не перевернула всё. Двадцатилетний Александр расправился с соперниками и повел отцовскую армию на Фивы. Так сошлись в смертельной схватке древний город-легенда, родина лучшей армии Эллады, и молодой македонский царь с его железной фалангой закаленных ветеранов. Ранее, еще подростком, в 338 году до н. э Александр командовал левым крылом армии своего отца во время битвы при Херонее. Там его решительные действия помогли разбить коалиционную армию, собранную из войск множества государств Греции. Но в глазах греков Александр пока еще не был Филиппом II, одноглазым монстром, который в течение двадцати лет кардинально изменил греческий стиль войны и в конце концов добился того, чего не удавалось персам, – полного покорения свободных греческих городов-государств. Теперь же фиванцы вообразили, что их неожиданный и довольно легкий успех против македонского гарнизона сподвигнет другие греческие города-государства снова примчаться к ним на помощь.
Действительно, репутация фиванской армии и провозглашение борьбы Фив за возвращение свободной Эллады должны были спровоцировать панэллинское восстание против македонцев. Ожидалось, что войска греческих городов-государств соберутся у ворот Фив и сокрушат вторгшуюся македонскую фалангу. Уже распространялись слухи о том, что несколько лучших армий свободных греков Пелопоннеса – в первую очередь этолийцев, аркадийцев и элейцев – выстраиваются неподалеку на Коринфском перешейке, ожидая присоединения к нарастающему восстанию. На какой-то момент многие греки ожидали, что в это сопротивление могли включиться Афины и Спарта. Даже если Александр Великий не был мертв, как гласили слухи, мятежники логично предположили, что он еще слишком молод, чтобы удержать власть над македонской армией своего покойного отца и подчинить его старых генералов.
Однако осажденные фиванцы напрасно ждали помощи. По-видимому, как только союзные армии Юга выступили, стало очевидно, что ни один из их командиров не имеет ясного представления о том, во что они ввязываются, – особенно о размерах вторгшихся македонских сил, не говоря уже о планах и направлении движения оказавшегося вполне живым Александра. Однако греческие полисы предпочли холодный расчет. Вместе они еще могли противостоять Александру и его армии, но поодиночке каждый город неминуемо пал бы под их натиском. И ни один не решился стать той самой жертвой.
Тем временем Александр усиливал давление на внезапно изолированный город. Как писал историк I века Диодор, большинство жителей Греции, узнав о восстании, искренне сочувствовали фиванцам. Но их сочувствие было не равно их поддержке. Прочие греческие города-государства не только ожидали, что Александр, скорее всего, безжалостно подавит восстание, но и искали оправдания своему бездействию. Одни справедливо указывали, что фиванцы слишком безрассудны и непредсказуемы. Другие уверяли, что благоразумие является лучшей частью доблести. Третьи напоминали, что полтора столетия назад именно фиванцы помогли персидским захватчикам, то есть недостойны жертв со стороны своих братьев. [1]
Тем не менее покинутые союзниками фиванцы продолжали планировать генеральное сражение. Слава фиванской фаланги, вызывавшая зависть всей Эллады IV века до н. э., напоминала репутацию французской армии межвоенного периода – этот миф о непобедимости был порожден славой минувших побед, а не истинной боеспособностью накануне новых испытаний. В 1916 году l’armee de terre francaise чудесным образом остановили немцев под Верденом с криком: «Ils ne passeront pas!» – «Они не пройдут!» В 1930-е годы большинство западноевропейцев и британцев все еще полагали, что эта огромная сила, прежний оплот Запада, может вновь согнуться, но никогда не сломается. Несомненно, миллион бойцов под ружьем с пятью миллионами солдат в резерве остановят гитлеровский вермахт, как когда-то французская армия остановила вторгшиеся легионы кайзера. В мае-июне 1940 года эта мечта рассеялась за шесть недель.
Подобно тому как скрытые изъяны подточили мощь французской армии, угасание Фив не могло не отразиться на их военной мощи. Город, некогда бывший сердцем греческой политики, к тому времени превратился в маловлиятельного лидера непростой Беотийской федерации. Вместе с политическим весом таяла и боевая слава – та самая легендарная фаланга, созданная гением Эпаминонда (ок. 419/411–362 г. до н. э.), постепенно теряла былую силу.
Всего тремя годами ранее фиванская армия уже была разгромлена македонцами в битве при Херонее. Тогда примерно за час хваленый Священный отряд из 150 пар любовников был уничтожен весь до последнего человека. Судя по всему, развернутые на правой стороне греческой армии фиванцы столкнулись с самим Александром, который возглавлял левое македонское крыло. В итоге фиванское крыло было разгромлено. Для уцелевших в той битве их поражение, бегство и последующая македонская оккупация, вероятно, стали тяжелой психологической травмой. [2]
Тем не менее три года спустя они пришли в доспехах и с оружием, встав лицом к лицу с той же армией и тем же лидером, который совсем недавно уничтожил их войско. И вскоре они обнаружили, насколько огромна была македонская армия у их ворот.
Александр привел сюда более тридцати тысяч фалангитов – пехотинцев-пикинеров, вооруженных длинными 16-футовыми сариссами. На его флангах разместились меньшие отряды щитоносцев-гипаспистов, более схожие вооружением с греческими гоплитами: в полном доспехе, с большими щитами и более короткими копьями. Три тысячи опытных всадников, а также лучники и легкие пехотинцы были размещены позади боевой линии, чтобы они могли быстро использовать любую брешь во вражеском фронте. Другими словами, новая македонская армия, созданная покойным Филиппом II, была симфонией убийц. А еще она была дополнена тысячами соседских крестьян-беотийцев, враждебных к своей общей столице в Фивах.
В отличие от прежних гоплитских фаланг, действовавших как единый монолит, македонские отряды представляли собой слаженный механизм: каждый отряд имел свою задачу, атакуя в строго назначенный момент, и усиливал действие других, создавая совершенную систему боя. По иронии судьбы полуцивилизованные македонцы впервые узнали о силе фаланги копейщиков именно от классических греков. Но затем, в отличие от своих закостенелых наставников, они значительно расширили и улучшили идею массовой колонны копейщиков – удлинив копья и превратив их в пики. Преобразуя монолитную фалангу, они ввели разнородные элементы: легкие подвижные отряды сочетались с тяжеловооруженной конницей, образуя принципиально новую боевую систему.
Терпеливый Александр три дня ждал перед стенами, надеясь, что один только вид его войска подорвет моральный дух фиванцев и заставит их сдаться. Разве они не одумаются и не вспомнят, что он, будучи всего лишь восемнадцатилетним юношей, разбил фиванский контингент при Херонее? Но на случай непокорности фиванцев осадные инженеры Александра были заняты подготовкой к ведению затяжного штурма, даже когда он отправил в город послов, чтобы договориться о неунизительной капитуляции. Относительно мягкие условия македонян свидетельствовали о стремлении положить конец восстанию мирным путем. Александр даже предложил амнистию всем фиванским подстрекателям, если они просто выдадут главарей восстания Профита и Феникса.[8]
Тем не менее фиванские мятежники не прислушались к словам Александра. Они наивно полагали, что их пехотная фаланга будет сражаться гораздо лучше за пределами стен – отчасти потому, что здесь они возвели импровизированные полевые палисады, перед которыми успели даже вырыть траншеи. Эти передовые полевые укрепления за пределами города, кроме прочего, не позволяли нападающим быстро пойти на штурм уязвимой кадмейской стены и освободить заложников-македонцев. Это отчасти компенсировало главный недостаток фиванских укреплений, где внешняя городская стена также выполняла функцию внешней стены цитадели. [3]
Фиванцы, по-видимому, больше доверяли своей армии на поле боя, чем мобилизованному населению города, собранному на крепостных валах. Почти сто лет подряд, вплоть до Херонеи, славные фиванские гоплиты крушили всех чужаков. Одержав победу в Пелопоннесской войне под командованием прославленного Пагондаса, фиванцы нанесли сокрушительное поражение афинянам при Делии (424 г. до н. э.). Тысячи воинов в панике бежали в Аттику – и лишь немногие сохранили стойкость. Среди них выделялся афинский гоплит средних лет, будущий великий философ Сократ, который с горсткой верных соратников до конца прикрывал отступление. Позже, под предводительством освободителя Эпаминонда фиванцы практически уничтожили спартанскую армию при Левктрах (371 г. до н. э.). Всего через несколько месяцев после этой победы они захватили родину спартанцев. По легенде, это были первые оккупанты, вступившие в священную Лаконию почти за семьсот лет ее существования. Даже потерпев поражение при Херонее, фиванцы почти остановили македонцев, прежде чем были разгромлены Филиппом II и Александром.
В каком-то смысле неспособность фиванцев извлечь уроки из своего недавнего разгромного поражения при Херонее была похожа на мистическую приверженность ярых конфедератов Гражданской войны в Америке своему «проигранному делу». Фиванцы могли считать, что катастрофа при Херонее (как и поражение южан при Шайло)[9] не была однозначным симптомом слабости их военной силы или даже предупреждением о такой возможности. Скорее странное поражение можно было приписать лишь случайности, невезению, преждевременной гибели или ошибкам их собственных командиров. [4]
Тем не менее устаревшая классическая фиванская фаланга оставалась наступательной армией, славящейся своей физической силой и смелостью. Командиры считали, что лучше умереть в открытом бою, чем погибнуть поодиночке на городских улицах. Фиванским стилем боя была атака в глубину косым строем, невозможная внутри городских стен.[10] Считалось, что могучий Геракл, герой-полубог, олицетворявший сверхчеловеческую силу, родился в Фивах, поэтому он являлся покровителем этого города. Его грубо высеченная дубина красовалась на фиванских щитах, и большинство здешних бойцов не собирались сдаваться.
Что еще важнее, Фивы IV века до н. э. гордились тем, что были родиной революции. Став демократией еще при Эпаминонде и Пелопиде, полис перевернул Грецию с ног на голову. Кастрировав Спарту, вооруженные фиванцы полностью изменили политический статус Пелопоннеса. Фивы освободили мессенских илотов, а позднее подкрепили греческое сопротивление при Херонее.
Фивы также являли собой моральную силу, ибо освободитель Эпаминонд не проводил массовых казней и не отдавал в рабство побежденных. Если бы он не погиб в битве при Мантинее (362 г. до н. э.), то, возможно, сумел бы создать федерализированную и демократическую общеэллинскую нацию. Поэтому не удивительно, что фиванцы охотно приняли на себя роль авангарда греческих городов-государств, демонстрируя возрождение духа Эллады. Подобно фениксу, они решили восстать, чтобы свергнуть македонское иго и освободить униженную Грецию. [5]
Александр не стал рисковать, оставляя без внимания этот мятеж самого мощного из полисов. Это могло положить начало череде мятежей других городов-государств, причем именно в тот момент, когда македонский полководец планировал вторгнуться в Азию. Поэтому молодой царь решил развернуть против мятежников всю свою армию – ту самую, что в течение четырех ближайших лет разгромит три персидские армии в решающих битвах при Гранике, Иссе и Гавгамелах, уничтожив величайшую империю мира. В самом деле, фиванцы не встречали столь мощного врага перед своими знаменитыми «семью вратами» уже почти полтора столетия – вероятно, с 479 года до н. э., когда полис изменил Греции, присоединившись к персам. В битве при Платеях фиванцы, выступившие на стороне персидских захватчиков, были разгромлены. Окруженные греческими войсками, они оказались в осаде и в итоге капитулировали, вынужденные униженно просить пощады у победителей. Это темное пятно на истории Фив все еще часто использовалось в пропаганде их врагов. Вот теперь Александр тоже прибег к этому средству, чтобы оттолкнуть все другие недовольные греческие города-государства от присоединения к столь сомнительным мятежникам.
С военной точки зрения традиционные фиванские крестьяне-гоплиты по силе значительно уступали профессиональным бойцам Александра – возможно, в три раза. Несмотря на общеэллинскую славу отличных солдат, фиванцы, как и все греческие армии, фактически оставались обычным однородным ополчением. Фаланга сражалась самостоятельно, без непосредственного взаимодействия с легкой пехотой и лучниками, не имея своей тяжелой кавалерии, сопоставимой с македонской. У нее не было полевых резервов и не было полководца, хоть сколь-нибудь равного Александру. У них не было ни новой тактики, ни нового снаряжения, они даже не провели новых сборов за три года после катастрофы при Херонее. Перефразируя слова Артура Уэлсли, герцога Веллингтона, про побежденную при Ватерлоо армию Наполеона: фиванцы атаковали тем же старым способом – а македонцы победили их тем же старым способом. [6]
В прошлом фиванцы возводили вокруг своих сельскохозяйственных угодий частоколы, чтобы не подпускать к ним атакующих спартанцев. Позднее они начали использовать подобные препятствия в маневренной полевой обороне. Этот опыт может объяснить, почему фиванцы снова решили положиться на полевые укрепления, чтобы защитить свой акрополь от врага под стенами. Таким образом их оборона оказалась двойной и получила глубину. Помимо основной фаланги, которая вышла сражаться за пределами городских стен, рядом с ними разместился второй внешний контингент: он укрылся за частоколом и должен был прикрывать внешнюю стену Кадмеи от прорыва извне.
В ответ на такое построение Александр разделил свою армию на три части. Его главные силы атаковали основную фиванскую фалангу; вторая группа солдат штурмовала наружный частокол, чтобы прорваться через фиванские ряды к гарнизону в акрополе; третья же оставалась в резерве.
Почти сразу же обе армии под стенами города оказались в тупике. Огромный фиванский еж, ощетинившийся восьмифутовыми копьями, вскоре был остановлен – но не сломлен – превосходящей массой македонских фалангитов с пиками. Пехотинцы Александра имели преимущество в длине оружия: они работали гораздо более длинными сариссами, имевшими около шестнадцати футов, то есть почти вдвое больше традиционных копий фиванских гоплитов. Огромный размер и вес сарисс требовали обеих рук, чтобы их просто удержать. В первом столкновении фиванцы были поражены сразу первыми пятью рядами бойцов Александра: до них дотянулось на два ряда копейщиков больше, чем попало под удар фиванских гоплитов с их более короткими копьями. Вскоре Александр бросил в бой еще несколько тысяч бойцов своего резерва, чтобы увеличить атакующую массу. Измученные и уступающие по численности фиванцы раз за разом подвергались удару следующей свежей стены пикинеров.
Мы не знаем, планировал ли Александр заранее столкнуться на поле боя с фиванской фалангой или его подчиненный Пердикка просто опередил замысел своего царя, чтобы форсировать события. Но в любом случае македонская армия, будь то в поле или при штурме стен, была многочисленнее, чем войско защитников города, и имела больше опыта.
Римский историк Диодор, опираясь на более ранние и ныне утраченные греческие источники, подробно описал ярость сражения под стенами города и то, как быстро битва перешла в рукопашную:
Как только все они прибегли к использованию меча в ближнем бою, началась ужасная битва. Македонцы имели преимущество в численности и плотности построения фаланги. Однако фиванцы превосходили их телесной крепостью, ибо непрестанно упражнялись в гимнасиях, а духом были столь непоколебимы, что пренебрегали самой смертью. С обеих сторон многие получили раны, многие пали от вражеских ударов. Воздух наполнился стонами раненых, боевыми кличами и мольбами о помощи.
Македонцы сражались, дабы поддержать славу своего воинства. Фиванцы же бились за судьбы жен, детей и родителей, ибо понимали: в случае поражения дома их будут отданы на поругание победителям. При этом они помнили прежние победы при Левктрах и Мантинее, стяжавшие им славу по всей Элладе. Потому битва долгое время шла на равных. [7]
Фиванцы либо победят, либо умрут – все, и солдаты, и горожане, и рабы. После того как их копья были сломаны, а боевой порядок нарушен, защитники города превратились просто в толпу отдельных бойцов. Но они продолжали сражаться за свои дома и семьи, как свободные люди. Теперь их родные находились всего в нескольких сотнях ярдов позади, за городской стеной. Но даже в этом отчаянном положении фиванцы оставались уверены в своем прославленном физическом превосходстве над лучше оснащенными профессиональными македонскими воинами.
Тем временем бесконечные потоки вражеских резервов продолжали вливаться в битву. Диодор описывает отчаянные попытки фиванцев преодолеть численность и профессионализм македонцев:
Фиванцы не уступили победу, а как раз наоборот: вдохновленные волей к победе, теперь они отринули все опасности. Они были настолько воодушевлены своей храбростью, что кричали македонцам, что те сами теперь признают фиванское превосходство, раз отправляют против них новые силы. Когда враг вводит в бой свежие резервы, обычно это наводит ужас на солдат противника. И только фиванцы встречали новую опасность все смелее – даже когда против них появлялись свежие солдаты, чтобы сменить погибших или уставших. [8]
Сомнительно, чтобы хвастливые насмешки фиванцев можно было услышать сквозь грохот битвы. На самом деле мало кто из проигрывающих когда-либо рассматривал использование противником подкреплений как повод для оптимизма. В действительности судьба защитников Фив становилась все мрачнее. Отчаянные надежды на прибытие подкреплений из города или подход союзников с юга теперь рухнули. Но отступление фиванцев перенесло бы битву внутрь укреплений и повлекло бы за собой не только поражение, но и угрозу их семьям.
В итоге огромное количество фалангитов Александра сыграло свою роль: македонский натиск разрушил всякое подобие порядка среди фиванцев. Наконец-то македонцы прорвали их оборону и двинулись к городским стенам.
Поскольку внешние частоколы и рвы под Кадмеей были возведены и вырыты в спешке, их оказалось легко преодолеть. Внезапно отряд северян под командованием Пердикки, одного из виднейших македонских полководцев, обнаружил открытые и оставшиеся без охраны ворота в сам город. В ходе самых известных осад часто случаются такие промахи – следствие предательства или некомпетентности; даже в хорошо организованной обороне внезапно обнаруживаются слабые места. Судя по всему, Пердикка по собственной инициативе сразу же направил своих людей через неожиданный вход. Эта импровизация обеспечила македонцам прорыв в сами Фивы. В итоге большинство городских ворот, по-видимому, были распахнуты изнутри. Вместо долгой регулярной осады на улицах города вспыхнул внезапный бой.
Ужас быстро охватил горожан. Все уцелевшие фиванские гоплиты, еще находившиеся под стенами города, развернулись и бросились назад – на помощь своим женщинам, детям, старикам и слугам. Горстка рабов и пожилых ополченцев попыталась встать на пути македонских наемников. Но большинство жителей пытались укрыться на узких извилистых улочках, чтобы спастись от незваных гостей. В условиях осады каждый думал лишь о собственном спасении – подобно тому как во время финансовых кризисов слепая вера в стабильность лишь усугубляет потери доверчивых. Чем больше защитников покидало стены, тем сильнее остальных охватывало желание последовать их примеру.
Сыграл свою роль и конструктивный недостаток планировки Фив: старая цитадель Кадмеи, встроенная в главную стену города. Во-первых, теперь это означало, что запертый внутри города македонский гарнизон оказался прямо над своими братьями по оружию. Во-вторых, проникнув сюда, солдаты Александра не просто входили в город, но оказывались в самом высоком его месте, в последнем редуте Фив. По сравнению с более молодыми городами, такими как пелопоннесские крепости в Мантинее, Мессене и Мегаполисе (как это ни парадоксально, многие из них десятилетиями ранее были построены с помощью фиванских архитекторов), укрепления самих Фив были сильно переоценены.
По правде говоря, легендарная репутация внешней городской окружной стены происходила в первую очередь от вида огромных каменных блоков более ранних микенских укреплений. В Темные века Греции и ее архаический период считалось, что они возведены чудовищными циклопами. Жители Фив каждый день взирали на эти огромные сооружения, оставшиеся от их предков. Но они также гордились масштабным обновлением своих укреплений, проведенным в середине V века, когда был завершен второй круг стен вокруг старого города.
Тем не менее в Фивах не было ничего сопоставимого с Длинными стенами Афин или укреплениями, окружавшими мегаполисы Юга и вдохновленными именно Фивами. Но сами фиванские стены, способные выдержать осады более раннего времени, стены, эффективные в эпоху городов-государств с их прежним военным искусством, оказались слабой защитой от опытных македонских бойцов. [9]
На протяжении предыдущего столетия классическая фиванская оборонная стратегия оставалась активной – как экспедиционной, так и упреждающей. Фиванцы предпочитали использовать свою превосходную кавалерию и знаменитую пехоту для ведения боя на большом расстоянии от своего города – по возможности ближе к границам или даже на территории врага. Поля Беотии – политического и географического региона, где располагалась столица Фив, – внушали страх всем грекам как «танцевальная площадка войны». Это сравнение было заслуженным: в Беотии состоялись десятки сражений, но их местом никогда не были стены самих Фив. Увы, теперь поле боя сократилось до нескольких акров вокруг города и внутри него самого. [10]
При отступлении отряды фиванских гоплитов перемешались, а вдобавок оказались на пути своих же собственных кавалерийских подразделений: часть фиванских всадников также бросилась в город, чтобы спасти свои семьи внутри стен. Войско потеряло управление и перемешалось, что сделало даже неорганизованное хаотичное сопротивление почти невозможным. Ситуация еще более ухудшилась, когда македонский гарнизон Кадмеи внезапно вырвался из внутреннего города и атаковал. В результате обреченные защитники оказались зажаты между молотом и наковальней, не в состоянии даже восстановить боевые порядки. Диодор специально отмечает, что фиванцы частично были задавлены собственной кавалерией и поражены своим оружием:
Между тем фиванские всадники, отступая, смешались с пехотой, устремившейся к городу. В смятении многие из конных, не разбирая пути, давили и убивали собственных соратников. Беспорядочное бегство превратилось в подлинное бедствие: узкие улочки и дренажные канавы стали ловушкой, где падающие воины гибли под ударами своего же оружия. В сей роковой час македонский гарнизон, вырвавшийся из Кадмеи, обрушился на расстроенные ряды фиванцев и учинил жестокую резню, пользуясь их совершенным замешательством. [11]
Убийства не прекращались до наступления ночи. Спокойствие наступило только с фактическим уничтожением фиванской армии и прекращением всякого сопротивления со стороны мирных жителей, многие из которых были просто убиты в своих домах. Александр намеренно присоединил к своему войску жителей окрестных беотийских городов – более мелких Платей, Феспии и Орхомена, печально известных своей ненавистью к фиванцам. После поражения Фив они были щедро вознаграждены: им дали право решающего голоса в судьбе пленников, разрешили заняться присвоением и дележом фиванских сельскохозяйственных угодий и продажей обращенных в рабство фиванцев.
Большинство из этих городов-сателлитов были историческими врагами Фив. Тем не менее они входили в состав возглавляемой Фивами Беотийской конфедерации и ранее охотно присоединялись к войнам Эпаминонда, великого освободителя мессенских илотов. Теперь македонцы считали их идеальной заменой мятежным фиванцам: как только прежняя власть Фив в Беотии пала, их прежние младшие союзники сыграли роль вишистских коллаборационистов. Именно действия банд этих отступников-беотийцев послужили катализатором растущего ожесточения, порожденного высокими потерями македонцев и их яростью из-за того, что фиванцы осмелились выступить против молодого царя. В итоге охватившее победителей безумие решило судьбу оказавшихся в ловушке уцелевших жителей Фив. [12]
Почти через пятьсот лет после разрушения Фив римский историк Арриан дал яркое описание последних часов великого города. Как и более ранний Диодор, он опирался на утерянные труды греческих историков, современников событий – в первую очередь на Птолемея, македонского полководца и близкого товарища Александра. Таким образом, рассказ Арриана, судя по всему, достаточно точен, хотя и дает взгляд почти исключительно с македонской стороны.
Он подтверждает, что местные беотийцы даже в большей степени, чем македонцы, были ответственны за основную часть кровопролития, произошедшего после того, как организованное фиванское сопротивление прекратилось. Войско, осаждавшее какой-либо знаковый город, очень часто включало в качестве союзников местных и коренных жителей – вспомним балканских христиан среди захватчиков Мехмеда II, нумидийскую кавалерию, которая помогала Сципиону Эмилиану против Карфагена или тласкальцев, которые присоединились к конкистадорам Кортеса. Такой оппортунизм обычно был вызван обидами за притеснения со стороны города-гегемона. Кроме того, перебежчики лучше ориентировались в богатом столичном городе и знали, где лучше грабить в случае его падения. Осознав, что македонцы, скорее всего, преуспеют, бывшие данники Фив постарались оказаться на стороне победителей.
Судя по всему, одной из причин, по которой Александр предпочел передать грязную работу по окончательной зачистке города местным грекам-сателлитам, было стремление возложить ответственность за резню греков на других греков. Эта видимость внутригреческой гражданской войны могла бы уменьшить его собственную вину и помочь македонской пропаганде. Выходило, что именно греки, а не македонцы жестоко расправились с мятежным городом:
Тут ярость вспыхнула не столько в македонянах, сколько в фокейцах, платейцах и прочих беотийцах. Слепою жестокостью истребляли они фиванцев, и без того не оказывавших сопротивления. Врывались в дома, где несчастные искали спасения, не щадя ни молящих о пощаде в храмах, ни жен, ни детей – никого. [13]
Эта ненависть выглядела отвратительно. Но она была в некоторой степени понятна. В прошлом фиванцы разрушили соседние беотийские города Орхомен, Платеи и Феспии. Потомки тех, кто выжил в этих «мини-холокостах», теперь отплатили потомкам виновных тем же. Диодор приводит еще более ужасающую финальную сцену, чем Арриан, поскольку он фокусируется на недвусмысленной роли македонцев в резне мирных жителей:
Македонские воины, потрясая оружием, теснили смятенных горожан, предавая мечу всякого встречного без разбора. Фиванцы же, в гордом ослеплении, еще цеплялись за призрачную надежду одержать верх. Пренебрегая жизнью, они бросались на вражеские копья, встречая смерть с открытым лицом. Когда же пали городские стены, не нашлось среди них ни одного, кто бы униженно молил о пощаде – никто не простерся в прахе, не обнимал колен победителей. Но это стоическое умирание не тронуло сердец врагов, и даже долгая резня не утолила их лютой жажды возмездия. Сам город был предан полному разорению: малых детей – и отроков, и девиц – в оковах уводили в неволю, и плач их, взывающий к мертвым матерям, разносился по опустошенным улицам. [14]
Фиванцы были полностью разгромлены в течение одного дня. Их армия была уничтожена и исчезла из истории. Но что победители должны были делать с более чем тридцатью тысячами жителей, все еще остававшихся в живых, – пленниками, запертыми в своем жилище, теперь ставшем их собственной тюрьмой?
Все ли фиванцы должны были считаться коллективно виновными в восстании? С одной стороны, у фиванцев было общепризнанное правительство, и тот самый «глас народа» проголосовал на своей экклесии (политической ассамблее) за восстание. С другой стороны, существовали ли какие-либо выжившие фиванские коллаборационисты или сторонники провозглашенной Александром новой панэллинской антиперсидской коалиции, которые заслуживали бы освобождения от наказания? [15]
Теперь такие подробности были уже неактуальны – как минимум в общем уличном буйстве. Вместо этого после прекращения боевых действий последовали массовые казни большинства уцелевших взрослых мужчин – по крайней мере, большинства тех, кто не был жрецом или не мог доказать свою связь с македонцами. Это убийство сопровождалось порабощением тысяч фиванских женщин, детей и стариков. Последовало полное уничтожение физической инфраструктуры города. Другими словами, прекратили свое существование как материальные Фивы, так и сама идея проживающих там фиванцев, этнически, лингвистически и политически отличных от прочих греков.
Как древние исторические свидетельства, так и народные предания сходятся в том, что разрушение было полным, абсолютным и безжалостным. Плутарх дает дополнительную информацию о том, что битва прекратилась лишь тогда, когда последние уцелевшие бойцы фиванской армии дали финальный отчаянный бой в городе, зажатые между атакующими солдатами Александра и македонским гарнизоном, вырвавшимся из Кадмеи. Он сухо подтверждает, что попавшие в ловушку и окруженные бойцы были убиты на месте, после чего город был «захвачен, разграблен и разрушен». Хотя Плутарх писал спустя 450 лет после разрушения Фив, он жил в Херонее, всего в тридцати милях от места их расположения, то есть, вероятно, был знаком с ныне утраченными местными беотийскими преданиями, памятниками и описаниями. [16]
Точных данных о населении Фив в 335 году до н. э. у нас нет. Ученые подсчитали, что общее число жителей внутри городских стен и рядом с ними составляло от 30 до 50 тысяч человек. Это был один из крупнейших греческих городских центров, но все же его население по численности намного уступало трем крупнейшим древнегреческим городам: Афинам (около 150 тысяч), Коринфу (около 90 тысяч) и Сиракузам (около 100 тысяч). Таким образом, уничтожение Фив как политического и демографического центра представляло меньшую сложность по сравнению с более населенными греческими полисами, тем более что Фивы не имели выхода к морю и не могли ни снабжаться по воде, ни отправить выживших на кораблях в безопасное место.
Как правило, древние хроники не отделяют гибель солдат от гибели мирных жителей. Помимо сложности определения точного числа уцелевших, также почти невозможно точно подсчитать, сколько фиванцев погибло в битве как таковой. При этом у нас есть достаточно много правдоподобных и логически последовательных оценок числа убитых и проданных в рабство, чтобы оценить масштабы резни, устроенной Александром. [17]
Плутарх недвусмысленно сообщает, что имелось лишь несколько немногочисленных категорий жителей, которые избежали казни или рабства: «Выделив жрецов и всех тех, кто был в дружеских отношениях с македонянами, и тех, кто был потомками Пиндара [легендарного лирического поэта начала V века до н. э.][11], а также тех, кто голосовал против восстания, он продал всех остальных в рабство – и их было более двадцати тысяч, в то время как убитых было более шести тысяч». Он также рассказывает интересную историю об одной из немногих выживших – аристократке Тимоклее, вдове Феагена, который героически погиб во главе Священного отряда в Херонее. Когда фракийские солдаты Александра вошли в город, группа фракийцев ворвалась в дом Тимоклеи и разграбила его. Их предводитель изнасиловал хозяйку, а затем пригрозил убить ее, если она не принесет больше золота и серебра. Тимоклея указала на домашний колодец – привычное место укрытия ценной утвари во время войны. Когда командир заглянул туда, она столкнула его в яму, а затем забросала камнями пойманного в ловушку фракийца, пока он не умер.
Головорезы убитого командира связали Тимоклею и приволокли ее на суд к Александру. Судя по всему, тот был куда более впечатлен рассказом о ее мужестве и находчивости, нежели обеспокоен убийством одного из своих варварских союзников, бывших для него не более чем расходным материалом. Поэтому Александр отпустил Тимоклею и ее детей в безопасное место. Мы не имеем ни малейшего представления о том, сколько еще представителей фиванской элиты получили амнистию от непредсказуемого македонского царя. [18]
Плутарх, по-видимому, включил эту историю в свой рассказ не столько, чтобы подчеркнуть переменчивое великодушие Александра, сколько для того, чтобы проиллюстрировать уровень гражданского сопротивления победителям, а также намекнуть, что варварская резня осуществлялась наемными вспомогательными войсками, а не регулярной македонской армией, действовавшей по прямому приказу самого Александра. В этой связи мы также должны вспомнить более раннюю историю Фукидида об отвратительной резне школьников в соседнем фиванском городе Микалесс во время Пелопоннесской войны. Это древнее военное преступление также приписывалось бродячим фракийским бандам – очевидный стереотип военного варварства в греческой исторической литературе. Фукидид пишет, что в 413 году до н. э. фракийские наемники перебили всех мужчин, женщин и детей в маленьком городе Микалесс, фактически уничтожив его.[12] Таким образом, роль фракийцев в разрушении Фив дала возможность беотийцу Плутарху подчеркнуть печальную судьбу беотийских городов, подвергшихся нашествию северного, неэллинского, варварства. [19]
Если не учитывать небольшую разницу в количестве проданных в рабство, статистика боевых потерь у Плутарха демонстрирует существенное сходство с соответствующими показателями у Арриана. Оба, вероятно, опирались на те же утерянные источники. Плутарх соглашается с Аррианом, что «более 500 македонян были убиты», а также подтверждает информацию о 6 тысячах погибших фиванцев. Но, как и Диодор, Арриан сообщает бо́льшую (и более вероятную) цифру проданных в рабство – около 30 тысяч.
Диодор добавляет заключительную сводку о погибших македонцах и разграбленном фиванском имуществе: «Более 6 тысяч фиванцев погибло, более 30 тысяч было захвачено в плен, а количество разграбленного имущества было невероятным. Царь похоронил павших македонян числом более пятисот». [20]
Общее число погибших в Фивах достаточно ясно. Судя по всему, около шести тысяч фиванцев были убиты в бою, а также во время грабежей и казней, которые последовали за поражением. Это была ужасная цифра по меркам обычных войн между греческими городами-государствами, которые, как мы знаем, в среднем были меньше римских или более поздних европейских городов. Указанное число могло включать всех погибших пехотинцев и всадников, всех мирных жителей, которые сопротивлялись и были убиты на улицах, а также выживших взрослых жителей мужского пола, казненных впоследствии.
У нас есть некоторый современный событиям контекст для этой цифры: число погибших в решающем сражении при Херонее тремя годами ранее, когда Филипп II окончательно уничтожил организованное греческое сопротивление. Там общее число бойцов было намного больше – порядка 60–70 тысяч. Тем не менее потерпевшие поражение афиняне и фиванцы потеряли в общей сложности всего около 2 тысяч, македонцы – менее 150 человек. Даже в жестокой битве при Левктрах (371 г. до н. э.) проигравшие спартанцы потеряли всего тысячу убитыми. Поэтому мы можем предположить, что сама по себе цифра в 6 тысяч погибших фиванцев была чрезвычайной для классического греческого города-государства – она отражает полное уничтожение фиванской армии и последовавшую за этим резню внутри города. [21]
Арриан указывает, что Александр продал «в рабство женщин и детей, а также столько мужчин, сколько выжило». Как и Плутарх, он отмечает исключения: жизнь и свобода были сохранены «тем, кто являлся жрецами или жрицами или кто был друзьями либо гостями Филиппа или Александра, или же проксенами[13] македонян. Рассказывают, что Александр сохранил дом и потомков поэта Пиндара из уважения к его памяти». [22]
Общее число освобожденных священнослужителей, промакедонских деятелей, потомков Пиндара и различных фиванских перебежчиков не могло быть большим. Если сложить число погибших с тридцатью тысячами проданных в рабство, то можно заключить, что большинство фиванцев, остававшихся в городе к моменту прихода Александра, в течение следующих суток либо пали жертвами резни, либо были обращены в невольников. Сообщают, что работорговцы, продавшие с аукциона 30 тысяч фиванских мужчин, женщин и детей, получили прибыль около 440 талантов, или 2 640 000 драхм. Это составляет около 88 драхм за человека – необычная цифра для такой быстрой и массовой продажи.
В целом цена раба в разное время сильно различалась по всему греческому миру. Она определялась балансом спроса и предложения, в том числе во время войны, когда тысячи жителей того или иного побежденного города одновременно выставлялись на рынок победителями, которые испытывали нехватку денег. Наш основной источник информации о продаже рабов из Фив – историк Юстин, живший много позднее. Он утверждал, что одной из причин завышения цен была массовая ненависть к фиванцам со стороны других беотийцев – как будто зрелище их мучений в качестве рабов было дополнительным стимулом для покупателей. Но подобная враждебность, видимо, в самом деле помогла поднять цену на уцелевших жителей Фив.
Одна драхма в день считалась обычной дневной платой за труд в Древней Греции, поэтому цена за раба была примерно эквивалентна 88 дням труда или четверти годового заработка среднего грека. Среди проданных победителями в рабство также были и фиванские рабы: они просто сменили хозяев и теперь продавались вместе со своими прежними владельцами. [23]
В следующие годы после падения Фив новых рабов клеймили, а затем, вероятно, либо они были перепроданы по более высокой цене, либо работали до смерти, учитывая большое количество пожилых людей среди них. Их судьба в некоторой степени зависела от их умений, возраста и пола. Образованные пожилые фиванцы могли стать домашними рабами, выполняя всё – от бытовых поручений до репетиторства. Молодых женщин могли продать в качестве проституток, наложниц, домработниц, ткачих или кормилиц. Однако большинство молодых мужчин, скорее всего, оказались в более тяжелых условиях: их покупали в качестве сельскохозяйственных рабочих или перепродавали для работы на афинских серебряных рудниках.
У нас нет информации о том, сколько городских жителей, таких как Тимоклей, были освобождены Александром, бежали из города до прибытия Александра или смогли выскользнуть оттуда в краткий период между появлением Александра и разрушением города. Некоторые источники говорят о «фиванских изгнанниках», но мы не знаем, когда они бежали из города: до восстания против Александра или после него.
Но даже после победы, массовых гекатомб[14] и продажи жителей в рабство гнев Александра не угас. Он издал по всем греческим городам-государствам указ о том, что все фиванские беженцы, появившиеся в них, должны быть изгнаны и обречены либо скитаться без гражданства, либо быть переданы македонянам. Этот указ отчасти был реакцией на одну из причин восстания: как сообщалось, к нему подстрекали агитаторы из числа ранее изгнанных жителей Фив – они вернулись в город, чтобы разжечь мятеж против македонской власти.
После разрушения города афинские агитаторы быстро перешли к поддержке Александра, одновременно выступая от имени тех немногих жителей Фив, которые во время восстания оказались за пределами своего города. В итоге часть фиванцев, по-видимому, все же получила убежище в отдельных греческих полисах. Возможно, кто-то из них даже принял участие в более поздних попытках македонян построить меньшие новые Фивы на руинах старых. [24]
Так какова же оказалась судьба самого города и его инфраструктуры? В конце концов, различные источники по-разному говорят о финале, о Фивах, «стертых с лица земли» (kataskapsai es edaphos) – за исключением дома поэта Пиндара, а также священных территорий и храмов. Но насколько эти яркие описания преувеличены и похожи на древние рассказы о том, как сельскохозяйственные угодья были уничтожены, вырублены или сожжены врагами, хотя на самом деле подобные нашествия редко приводили к полному опустошению?











